Четвертое письмо

Колокол в пещере Апокалипсиса. Остров Патмос, Греция. Фото Victoria Gopka.
Бесценный о Господе Андрей!
Пишу с тем же чувством, с каким пришла к тебе в первый вечер. Зная, что недолго мне осталось тебе писать. И что ты, возможно, этих писем и не увидишь.
Старица, услышав про письма, видеть их не захотела. Писание оставила на мою волю.
– У нас есть свой Батюшка.
Батюшка действительно есть, отец Игнатий. Ты его назвал «артистичным». Да, он никогда не унывает. После того, как ты его увидел, помню, был длинный монолог о Достоевском. О старце Зосиме и Алеше Карамазове. Ты не мог тогда понять, что для человека, настроенного увидеть духовное в светском (а мы все были такими), образ святого и не может быть убедительным. Ведь старец Зосима – персонаж. Это та прекрасная грань, за которой начинаются мемуары, и Достоевский прямо указывает на мемуары. Целой книгой: «Русский инок». Прототип Старца жил в Боровске, и тоже звался Зосимой (Верховским). Фамилия Кати – Верховцева. Время, правда, смещено.
И все же я благодарна тебе за все те дни, часы и минуты, которые мы провели вместе. Это была настоящая, в светском понятии, жизнь. Ни о чем теперь не жалею, кроме того, что ругала бабку и мать. Нет ни тени, ни полутени сомнения, что с тобой мне улыбнулось счастье, насколько счастье возможно было в той, прежней моей судьбе.
Да, неопытна, наивна. Но теперь мне кажется, что это было не так уж плохо. Наивность несколько оживила в тебе чувство ответственности, ты даже пытался заботиться обо мне. Играл в заботливость. От тебя постоянно исходила какая-то центробежная сила, и потому мне срочно пришлось взрослеть. Как мальчику на войне. Ты не хотел верить, что все так и есть, как есть, огорчался и возмущался. А я невпопад несколько раз напомнила тебе, что отношения наши – временные. Кажется, ход событий был угадан верно, но догадки недорого стоят. Ты верно сказал: ты сама все решила. Ты взрослая. Уже девятнадцать лет. Ты рассказывал про какую-то свою знакомую из Одессы, которая «прошла панель и иглу» в двадцать лет, а на двадцать первом году жизни вдруг стала телеведущей, благодаря внешним данным. Ты вообще любил рассказывать про стильных женщин, думая, что это меня разжигает. Ты очень ошибся. Подумала вот что. У него большие запросы. Пойду-ка прочь, чтобы не срамиться. Было смешно, что такой милый олух, как ты, может претендовать на телеведущую. Разве только телеведущей будет скучно в кругу братков и банкиров.
И все же я тебе благодарна. Не за удовольствия, а за то, что ты просто некоторое время был рядом и помогал. Просто быть рядом – большая помощь. В тебе много хорошего: ты проницателен, добр, почти заботлив. Казалось, очень недолгое время, что мы как-то сроднились. Что между нами установилась тонкая и прочная связь от души к душе. Потом поняла, что связь – тоже одна из иллюзий. Страсть скорее разъединяет, чем соединяет людей. Но мы сжились. За полгода образовалось нечто вроде привычки. У меня было еще немного здоровья, и тогда я решилась совсем оставить мир. Ты оказался предвестием рая, но и адским пламенем.

И.И. Бельский. Архиерей во время служения литургии. 1770.
Батюшка действительно есть, отец Игнатий. Ты его назвал «артистичным». Да, он никогда не унывает
Самые болезненные упреки твои не лишены были доли (именно доли!) справедливости. Мол, ты терпишь меня только из тщеславия. Да, но только отчасти. Ведь я любила тебя, и ты это знаешь. То была сильная и светлая любовь, в рамках тех условий. Хочется считать, что любовь – всегда Божья. Теперь почти забыла о том, как прошли те полгода. Хорошо помню мелочи – как ссорились, почему ссорились. Как мирились, что тебе так и не сказала. А главного почти не помню. Что ты для меня, что я для тебя. Согласись, что ведь – не кто, а что. Твои воспоминания – всегда загадка. Ты ждал серебряного молота – по голове, какой-то чудной и сказочной встречи. Конечно, я чудом не казалась. Мне же казалось, что чудо – внутри нас.
После первого дня работы в книгохранилище сильно простудилась и слегла. Температура держалась около тридцати девяти, дня три. Боялась, что просто растаю. Текло отовсюду, даже из-под ногтей. Плакала, жалела себя. Однажды служащий священник, протоиерей, отец Владимир, приходил причащать Святых Тайн. Несколько дней потом лежала в постели, холодная и мокрая. К воскресной литургии меня одевала мать Анастасия, обвертывала одеялом, и так вела в храм. Рубашки мои каждый день стирать возможности не было, и мать Анастасия сушила их на горячих трубах в кухне.
Пока лежала, между сном и Псалтирью (мне такое послушание дали), вспоминала все замечательное, что в этой жизни приключалось. Неудивительно, что вспоминала.
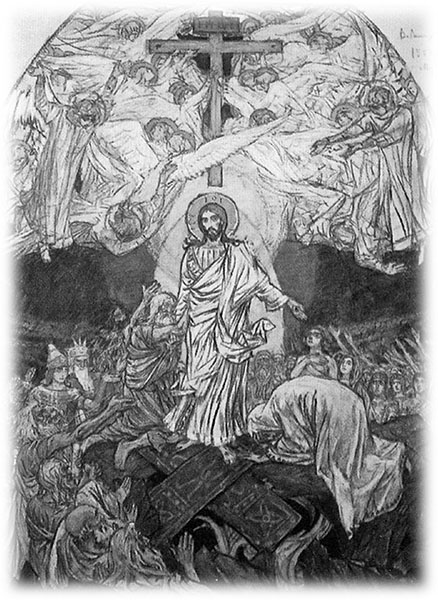
В.М. Васнецов. Сошествие во ад. 1896–1904 гг.
Ты оказался предвестием рая, но и адским пламенем…
Одно из самых ярких воспоминаний оказалось вот какое. То было в самом начале моего пути, после нашего с тобой объяснения. Ты утешал меня, гладил по волосам, а у меня лицо было уже уставшее, как из бумаги. Помню, говорил какие-то глупости. Мол, мы взрослые, надо понять, что акробатика опасна для здоровья. Акробатикой назывался наш морганатический союз. Не возражала. Только хотелось, чтоб ты немного мне помогал. Помнишь, как лепетала:
– Ну ты хоть кота моего покорми…
Барс лежал в ногах, мне тепло было. Черный кот, а глаза – как светящиеся оливки. Он переводил глаза с меня на тебя, будто что понимал. Бархатное животное.
После взяла отгул и поехала к Старцу. Ты удивлялся, где все выходные была.
Старец жил недалеко от Загорска, на полпути к Гефсиманскому скиту. Места эти, благодаря маме, знала давно и хорошо. Когда появился ты, я, конечно, причащаться не смела, да и в храм ходила редко. Однако Загорск любила. Конечно, теперь не Загорск, а Сергиев Посад. Но для меня все равно – Загорск. Там – как теперь в обители. Дома.
Старец жил в небольшом доме своего духовного чада, местного библиотекаря. Дом был дощатый, выкрашен голубой красочкой. Окошки, потому что дом врос в землю, смотрели на улицу как-то снизу вверх. Участок возле дома был небольшой и почти весь занят фруктовым садом. Двадцать яблонь. Яблони плодоносили чрезвычайно. Осенью от падалицы по участку становилось трудно ходить. Посетители Старца порой брали благословение на уборку яблок. Матушки варили из падалицы яблочный сок и пекли с ней пироги. Муку привозили с собою. Привезла и я несколько бумажных пакетов. Пока добралась, заболели руки. Слишком тяжелыми оказались пакеты с мукой.
Матушки, в белесых юбках, встретили строго. Одна прямо сказала:
– У кого блудные грехи, будет болеть.
– Храни вас Господь, – говорю. – Старец принимает?
Старец принимал. Сидел в сенцах за столом. Стол – одно название. Краска, когда-то коричневая, слезла. Поверх столешницы, в трещинах – потемневшая клеенка. Над окном, над дверью и в красном угле – образки.
– Подорожная! – сказал Старец. – Заходи.

Старец жил недалеко от Загорска, на полпути к Гефсиманскому скиту
Старец был невысок ростом, одет – просто как не одет. Ряска, безрукавка – все какое-то редкое, летающее и почти прозрачное. Обувью Старцу служили войлочные тапки. Лицо было почти все скрыто всклокоченной растительностью. Под низкой рыже-лиловой скуфеечкой виднелись ясные, кажется, удлиненные глазки. Взгляд и манеры Старца были почти юными, даже чуть шаловливыми. Однако тело было уже древним. Двигался Старец тяжело, с усилием. В Лавре его называли юродивым. Называть благодатным или же обманщиком не рисковали. Старец был отважным: народ принимал отнюдь не весь, рисковал вызвать недовольство. Когда-то в тюрьме побывал, потом воевал, но веру никогда не забывал. Так сам Старец говорил о себе. Матушки, келейницы его, называли Старца святым, и так же велели называть немногочисленным гостьям, приезжавшим «на послушание». Довольно долго вспоминала, как к нему обратиться.
– Отче, благословите.
– То-то, – сказал Старец. – Ну ты садись.
Сесть некуда было. Стул был один – под Старцем.
– Храни Господь, постою.
– Тогда чай пить будем.
Старец как-то весело блеснул глазами и крикнул матушкам:
– Напоите горяченьким гостью, матушки, Христа ради.

Пьетро Ротари. Кающаяся девочка. XVIII в.
Матушки принесли темную, как от подсолнечного масла, чашку с кипятком. Старец благословил, и сам мне чашку подал. Выпила.
– Теперь падалицу собирать пойдешь. Как матушки скажут.
И добавил как-то вскользь:
– В послушании-то лучше.
По саду ходили две женщины, с тихими и счастливыми лицами. Одна собирала совсем еще целые яблоки, а другая подметала дорожки связанной из свежих прутьев метлой.
– А ты гнилушки собирай. Ручками. Вилка-то, вон, у Анны.
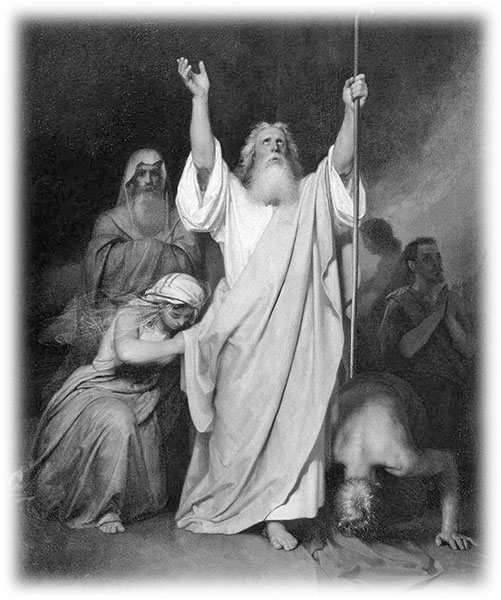
И.Н. Крамской. Молитва Моисея после перехода израильтян через Чермное море. 1861
Вилка, правда, виднелась в руках у женщины, собиравшей целые яблоки. Матушка, давшая мне послушание, принесла мешочек.
– Ты мешочек-то на помойку вынеси, когда наполнится. И так – пока сможешь.
Яблоки собирала до темноты. Пыталась молиться. Молилась почти «по-католически», со страстью. С мыслями, как бы Андрей крестился, и обвенчались бы. Крепко во мне засела эта мысль. Не хотелось с ней расставаться. От запаха забродивших яблок и от наклонов будто захмелела. Как-то успокоилась, повеселела и осмелела. Даже подумала, что Старцу-то нечего сказать мне было. Только подумала – одна из матушек бежит, как ангел в застиранном платье. Глаза так и сияют, слово на губах инеем застыло.
– К Батюшке иди!
Старец все так же сидел в сенцах. На столе перед ним горела парафиновая свеча, укрепленная в разбитой чашке. Рука его перебирала четки, лик был спокоен и бледен.
– А! Яблочная пришла.
– Отче, благословите.
На сей раз встала на колени. Поясница болела сильно. Вдруг – разрыдалась. Как будто град пошел, ливень, потоп целый. Так я еще не плакала. Страшно!
Старец положил руку мне на голову, и слегка погладил.
– Да вот, страшно. И чудно.
Затем наклонился к самому моему уху и спросил:
– А как забывать-то будем? Сразу или по частям?
– По частям, – говорю, – сами знаете, что сразу не выйдет.
– И то, – вздохнул Старец. – Хоть бы так. Да ну его, твоего этого. Не больно-то…
– Угу, – отвечаю. – Я только нового обмана боюсь.
– Я сам боюсь, – и по голове меня снова гладит, – Только Христос не боялся. А мы Христовы. Мы маленькие, у нас и крестик маленький, девичий. Это хорошо.
Снова принесли чашку с кипятком.
– На вот те яблочко.
И дает мне падалицу. Один бок – золотой, другой – мятый, коричневый.
– Молиться-то умеешь?
– Это как, – спрашиваю, – по-вашему, что ли, по-монашески?
Старец, не вставая со стула, меня по спине – четками. Ударил несколько раз.
– Нет, – говорит, – по-нашему, по-православному. Иисусовой молитвой.
– Чуть-чуть, от мамы знаю.
– И то. Ну ступай.
Поднял меня с колен, потряс за плечи.
– Не скорби попусту.
На электричку вовремя успела.
Вот так, весь день, между Псалтирью и сном, вспоминала. Мать Анастасия из трапезной горячий овощной взвар приносила и хлеб. В воскресенье принесла молока и творогу. Лекарств поблизости не было. То есть, были, в аптечке. Но их очень долго искали. Потом какая-то матушка сказала, что лекарства вроде как искушение. Я и отказалась. Так что лечилась прополисом и кипятком. Бог миловал, теперь жара нет.
С любовью о Господе.
Послушница Вера.
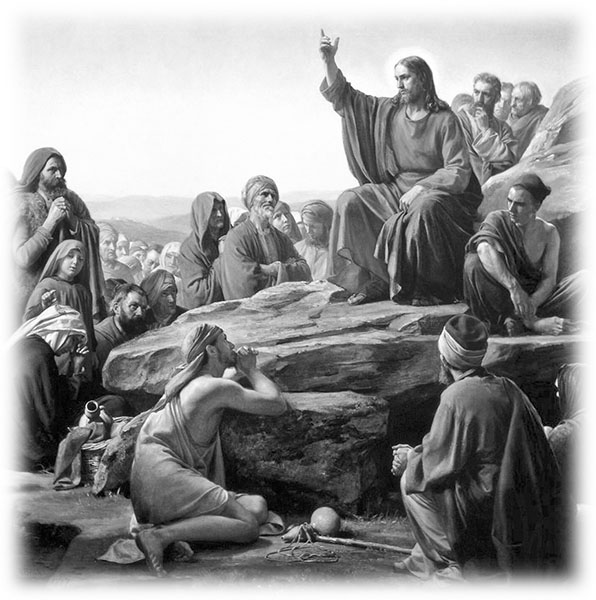
Карл Генрих Блох. Нагорная проповедь. 1890.
Я сам боюсь, – и по голове меня снова гладит, – Только Христос не боялся. А мы Христовы
Приписка. Мне кажется, можно написать: грешная и недостойная послушница. Однако пока для меня в таком самоопределении кроется много унылого тщеславия. Я ведь еще не вполне понимаю, в чем грешна и как именно грешна. Понятие о грехе гораздо страшнее, тоньше и глубже, чем кажется на первый взгляд. Насколько ясна Божия доброта, настолько неясен и коварен грех. Жизнь и смерть, любовь и проклятие.
Паки, с любовью о Господе моем Христе.
Назад: Третье письмо
Дальше: Пятое письмо

