Книга: Приходские повести: рассказы о духовной жизни
Назад: Послушница Вера. Повесть в письмах
Дальше: Второе письмо
Первое письмо

А.П. Боголюбов. Вид на Смольный монастырь с Большой Охты. Фрагмент картины. 1853.
Дорогой Андрей!
Сегодня совершилось, может быть, самое большое и важное, может быть – и самое прекрасное событие моей жизни, по Причащении Святых Тайн Христовых. Несмотря на мои окаянства, меня благословили носить одежду послушницы.
Весьма рада: Богу – Слава.
День был пасмурный, так что хорос в соборном храме мне показался солнцем.
За одежду отдала сто долларов. Слава Богу, было, что продать в Москве. Продала все золото, которое родители мои подарили мне на шестнадцатилетие и на восемнадцатилетие. Хватило, Бог миловал. Келья у меня будет еще ох как нескоро. Понимаю, а все равно думаю: какая же она будет, моя келья? Денег на нее мне уж никто не даст. Это ужасно: когда чужие тебя содержат. Поверь, это ужасно.
Жила на квартире у пожилой церковницы, Елены Петровны. Там же еще человек пять, все как я. Квартира – Бог миловал. Утром и ночью ходили на улицу: оправиться и умыться. Конечно, теперь мне надо стараться забывать о ванне с розовой пеной. Но сразу позабыть не получается. О ванне думаю очень часто.

Августа Тараканова (инокиня Досифея). Портрет. 1912.
Жила на квартире у пожилой церковницы, Елены Петровны. Там же еще человек пять, все как я
Помнишь, ты говорил о бритье. Мол, человек до сего употреблял только плохо пропеченный хлеб, а ему вдруг предложили пшеничное печенье с мармеладом. Так и бритье. Наверно. Однако не знаю. Я тоже брилась, ты помнишь. Так что теперь буду врастать в землю. Хочу стать мякиной и кострикой, если известно тебе, что эти слова значат. Недавно их вспомнила. Пока весело, потом наверняка бояться буду.
Спали впятером, в горнице, на полу, на ноябрьских сквозняках. Две из пяти ночевавших девушек – душевнобольные. Одна икала всю ночь и крутила четками, прямо над моей головою. Сначала боялась и плакала тихо. Бог миловал, она не услышала. Под утро я заснула, так чудно, как в детстве не спала. Вторая девушка, Маша, обмочилась, не добежала до нужника. Пришлось ее мыть и стирать ее юбку. Но мне радостно и чудесно. Не знаю, поймешь ли, отчего именно радостно и чудесно. Теперь будто жизнь совсем другая.
Теперь знаю, что благословляются предыдущие скорби. И ты тоже, как прошлые. Да ведь все, что со мною, и не скорби – пока. Слезы, настоящие слезы, горькие, придут потом. Еще живу на домашнем запасе, розовой пастилой мечтаний.
Третья из ночевавших – монахиня, лет пятидесяти. Две другие – тоже монахини, помоложе. У старшей привычка тыкать нас пальцем в ребра. Тыкает больно, чтоб грехи помнили. Мы с одной из монахинь, Фотиной, грели старшей воду для умывания. С безумной Машей она обращается как со скотинкой. Но и такую монахиню любит Бог.
Хочу верить, что Господь мой – больше любовь, чем воздаяние. Хотя тут противоречие. Воздаяние всегда для человека страшно, а любовь – еще страшнее. Однажды ты читал мне Рильке, по-немецки, и сам переводил. Из Первой Дуинской Элегии. Настоящие элегии! Там были строки об Ангелах и красоте. Если бы увидел – стало бы страшно. Так и с любовью Божией. Потому человек охотнее думает о Воздаятеле. Человек слаб и стыдлив.
Хочу верить, что и ты для меня – Дар Божий, несмотря на все, что между нами произошло. Пока храню в сумке кусочек картона: вырезала из пачки «Золотого Руна», той самой, в день нашего знакомства. Мне когда-то нравился легкий и золотистый запах. Фотографии твои все остались дома. Они ни к чему; молиться за тебя в церкви нельзя. Не хочу быть твоим земным Ангелом. Это все фантазии, и глупые притом. Я тебе даже не друг. И меня это утешает. Ведь я люблю тебя. Непраздно, что ли. Именно даром, это чудесно. Зачем ложь о какой-то дружбе?
Писать часто не смогу, да и потом нельзя будет. Теперь же позволяю себе эту слабость оттого, что чувствую, что пока есть время. Боюсь отрезать все и сразу, именно этого и боюсь, и чувство этого страха связано с любовью. С очень сильной, ранней и последней, моей к тебе любовью. Я прощаюсь с тобой, если ты еще не понял.
После того как надела рясу, переживала недолго то восхитительное чувство, какое было, когда впервые тебя увидела. Только теперь переживание было выше и полнее.
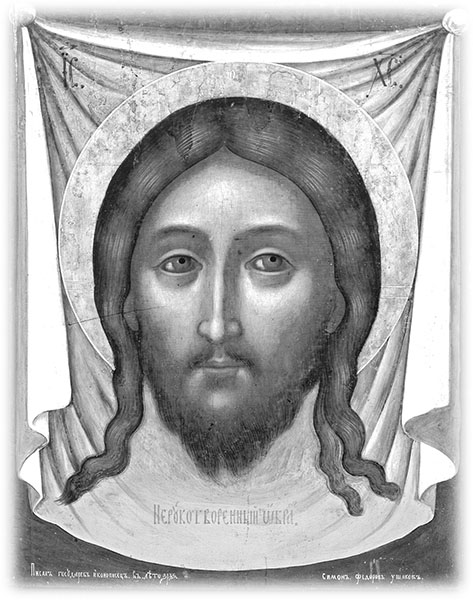
Спас Нерукотворный. Икона письма Симона Ушакова. 1658
Хочу верить, что Господь мой – больше любовь, чем воздаяние. Воздаяние всегда для человека страшно, а любовь – еще страшнее
Тогда был какой-то странный день рождения. Я волновалась, в белом платье, в оборках, на балконе, и курила «Золотое руно». Курить вышли с двоюродным братом (он диакон теперь в Москве). Он посмеивался: а как твоя мама? Мне уж все равно было, что она скажет. Тогда Илья занимался какой-то йогой. Мне говорил, что лучшая моя аура – золотисто-зеленая, что мне надо любить людей. Вдруг на балкон вошла мама, лоб – как бульдозер. Пачку вырвала, смяла, закричала: ишь тварь! Сверкнула, пообещала выдрать или выгнать. Смолчала, конечно. Пока она по обителям путешествовала, я жила как Бог даст. Мы с братом посмеялись и вышли за новой пачкой. Было мне удивительно спокойно, легко. Но и смертельно, мучительно. Как будто отрезали меня от чего-то в одно мгновение. Будто амеба, гидра какая-то. Ее режут, а она восстанавливается. Так и я. Радовалась, что восстановлюсь. Откуда знала, что восстановлюсь? Бог – весть. Теперь уж все забыть пора, все подробности. И ведь забуду. Религия первой любви – каково! Какая огромная химера!
На столе в комнате стояли какие-то салатики и одинокая бутылка шампанского. Ты знаешь, что я больше всего на свете не люблю оливье и шампанское. А также некоторого свойства мужские улыбки. У Маши, той, что обмочилась, такая же. Когда обмочилась. Конечно, я преувеличила. Но мне теперь так преувеличивать – нужно.
У меня пока земля горлом идет, прости. Когда я рясу надевала, все так перед глазами и кружилось, тот ноябрьский вечер. И ты. С цветами, грустный. Покинутый.
У тебя всегда было слишком мало свободного времени, и из-за этой мелочи тебя оставила Ольга. Она просто вышла замуж за другого. Это хорошо. Тогда ты думал, что я уже женщина, а я женщиной никогда не буду. Ты помнишь, что даже тело по-особенному сопротивлялось. Мы будто смеялись друг над другом, с самого начала.
Тогда ты показался мне каким-то светлым, утешительным, как родной дом, которого у меня и не было никогда. Я втихую посмеивалась над твоей грустью, играла тобой, себе же во вред. А ты поддавался, чтобы я думала, что могу тобою играть, я поняла, что поддавался, и мне было неуместно глупо, хотя и необидно. Да, то, что было между нами – только игра. Но я все же полюбила тебя, и это – милость Божия. Ты маленький, ты боишься любить. Но я была, поверь мне, счастлива и тем, что есть, и благодарила Бога за тебя.
Тогда наши чувства перемешались, и мы сразу же – не могли разобрать, кто и где. Брат мой Илья, кажется, тоже понял, что произошло, и тоже посмеивался. Мы оба одновременно переселились в какое-то странное прошлое-будущее. С удивлением обнаружила, что ты совсем другой, чем я, но что связаны мы прочно. Сладко и гнетуще. Не люблю такие чувства, но они сильно смиряют. Если смиряться, то свободной, среди таких же, как я. Если бы смиряться там, в миру, я была бы рабыней или проституткой. Ты возразишь, что рабыни и проститутки приносят пользу современному обществу, и я не стану отрицать. Теперь поумнела. Ничего не скажу в ответ. Ты ведь частенько говаривал мне нечто подобное; про акробатику, например. Тебе же надо одержать верх, а у меня, по-твоему, комплекс материнства. Да, потому что я все равно люблю тебя.
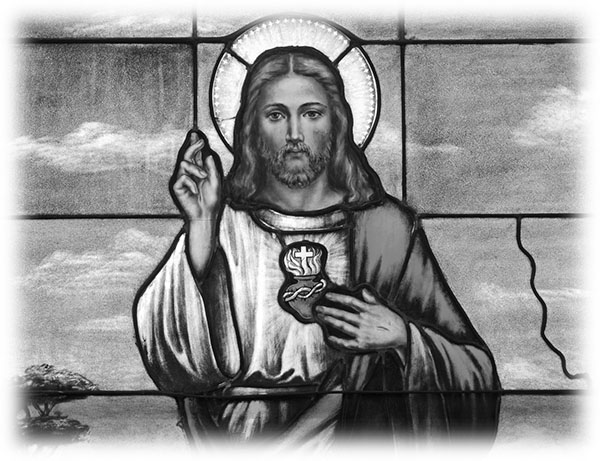
Витраж с изображением святого сердца Христова. Фото Nancy Bauer.
Да, то, что было между нами – только игра. Но я все же полюбила тебя, и это – милость Божия
Длинное вышло письмо, дикое. Когда я надевала рясу, я сказала себе, полусловами, своими собственными мыслями – сказала. Ты еще не знаешь, наверное, что бывают и не свои мысли, холодные и чужие. А возможно, и знаешь. Так вот, я сказала себе сердцем своим, почти собрав себя всю в комочек. Господи, вместо того, чтобы ходить босиком по углям, дай мне с любовью и молча – мыть нужники.
Когда говорила, была умная. Потом, наверно, сильно поглупею. И точно: дома сильно раздражилась на Машу. Она снова обделалась, и мне пришлось помогать ей мыть платье. В холодной воде, на огородцах. Мыла со слезами, чуть Машу не проклиная, и вспоминая с огорчением свою маму и бабушку. Маша все целовала меня в плечико и говорила, как умалишенные говорят. Она хотела сказать: птичка! А вышло что-то ужасное.
– Пи-тичкя!
Так Маша меня утешала. Конечно, я запачкала и свое платье, пришлось его чистить. Спала во влажной от пота рубашке. Теперь страшно потею, именно страшно. Дикими потоками. Засыпая, подумала: зачем ввязалась, надолго ли меня хватит. Потом вдруг поняла, что ни мама, ни бабушка назад не примут. Испугалась и уснула мгновенно.
Молюсь теперь много, старательно, потому что это моя основная работа. Перед утренним и вечерним правилом нападает будто наваждение: появляется сразу же много дел, только бы не молиться. Страдаю, но молитвослов открываю. А потом Бог милует, мне становится как будто легче. Даже не на душе, а так… по-настоящему легче.
Заканчиваю письмо. Я тебе, Андрей, еще напишу. Можешь на письма мои не отвечать, и даже их не распечатывать, а тут же выбрасывать. Но мне кажется, ты не выбросишь. Ты ведь не просто пустой стручок. Ты даже добрый человек. У меня, кроме тебя, ведь какое-то время действительно никого не было. Ни мамы, ни бабушки.
Люблю. Прости. Послушница Вера.
Назад: Послушница Вера. Повесть в письмах
Дальше: Второе письмо

