Книга: Рождение шестого океана
Назад: Глава двенадцатая РЕШАЮЩИЙ ОПЫТ
Дальше: Часть вторая РОЖДЕНИЕ ДЕЛА
Глава тринадцатая
КОГДА УНГРА НЕ МЕШАЕТ
1
Весь мир следил за кругосветным полетом Новиковых, но цель его знали немногие, среди них и министр культуры Джанджаристана, друг Ахтубина, профессор Дасья. В далекой южной стране он слушал радиосообщения, глядел на часы, перекалывал флажок на карте, следя, как стремительные ионопланы огибают земной шар.
Случилось так, что путешествие Новиковых совпало день в день с церемонией покаяния за обезьяноубийство. Дасью приглашали принять в ней участие, но он демонстративно отказался: не хотел поддерживать суеверие. Был ли Дасья безбожником? Пожалуй, нет. Он учился в Западной Европе и, как многие профессора-европейцы, пожимал плечами, слыша сказку о сотворении мира в шесть дней, но верил, что есть нечто, устанавливающее законы природы. Свое стремление к свободе и просвещению Джанджаристана Дасья называл религией. Конечно, это была не религия, но Дасья был сыном страны, где слова «безбожник» и «преступник» равнозначны.
В тот момент, когда ионопланы мчались над Южной Америкой, а Валентин, невесомый, плавая в ракете, латал трещину, на радиостанцию прибежал один из секретарей Дасьи.
— Ваше превосходительство, беда! Великого учителя нет. Что с нами будет, что будет!
В первую секунду Дасья был ошеломлен. Затем он с криком выбежал на улицу, к своей машине. Чиновник следовал за ним, дрожа и причитая: «Что с нами будет?» Только эти слова и звучали в мозгу профессора.
Унгра был для него другом, нет больше — руководителем, нет, больше — Унгра был учителем, судьей и образцом для подражания. Дасья составлял проекты, просил отпустить средства такому-то и такому-то институту, такому-то театру и строительству. Унгра говорил: «Хорошо», или «рано, увлекаешься, дорогой». Дасья просил, Унгра отмеривал и взвешивал. Дасья мог быть несправедлив: как физик он ущемлял литературу, как ученый ратовал за науку, забывая о дорогах и налогах. Он имел возможность увлекаться и быть пристрастным, потому что его проверял и направлял старик с сиплым голосом, думавший об интересах всей страны.
— Что же будет с нами?
Профессор и министр культуры Дасья чувствовал себя заблудившимся ребенком, щенком, которого выбросили за ворота.
Унгра лежал в вестибюле президентского дворца, на столе, где обычно раскладывали журналы для ожидающих просителей. Тело было укрыто с головой, чтобы не показывать изуродованное лицо, но на простыне проступили бурые пятна. Рядом, на столике, стояли зажженные свечи. Жрецы с унылыми лицами тянули заупокойную молитву. Дасья протолкался в первый ряд и упал на колени. Он плакал, всхлипывая, и, не стыдясь, утирал слезы рукой. Потом он почувствовал, что его поднимают и настойчиво выводят из толпы.
— Успокойся, друг, возьми себя в руки. На нас лежит ответственность за судьбы народа.
Это был Чария. Его и самого нужно было успокаивать. Губы и щеки у вице-президента дрожали, глаза блуждали, лоснящаяся кожа стала серой.
— Где ты был? Мы искали тебя по всему городу.
Маленький профессор прижался лбом к прохладным мраморным перилам.
— На радио, — прошептал он. — Следил за русским кругосветным полетом.
— За русским? В такой час!—Лицо Чарии выразило удивление и даже негодование.
— Этот полет очень важен для нашей страны.
Напрасно Дасья проговорился. Не знал он, сколько бед принесут его неосторожные слова, как будут расплачиваться за них Далекие чужестранцы Новиковы.
— Впрочем, это не имеет значения.—Чария великодушно готов был простить легкомысленного профессора. — Важно, что ты тут, с нами. Мы должны держаться вместе сейчас. Надо создать небольшое, но твердое правительство: я как вице-президент, затем командующий армией, начальник полиции, представители князей, жрецов, деловых людей, ты — от интеллигентных слоев общества. Оставим разногласия, будем верны памяти Унгры... Иначе Европа проглотит нас. Прежде всего надо выпустить воззвание, чтобы все оставались на своем посту.
Дасья кивал головой, соглашаясь. Ему хотелось горевать и не хлопотать ни о чем. Как хорошо, что есть этот энергичный и предусмотрительный Чария! Конечно, не надо бы жрецов и князей в правительство, и так он — Дасья — единственный от науки. Но Чария прав — сейчас надо держаться вместе и не спорить.
2
Дня через три Дасья приехал в тюрьму и попросил показать ему убийцу.
В сущности это было не его дело. Следствие вели полиция и прокуратура, а он ведал школами и институтами. Но в эти дни перед профессором встал вопрос, на который он не умел ответить: кто враг?
Казалось бы ясно: Унгру убил ударом камня один из жрецов, один из участников церемонии покаяния. Смерти президента желали жрецы храма Обезьяны, защитники суеверий и предрассудков, извечные противники Дасьи, министра культуры и просвещения.
Но сейчас вместе с ним в правительстве сидит верховный жрец Солнца — рядом с министром культуры — министр культов! Они раскланиваются, передают друг другу фрукты и шербет со льдом, совместно подписывают воззвания, призывая сплотиться против врагов. А может быть, жрец и есть главный враг, и не уступки нужны, не соглашения, а непримиримая борьба.
Хитсари — военный следователь по особо важным делам — принял профессора с презрительной почтительностью. Он не уважал «гражданских» и сокрушался, что приходится подчиняться людям без всяких званий. Но член правительства — лицо государственное. Хочешь — не хочешь, надо отчитываться.
—Мы работаем энергично, — сказал следователь. — Уже знаем биографию убийцы, выяснили его привычки и привязанности, установили имена родственников и знакомых. Его зовут Дхаттабубия. Сам он с юга, джарис, из зажиточной крестьянской семьи. Второй сын у отца. У них там принято второго сына отдавать в жрецы. В монастыре с одиннадцати лет. Был на плохом счету. Конечно, теперь наставники говорят, что он был на плохом счету, якобы не слушал старших, даже отлучался из монастыря. Но его прощали за терпение и выносливость. Их там учат переносить голод, боль и всякие пытки не жалуясь. Фанатик. Шел на верную смерть и еще радовался, что умрет.
— Это он говорил вам?
Хитсари пожал плечами.
— Разве вы не знаете наших жрецов? Стиснет зубы и молчит. Ни слова, скорее язык откусит. Мои помощники бьются с ним третьи сутки. Конечно, в прежнее время умели развязать язык.., но мы просвещенные либералы, мы вежливые и мягкотелые. Вот если, бы нам разрешили ввиду случая особой важности...
— Нет, нет, господин Хитсари, не будем возвращаться к средневековью. Неужели нельзя добиться словами?
— Словами! Хотите, я провожу вас к нему, попробуйте воздействовать словами.
Идти пришлось далеко — дворами, лестницами, коридорами. В асфальтированных двориках, выстроившись попарно, заключенные гуляли — по. часовой стрелке и против часовой. Другие, закончив прогулку, сидели за решеткой, словно звери в зоопарке. В их камерах вместо передней стенки были прутья, чтобы снаружи, из коридора, караульный видел каждый уголок. Зато и сами преступники могли провожать глазами проходящих. Вслед профессору они кричали что-то грубое и насмешливое.
Наконец Хитсари толкнул тяжелую, чугунную дверь, и прямо перед собой Дасья увидел убийцу.
Изорванная одежда, худая жилистая шея, выпирающие ключицы, черное обросшее лицо... Под глазам синяк, рассеченная скула... и глубокие, горящие ненавистью волчьи глаза. Глаза горели, хотя сам преступник еле стоял на ногах. Конвойные поддерживали его.
— Будешь говорить, скотина?! —кричал младший следователь, стуча кулаком по столу..,
Молчание. Глаза горят, зубы стиснуты.
Следователь переменил тон:
— Тебе же стыдно должно быть. Ты жрец, тебе нельзя даже червяка раздавить. А ты камнем старика стукнул, слабого, беззащитного, все равно, что ребенка обидел. Совесть тебя не гложет?
Молчание. Стиснутые зубы.
Тогда вступил Хитсари:
— Имей в виду, что следствию все известно. Мы знаем, кто тебя подослал. Тебя, дурачка, обвели вокруг пальца, уговорили и подставили пор удар, свалили свою вину. Зачем же ты других заслоняешь, тех, кто предал тебя? Пускай лучше их накажут, а ты живи.
Молчание.
Дасья сел в сторонку, чтобы не мешать следователям, взял в руки газету. Это была местная газета, но на европейском языке, потому что джанги и джарисы до сих пор разговаривали между собой на языке изгнанных колонизаторов.
И вдруг Дасья заметил, что глаза преступника прищурились. Он явно старался разобрать заголовок.
— Ты знаешь иностранный язык? — спросил Дасья. У него даже мелькнула мысль: «Не шпион ли из Европы? »
Преступник молчал.
Хитсари усмехнулся.
— У них там целый университет в монастыре. Все знают: и языки, и историю. Даже стихи пишут. Вот посмотрите...
Он извлек из дела потертую, сшитую из отдельных листов тетрадь.
Поеживаясь под ненавидящим взором владельца тетради, Дасья развернул ее с любопытством. Молитвы? Нет, только язык и ритм древних молитв. А содержание совсем земное.
Убийца писал стихи:
о серых пустынях Джаристана, где почва, как потрескавшиеся губы, и поникшие пальмы подобны голодному ребенку у груди мертвой матери. Сердце не жалко вырвать, чтобы кровью смочить их пыльные корни;
о шалашах с соломенными протекающими крышами, где старики радуются, когда на кровать каплет дождь, потому что дождь — это урожай;
о чужеземных демонах, закоптивших страну, опутавших ее стальной паутиной рельсов;
о лесах — зеленых храмах природы, которые гибнут под ударами топоров, чтобы стать горьким дымом в печах изнеженных горожан...
Стихи были слабые, неумелые, но чувствовалась в них щемящая любовь к родной земле, и гордость обиженного хозяина, и мечта о самопожертвовании.
И этот человек убил Унгру — славу, честь, совесть Джанджаристана!
Дасья, смущенный, положил тетрадь на стол, рядом с раскрытым делом. В глаза ему бросился лист протокола, где говорилось, что некий послушник видел, как убийца беседовал через забор с незнакомым человеком, у которого был сломан нос.
— Вы нашли этого человека со сломанным носом? — спросил Дасья.
Младший следователь поспешно закрыл дело.
— Посторонним не разрешают... — начал он.
Хитсари остановил его.
— Перед тобой не посторонний. Это уважаемый министр, господин профессор Дасья.
В ту же секунду что-то тяжелое обрушилось на профессора. Он упал, ударившись головой о косяк, клещи сдавили его горло.
— Оттащите, он задушит его! — услышал Дасья, теряя сознание.
Стало легче дышать. Профессор открыл глаза. Он лежал в углу... а. против него два солдата и два следователя прикручивали к стулу веревками рвущегося преступника.
— Ненавижу! — кричал тот. -— Всех бы вас одним камнем, отродье дьявола! На запад молитесь, продаете нас европейцам, губите страну, веру, изменники!
Потом жрец вспомнил свой обет молчания и закусил губу острыми зубами.
Два следователя почтительно подняли старика, поставили на ноги.
— Вы не ушиблись, ваше -превосходительство? Простите нашу неосторожность. Этот безумец будет примерно наказан. Карцер и смирительная рубашка...
— Не надо рубашки, — прохрипел профессор, потирая горло.
3
Дасья был ошеломлен. Не нападением и не ушибом, а неукротимой ненавистью, которую он вызывает, оказывается. Никогда в жизни к нему не обращались с такой лютой злобой.
У него были противники в политике и в науке. Были люди, которых он считал неучами и тупицами. Выступая против них, Дасья говорил: «В рассуждения моего знаменитого оппонента вкралось противоречие». Оппонент возражал: «Наш уважаемый профессор Дасья исходит из непроверенной предпосылки»... Спорили, расходились неубежденные, помещали в научных журналах «реплику в ответ на реплику».
Да, профессор уважал Запад, в особенности западных ученых, чтил Ньютона, Галилея, Гельмгольца и Кюри. Да, величайшей мечтой его было создание Академии наук Джанджаристана. Дасья работал за письменным столом: писал докладные записки об Академии. Он делал это для народа. И вдруг на него бросаются с воплем: «Продаете нас европейцам, губите страну... изменники! »
Легко сказать: «Безумный фанатик»! А может, он-то и есть представитель народа, а не Дасья с его докладными записками? Может быть, Дасья в тиши кабинета зарылся в бумаги, а народу бумаги не нужны? «За горло бумагомарателей! »
Мысли эти занимали профессора, пока он шел за стражником по коридору, где воришки галдели за железными решетками, затем через каменный дворик с уныло шагающими арестантами и еще по каким-то сырым закоулкам, темным лестницам и переходам.
— Что это мы идем долго? — заметил, наконец, Дасья.
— Через главный вход нельзя. Там толпа.
— Толпа? Почему?
— А кто знает? Орут что попало. Базарная чернь! — ответил стражник высокомерно.
Дасья не любил крикливой уличной толпы. Он жил для будущего Джанджаристана — образованного и чисто умытого. В другой раз профессор обошел бы сборище стороной. Но сегодня, выйдя из боковой калитки тюрьмы, он все же присоединился к толпе, пахнущей луком и потом. Люди стояли плотной стеной у ворот. Слабый голос начальника тюрьмы захлебывался в грозном гуле.
— Выдайте его, и мы уйдем! кричали люди.
— Кого выдать, кого? —- спрашивал профессор, близоруко оглядываясь.
Соседи недружелюбно косились на Дасью.
— Кого, кого? — передразнил его ремесленник с закопченным лицом, наверное, кузнец. — Убийцу нашего Унгры. Богачи прячут его в тюрьме, чтобы увезти тайком.
— Богачи сами убили Унгру, проклятые спекулянты! Президент хотел, чтобы хлеба хватило всем, — добавил тощий старик, голый до пояса.
— Им джаны дороже людей!
— Им обезьяны дороже!
— Выдайте его.., и мы уйдем!
Толстая румяная торговка с корзиной помидор накинулась на Дасью:
— А ты что выспрашиваешь? Убирайся пока цел, шпион!
Она замахнулась, профессор попятился. Кто-то сунул ему кулаком в бок. Кто-то размазал по лицу помидор. Дасью спас университетский значок на тюрбане.
— Не хулиганьте! Это учитель. Они ничего там не знают в своих школах, — крикнул кто-то над его ухом. И профессор выбрался из толпы, помятый, но... благодарный.
Он был благодарен за то, что ему вернули уверенность тумаками. Народ стоял за Унгру, за новшества и даже за уничтожение мартышек. Он, Дасья, в своем кабинете правильнее понимал нужды народа, чем сын крестьянина Дхаттабубия со всей его надрывной любовью к сохнущим пальмам. Заблудился, разошелся с народом ученик жрецов. Кто сбил его с пути?
Есть древнее юридическое правило — ищи, кому выгодно! Толпа обвиняет хлебных спекулянтов. Не спекулянты ли подослали того человека со сломанным носом? Сломанный нос! Может быть, правильнее — курносый! Но жители Джанджаристана все горбоносые, курносым мог быть только европеец. Ищи, кому выгодно!
И, добравшись до парламента, Дасья первым долгом позвонил по телефону следователю Хитсари:
— Поищите человека со сломанным или курносым носом в архивах колониальной полиции. Такого, кто бы безупречно говорил по-джарийски и мог выдать себя за уроженца страны. Вы же понимаете, что за европейцем преступник не пошел бы.
— Слушаюсь, — оказал следователь, не слишком довольный тем, что посторонний дает ему правильный совет.
— И выйдите на балкон, скажите толпе правду, — продолжал Дасья. — Скажите, что преступник еще не выдал сообщников и убить его — это значит спасти главных виновников.
— Слушаюсь!
4
День этот был полон контрастов.
Ненавидящие глаза преступника, коридоры с галдящими воришками, разгневанная толпа, готовая к расправе, а после этого зал заседаний, где хорошо одетые люди, вежливо, не перебивая, слушают друг друга.
Когда Дасья вошел в зал, Чария зачитывал декларацию. Профессор сел на низкий диван, поджал под себя ноги, закурил трубку с длиннющим чубуком. Душистый табак помог прийти в себя и сосредоточиться.
«Правительство будет продолжать работу в области народного благосостояния и просвещения, — читал Чария. — С этой целью будут открыты новые школы для сельских учителей, жрецов и фельдшеров... »
Дасья кивнул головой. Хорошо, что есть параграф о просвещении. Еще лучше, чтобы было указано точно — сколько школ и в какие сроки откроют...
Чария перевел дух, отер лоб и продолжал читать: «Уважая обычаи и нравы народа, правительство будет воздерживаться от неосторожных мер, могущих оскорбить достоинство жителей, их верования и привычки... ».
Начальник полиции кивнул, кивнул командующий армией, ордена звякнули на его груди, жрец наклонил свою золотую корону, радужный зайчик соскользнул с подоконника.
— Нет, позвольте.! —профессор вскочил с диванчика. — Что значит — уважать достоинство и верования? Мартышек мы будем уничтожать?
Чария уклонился от ответа:
— Стоит ли тратить время на мелкие детали? Мы пишем о принципах.
— Это принципиальный вопрос. Боремся мы С голодом или нет? Следуем за Унгрой или нет?
— Народ раздражен и взволнован, — сказал начальник полиции, — надо отложить опасные эксперименты.
— Народ не готов к реформам. Он не одобряет крайностей покойного президента, — добавил Чария. — Могу вам сообщить не для огласки, что убийца из крестьян, простолюдин.
А жрец изрек:
— Унгру осудило небо. Молния не испепелила убийцу, и рука его не отсохла. Значит, такова воля богов.
— Я возражаю категорически! —закричал Дасья. — Я не подпишу декларации, если она отменяет путь Унгры. Я не войду в правительство, представляющее интересы обезьян...
— Ну стоит ли так волноваться, — сказал Чария примирительно. — В свое время мы это обсудим, не торопясь...
Дасья хлопнул дверью.
Нет, не придется ему мирно заниматься развитием физики под руководством этого энергичного и предусмотрительного Чарии. Нет, не сумел он усидеть вместе со жрецами и князьями, покуривая трубку...
5
Кажется, много ли народу было на заседании. И протоколы как будто хранились в закрытом сейфе. Но на другой день во всех газетах, кроме правительственной, появились статьи о Дасье:
«Дасья не войдет в кабинет! »
«Красный профессор не сумел развалить правительство! »
«Дасья изменил святому делу Унгры! »
«Взрыв самолюбия или подрывная деятельность? »
«Дасья — тайный агент красных! »
Последняя статья изобиловала грязными намеками: где был Дасья, когда убили Унгру? На радиостанции, ждал известий из Советского Союза. Известия будто бы о кругосветном полете. Но среди них могли быть шифрованные инструкции. Газета весьма прозрачно намекала, что Дасья знал об убийстве президента (если не сам организовал его) и получал указания из Советского Союза, как ему действовать дальше.
«Вот бы показать эту статью убийце, — подумал профессор с горечью. — Оказывается, Дхаттабубия хотел задушить своего сообщника! »
Но эта клевета предназначалась для внутреннего употребления. Буржуазные газеты на Западе писали в ином тоне, не скрывая своего удовлетворения:
«Джанджаристан переходит на сторону западного мира».
«Крайний левый Дасья изолирован. Путь к свободе открыт! »
«Самопожертвование во имя культуры и цивилизации» (в этой статье убийца изображался как поборник прогресса, почти герой).
«Перспективы делового подъема в связи с событиями в Джанджаристане».
«Нет, право же, надо показать газеты преступнику, — думал Дасья, — пусть видит, кого он обрадовал».
И он позвонил в тюрьму, вызвал Хитсари: Следователь пригласил профессора приехать. Едва ли он не знал о вчерашнем заседании. Но формально Дасья был еще министром. И вообще Хитсари не желал принимать во внимание склоки этих «гражданских»...
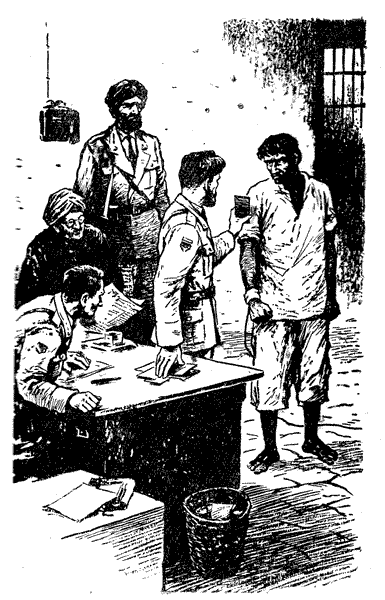
— Мы тут развернули бешеную деятельность, — сказал он, — перерыли все архивы колониальной полиции. Знающих джарийский язык оказалось только восемнадцать человек. Приезжайте, проведем испытание.
Видимо, Хитсари хотелось блеснуть своим мастерством.
И снова перед профессором стоял арестант с ненавидящими глазами. Лицо его еще больше поблекло и опухло. На пожелтевшей коже резко выделялись небритые черные волоски.
— Раскрой рот, скотина! — кричал на него следователь. — Будешь ли ты говорить?
Впрочем, это была только психологическая сценка. Младший следователь разыгрывал грубияна, Хитсари — справедливого защитника обиженных, поборника законности.
— Не надо кричать на человека, — говорил Хитсари. — Ведь мы все знаем теперь. Подстрекатель находится здесь же, в тюрьме. Его фотография у меня, вот в этой пачке. Ты думаешь я обманываю тебя, Дхаттабубия? Смотри сам.
-Хитсари поднес к лицу убийцы первую фотографию.
— Этот?
Преступник молчал.
— Этот?
— Этот?
— Этот?
Вытянутое, длинное, как будто обиженное лицо. Утиный нос. Печальные глаза. Торчащие уши...
— Ну?
У Дасьи екнуло сердце. Зрачки преступника расширились на миг, только на миг. И тут же глаза спрятались за веками.
— Этот! — воскликнул Хитсари, торжествуя. Он не следил за глазами, пользовался более точным указателем. К руке- преступника был прикреплен аппарат, измеряющий кровяное давление. Стрелка указателя дрогнула.
— Молчишь? — продолжал Хитсари. — Молчи, молчи! Могу сообщить, кого ты выгораживаешь. Вот тут написано: «Вилли фон Гинценберг, владел поместьем в Восточной Пруссии, офицер войск СС, воевал в России. После разгрома Гитлера бежал в Западную Европу, служил в иностранном легионе, затем в колониальной полиции. Хорошо знает джарийский, джангийский и гористанскйй языки. Выполнял особые поручения князя Гористани, был инструктором в его армии. После национального освобождения служил разъездным агентом в банке «Чария и Компани»... Вот кого ты избрал своим наставником, голубчик: колониальный шпион, наемник без родины, бывший фашист.
Молчание. Зубы стиснуты. Но стрелка на приборе так и пляшет.
— Что молчишь? Спасаешь шпиона? Ничего, другие скажут. Завтра привезем сюда твоего соседа по келье. Он видел, как ты разговаривал с этим самым Вилли фоном..
— Все ложь! — прохрипел Дхаттабубия. — Написать можно, что угодно. Привыкли лгать народу.
Следователи переглянулись. Преступник выдал себя. Значит, именно этот агент вложил камень в его руку.
Но тут Дасья, задетый последними словами, вскочил с места.
— Все ложь? — воскликнул он. —-Что же ты полагаешь, весь мир старается тебя провести? И вчерашняя толпа, которая требовала выдать тебя на растерзание, комедию разыгрывала? И иностранные газеты — читай, читай, ты же образованный — тоже издаются, чтобы тебя обмануть? Вот «Биржевой вестник» — «Самопожертвование во имя культуры... ». Гляди, кто тебя восхваляет, — биржевики. «Новый бизнесмен» пишет: «Перспективы делового подъема. Акции поднимаются. Джанджаристан отроет границы нашим товарам... Крайний левый Дасья изолирован». Гордись, Дхаттабубия, дельцы рукоплещут, угодил ты бизнесменам!..
Профессору не хватило воздуха. Он кинул газеты к ногам преступника и сел, держась рукой за грудь. Ныло сердце, и комок стоял в горле. Хотелось забыть всякую политику, оказаться за письменным столом, аккуратным почерком выписывать бесстрастные уравнения квантовой механики.
— Больше не приду к вам, — сказал он усталым голосом. — Ухожу из правительства. Буду заниматься наукой.
Хитсари, пыхтя, нагнулся, собрал газеты с полу и протянул конвойному:
— Уведите арестованного. Газеты передайте ему. Пусть разберется, на кого он работал.
Преступник двинулся к двери. Что-то надломилось в нем. Он не держался так прямо, как раньше, и в глазах уже не было сосредоточенной злобы. Шагнув раз, другой, он схватился за дверной косяк...
— Погодите...
Его блуждающие глаза остановились на лице Дасьи.
— Старик, ты ненадолго переживешь меня. Жизнь уходит из твоего тела, ты с трудом удерживаешь ее. Скоро мы встретимся там, где никто не смеет лгать. Скажи, глядя в глаза: вы не обманывали меня сегодня?
— Нет, Дхаттабубия, мы не обманывали тебя.
— Клянись всеми своими будущими жизнями, клянись счастьем детей и внуков, клянись их бессмертием!
— Я не верю в будущие жизни. Но клянусь тебе светлой памятью Унгры, моего друга и учителя.
— Старик, ты убил меня. Не палач, а ты. Я не боялся плахи, пошел бы на нее с улыбкой. Во мне говорил голос бога, ты заставил его замолчать. Значит, я напрасно отказался от синего неба, от пыльных пальм над звонким ручьем. Зевака теряет кошелек в толпе, а у меня украли эту жизнь и все будущие. И не богом я стану, а червяком, и тело мое, чирикая, расклюет воробей.
В Джанджаристане верили в переселение душ. Считалось, что хороший человек после смерти становится львом, герой сливается с божеством, а человек злой и вредный начинает новую жизнь в образе паука, мухи или червя.
И старый профессор Дасья, автор трудов по квантовой механике, поклонник Ньютона и Гельмгольца, ответил серьезно:
Ничего не поделаешь, ты будешь червяком, Дхаттабубия.
6
На следующее утро Дасья проснулся в хорошем настроении. Спросил себя: «Почему? » И вспомнил: предстоит приятное — никаких заседаний, никаких делегаций. У себя в кабинете, за столом, он будет заниматься чистым делом — вопросом о квантовом характере движения мезонов в атомном ядре.
В Джанджаристане принято вставать рано, потому что продуктивно работать можно только на заре: с полудня не позволяет жара. Дасья завтракал в шесть утра, но уже к чаю ему принесли газеты и почту. Оказывается, поведение Дасьи интересовало всех. Студенты физического факультета приветствовали его твердую позицию, профсоюз кожевников предлагал поддержку. Женский комитет городов Джаристана прислал телеграмму: «Спасибо, что вы подумали о наших детях».
— И откуда они узнали так быстро? — вслух удивился профессор. — Ведь в газетах писали совсем другое.
Старый слуга, подававший ему чай, усмехнулся:
— Народ знает. Сегодня весь базар говорит, как вы ловко отбрили их: дескать, не хочу служить мартышкам против людей.
Профессор был польщен. И, даже перейдя в кабинет, не без труда заставил себя думать о квантованных орбитах.
— К вам пришли, господин. Целая делегация — человек пятнадцать.
Дасья с неохотой оторвался от стола. Но нельзя же, чтобы пятнадцать человек ждали одного.
— Проси, — проворчал он.
Посетители прошли в кабинет. Что за странная компания: два члена парламента из умеренных, декан физического факультета, три студента — все трое учились у Дасьи, затем владелец магазина из соседнего дома, преуспевающий врач и еще несколько незнакомых, судя по одежде, — учителя, чиновники, служащие частных контор.
Вперед выступил парламентарий. Кланяясь и прижимая руки к груди, он начал цветисто извиняться за то, что ранним вторжением они отнимают драгоценное время высокочтимого, увенчанного мудростью...
Дасья терпеливо слушал, ожидая, когда же оратор дойдет до сути дела. Наконец минут через десять тот заговорил о том, что на следующей, неделе состоятся выборы президента.
— Не выборы, а вступление в должность, — поправил Дасья. — Пустая формальность. По закону президентом становится вице-президент Чария. А выборы будут через три года.
Парламентарий, однако, внимательнее прочел законы. В конституции Джанджаристана он разыскал разъяснение к параграфу о вице-президенте. Оказывается, составители ее предусмотрели возможность покушения. Только после естественной смерти президента его заместитель вступал в должность механически. В случае же насильственной или внезапной смерти парламент должен был утвердить полномочия вице-президента, при этом голосующие против могли выдвинуть и другую кандидатуру. И вот они, посетители, все считают, что Чарию надо провалить. Он неподходящий человек—-нетвердый и пристрастный. Вообще Чария не государственная величина... и они настойчиво просят... умоляют... так мечтают, чтобы профессор согласился выставить свою кандидатуру.
— Нет, господа, мне неудобно...
Владелец магазина грохнулся на колени:
— Не погубите! — крикнул он. — Задыхаемся, банки опутали долгами. Одно было спасение — закон против ростовщиков. А придет к власти Чария — сам банкир, сам закон—задушит обеими руками.
— У него в правительстве жрец, — вступил врач. — Мракобесы у власти. В клиниках запрещают вскрывать трупы. Студенты учат анатомию по картинкам. В деревнях черная оспа, потому что нельзя брать коровью кровь для вакцины.
— Отстаем на пятьсот лет... Твердим школьникам, что Солнце — бог, а астрономия под запретом, — добавил декан.
Все заговорили наперебой, надвигаясь на профессора, хватая его за рукава и полы халата. Слова растаяли в общем шуме. Выделялся только хриплый бас студента:
— Вам неудобно?.. А в Джаристане люди дохнут!
Профессор посмотрел на него с улыбкой.
— Разве студенты тоже хотят, чтобы я был президентом? Вы же сами год назад на митинге кричали, что я предаю народ...
— А вы не предавайте! — ответил тот не смущаясь. — Разоблачайте Чарию. Ему от голода прибыль, он спекулянт, откровенный враг. А с вами мы можем и поспорить и договориться.
— Стыдитесь! — крикнул торговец. Другие тоже набросились на студента: «Нельзя же так — профессор рассердится... »
Дасья. поднял руку улыбаясь:
— Нет, я не обижаюсь. Будем спорить и договариваться. Только не на семинарах по теоретической физике.
Он вспомнил, что два года назад этот самый студент спорил с ним на занятиях, доказывая явную ересь: будто скорость света не предел скоростей.
7
Убийцу казнили на той же площади, где он поднял руку на президента. На помосте, там, где верховный жрец Солнца ожидал процессию, возвышалась теперь мрачная виселица. И из тех же окон, прячась за шторами, смотрели с любопытством на толпу Тутсхолд и Сайкл;
— Сегодня еще больше народу, — сказал американец.
— Зрелище волнующее, — заметил Тутсхолд цинично. — В тот раз могло и не быть убийства, а сегодня покажут наверняка.
Ровно в полдень на площадь вступил массивный слон, покрытый черной попоной. В траурном паланкине восседал закованный преступник. Держался он спокойно, даже рисовался спокойствием, с высоты посматривая на площадь.
— Артист, — усмехнулся Тутсхолд. — Вилли так и описывал его — местный Геростратишко. Готов сжечь себя, лишь бы на него глазели.
Сайкл зябко передернул плечами.
— А вы уверены, что ваш Вилли уехал?
Тутсхолд посмотрел на него с презрением:
— Пейте ром, Сайкл, от вашего молока расстраиваются нервы. Вилли сел на самолет за два часа до смерти Унгры. А иначе он был бы сейчас на слоне, рядом с убийцей.
Слон между тем остановился у эшафота. Возница, нагнувшись, передал преступника палачу, словно тюк с тряпьем. Палач повернул его лицом к толпе.
— Что он говорит? Что принято говорить перед казнью? —спросил Сайкл с жадным любопытством.
— Не знаю. Не слышно. Молится, наверное.
А полезно было бы компаньонам услышать. Тогда, они не стали бы мешкать у окна, а бежали бы, что есть мочи.
— Люди Джанджаристана, — кричал Дхаттабубия. — Простите, если можете! Я, как ребенок, спаливший дом отца, наделал такое, что и смертью не исправишь. Не петли я боюсь, а ваших укоризненных взоров, джанги и джарисы. Для вас я пошел бы на подвиг, но рука лжеца направила мою руку. Он мазал лицо ореховым соком, говорил по-джарийски, как джарис, а был на самом деле европейцем и служил в банке Чарии. Люди, моя осмысленная жизнь кончилась, сейчас я стану червяком под вашими ногами. Но вы остаетесь жить и думать, подумайте, почему служащий банка желал убить президента?
— Ну, и хватит! — сказал палач и накинул преступнику платок на глаза.
Тутсхолд и Сайкл не слышали речи. Они удивились, почему толпа после казни не расходится. «Никак не налюбуются», — заметил Сайкл. Потом послышался звон разбитых стекол — в окна банка полетели камни. Над решетчатой оградой показались сердитые лица. Распахнулись ворота. Какие-то парни выворачивали руки монументальному швейцару. «Я же только сторож! » — жалобно повторял он.
Теперь ясно слышны были крики: «А где тут европейцы, показывай! Нам они расскажут правду».
Тутсхолд метнулся к телефону. «Полиция! Грабят банк, ломают двери! Парламент? Сообщите вице-президенту: налетчики громят его банк! Комендатура! Штаб главнокомандующего! Бунт! Восстание!! »
Сайкл бегал по комнате, ломая руки:
— Это все вы с вашей страстью к интригам. «Восток, восток! Жизнь тут не ценится! » Расхлебывайте теперь. Я так и скажу: «Это все вы».
— Не смейте, идиот! Ни слова, иначе нас растерзают на месте. Они же не знают ничего!
— Ничего! А если Вилли что-нибудь сказал лишнее этому проклятому убийце.
— Сайкл, ни слова!
Послышались удары. Снаружи били по двери столом. Отскочили филенки, беспомощно звякнули ручки, и в банковский кабинет ворвались гневные люди — те, что воздвигали это здание и после уже сюда не допускались — каменотесы, возчики, землекопы, ремесленники. Впрочем, и владелец магазина — тот, что приходил к Дасье, тоже был здесь.
— Ага, вот вы где попрятались!
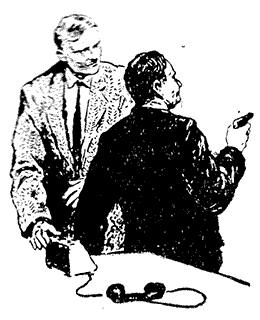
— Стой, стрелять буду! — хрипло крикнул Тутсхолд.
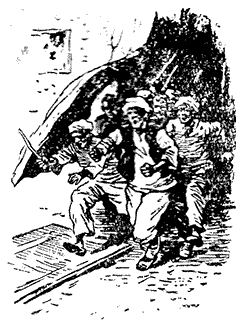
Дюжина рук схватила его. Упал на ковер изящный карманный пистолетик.
— Не бейте! Ай, не бейте!
Но тут за окном послышались звуки горна, цокот копыт. Полицейские теснили людей лошадьми, стреляли из автоматов. Воинственный офицера прыгая через убитых и раненых, вбежал в кабинет...
Тутсхолд, выпятив нижнюю губу, рассматривал себя в разбитом зеркале. По подбородку у него текла кровь. Сайкл сидел на ковре и ругался на чем свет стоит:
— Пусть буду я проклят навеки веков самым страшным проклятием, если останусь в этой проклятой богом стране!
Старший компаньон поглядел на него сверху вниз:
— Ничего не дается даром, Сайкл. Нельзя всю жизнь сосать кровушку у людей и не отдать ни капли своей. Увы, в этой стране бывают недоразумения, Минуту назад я боялся, что вы не доживете до девяноста лет, как ваш дедушка, хотя вы тоже пьете только молоко.
— А будьте вы прокляты с вашим остроумием!
8
Впрочем, Сайкл нарушил клятву — не уехал из «проклятой богом страны». Как мог он. оторваться от волшебной кубышки, которая уже принесла ему три доллара на доллар и обещала трижды три? Кем был бы он в Америке? Заурядным миллионером, даже не придворным в свите Рокфеллера. Ему хотелось, чтобы Тутсхолд уговорил его, и он поддался на уговоры.
— Потерпите! — говорил Тутсхолд. — Через несколько дней наш друг Чария станет полновластным хозяином в стране и наведет здесь порядок.
Газеты придерживались того же мнения. Газеты приводили расчеты: в парламенте 620 человек. Владетельные князья (56 голосов) и независимые (32 голоса) проголосуют за Чарию. «Независимыми» называли себя жрецы. Они утверждали, что им не подобает считаться с партийными интересами, но неизменно голосовали за реакцию.
Дасья мог рассчитывать на одиннадцать голосов коммунистов, на девять левых социалистов, на профсоюзы и Крестьянскую партию (еще 42 голоса). Главная партия парламента — Союз освобождения, партия, которую создал Унгра и поддерживал деньгами Чария-отец, должна была отдать Чарии-сыну все свои 427 голосов. И мелкие правые партии были за него.
62 из 620 — так оценивались силы Дасьи.
И вот настал день голосования. В стране было неспокойно. Бастовали портовые рабочие, бастовали железнодорожники, бастовали студенты университета. По улицам городов ходили демонстранты с плакатами «Долой банкира Чарию! » У дверей парламента дежурили пикетчики. «Не отступайте от пути Унгры! »— требовали они.
В круглом зале парламента места были расположены амфитеатром. Первые ряды, занятые знатью, блистали золотом и серебром. Середина шуршала белым шелком национальных тюрбанов и халатов, в задних рядах сидели люди в серых пиджаках — главным образом левые журналисты и адвокаты. А над ними, на балконе, шумела публика, по-южному горячая и бесцеремонная.
Впрочем, были и почетные гости, например иностранцы. Они сидели в ложах, возле президиума, и могли наблюдать, как по проходам зала лились потоки—золотой, белый и серенький. Это шли к урнам члены парламента, чтобы подать свой голос.
Перед началом подсчета Чария забежал в ложу своих компаньонов-сообщников, поправил перед зеркалом цветной тюрбан и ордена на шелковом халате.
— Я так нервничаю, так нервничаю, — сказал он скороговоркой. — На улицах какие-то личности собираются в толпы. На парламент оказывают давление. Это не конституционно.
Тутсхолд похлопал его по плечу:
— Друг мой, не волнуйтесь. Здесь, на скамьях, сидят почтенные люди, и они, как все люди, понимают, где их выгода. Вы обеспечиваете прибыль и порядок. Они — за прибыль и порядок. Я вижу: первый голос подан за вас. Это хорошее предзнаменование. Идите, через полчаса вы будете президентом.
Действительно, начала работать счетная машина. Она зарегистрировала первый бюллетень и над столом президиума, на экране, появились цифры:
Чария— 1, Дасья — 0.
— Ну, я иду! — воскликнул, бодрясь, будущий президент и, одернув халат, вышел на сцену.
Мелькали на экране цифры — 10 : 0, 20: 0, 30 : 0... Ни одного голоса за Дасью! В первых рядах нарастал смех. Ха-ха-ха! Провалился красный профессор! Ни одного голоса! Кончена твоя карьера, голубчик. Вот, что значит идти против всех! 50 : 0, 60 : 0!!!
И Сайкл хохотал, тыча кулаком в бок компаньона.
— Утерли нос, а? Идем с сухим счетом!
Расплывшийся в улыбке Тутсхолд пытался умерить восторги американца:
— Дальше будет несколько хуже, Сайкл. Сейчас идут бюллетени из первых рядов. Галерка проголосует за красного. Сухого счета не получится. Мы выиграем скромно — 500 : 120.
Вскоре ноль исчез. 80 : 1. Кто-то из белых халатов проголосовал за Дасью. Триумфальное шествие кончилось, началась борьба. 100 : 12, 120 : 38, 150 : 75, 180 : 114, 200 : 137.
Сайкл уже не хохотал, и Тутсхолд не улыбался. Напряженно морща лоб, он подсчитывал в уме: «Нам нужно, набрать 311, натянуть еще сотню с небольшим, а Дасье — «почти две сотни. Но последние ряды — человек пятьдесят — все за него».
210 : 155, 220 : 179, 230 : 201.
На двести пятьдесят четвертом голосе Дасья вышел вперед.
Красный от стыда и обиды, Чария бочком удалился с трибуны. Он знал механику подсчета и понимал, что надежды нет. Впереди галерка — полсотни надежных сторонников Дасьи. Провал, позорный провал! Почему же партия белых халатов, все эти купцы, фабриканты, чиновники изменили Чарии? Голос неба? Кара за соучастие в убийстве? Да-да, он соучастник: он знал... и не предупредил. И утирая жестким занавесом слезы, Чария вздыхал и кусал губы.
Он стоял, кутаясь в занавес, одинокий, ненужный. Его не искали, проходили мимо, не замечая. Незнакомый голос сказал:
— Я сам предприниматель и все же голосовал за Дасью. Нужно учитывать настроения рабочих. Только Дасья может спасти нас от революции.
— А Чария просто глупец, — отозвался другой. — Надо же, накануне выборов устраивает побоище у своего банка! Нельзя так беззаветно любить деньга. Мы живем в трудное время. Во главе правительства неудобно ставить жандарма.
«Жандарм! —вздыхал про себя Чария. — Докатился! А все проклятые чужаки. Не надо было слушать их. Было же предчувствие... хотел предупредить Унгру... ».
260 : 274, 270 : 294, 283 : 311.
Триста одиннадцать! На один голос больше половины! Дасья победил!
Между тем «проклятые чужаки» тоже сводили счеты в ложе сбоку от сцены. Гневный Сайкл наседал на растерянного Тутсхолд а:
— Проиграли! Провалились! А все вы — великий специалист по Востоку. «Я знаю, куда и как ударить! Я понимаю душу страны».
— Кто же мог предполагать, что этот Дасья такой ловкач, — оправдывался Тутсхолд. —При Унгре он был в тени, даже не выступал совсем.
— И я, как идиот, смотрел вам в рот, — сокрушался Сайкл. —Вы просто индюк, надутый индюк! Знаете, куда ударить! Как бы не так! Ваши единомышленники в Индии угробили богомольного старца Ганди. А что получили взамен? Энергичного и решительного Неру. В Бирме они убили Аунг Сингха. Что изменилось? Бирма все равно свободна, и Индия свободна. Ну, вот, мы старались, рисковали жизнью, устранили Унгру. Что получили? Красного профессора! Почему так произошло, объясните, вы, знаток человеческих душ? Молчите? Я сам отвечу.
Если бы Сайкл спросил нас с вами, мы бы сказали примерно так: «Когда нация борется за свободу, она выберет генерала, стоящего за свободу... и отстранит того, кто предложит капитуляцию, будь он хоть семи пядей во лбу».
Но Сайкл не был бы капиталистом, если бы он рассуждал так. Для него люди были стадом баранов. «Еще бы не бараны — столько лет позволяли стричь себя! За вожаком они пойдут куда угодно», — думал Сайкл. Он спорил с Тутсхолдом только о методах воздействия на вожака.
— Вот вы издевались над моим дедом, — говорил он. — Верно, дед мой не кончал Оксфорда, но в его пятке было больше ума, чем в голове ваших лощеных предков. Дед говорил: «Не ругай покупателя, за уши в лавку его не втащишь. Лучше ты бей конкурента, чтобы не было других лавок в окрестности. Тогда покупатель сам к тебе прибежит».
— Вы хотите объявить войну Советскому Союзу, Сайкл? По-моему, это не в ваших силах.
— Тутти, не притворяйтесь дурачком. Я знаю, чего хочу. Нам нужно, чтобы у президента глаза не косили влево. Унгра ждал электричество из России. Мы подняли Гористан, разорвали электропередачу — это был ход. Дасья слушает радио из Москвы — он надеется на какие-то там опыты. Надежду у него надо отобрать — не жизнь, а надежду. Поняли меня, старый индюк?
А Новиковы праздновали победу и не подозревали, что их успехи тревожат каких-то банкиров в далекой стране.
Назад: Глава двенадцатая РЕШАЮЩИЙ ОПЫТ
Дальше: Часть вторая РОЖДЕНИЕ ДЕЛА

