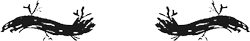15
По закону, – сказал Доггер, – есть четкая граница между неразрешенным проникновением и взломом. Вы что-то оттуда вынесли?
– Нет, – ответила я. Хотя я в общих чертах описала Доггеру свое вторжение, в детали я не вдавалась. После короткого размышления я добавила: – Если не считать пепла на своей одежде.
Доггер всерьез раздумывал над моими словами какое-то время, а потом пришел к выводу: «Дабы расслабить мозг, мы изучим следы под микроскопом».
Правда, за окном уже темнело. Дни становились короче, и, когда солнце садилось, воздух становился холодным.
Так и получилось, что мы оказались в уединении в моей химической лаборатории с чашками дымящегося чая, по очереди склоняясь над блестящим медным микроскопом Ляйтца.
– Кремированные останки, я почти уверен, – сказал Доггер. – Человеческие или нет, трудно сказать, хотя мы, конечно, проведем титриметрический анализ исходного фосфата кальция гидрохлоридом натрия.
– Конечно, – согласилась я.
– Человеческое тело, – продолжил Доггер, – когда его кремируют, в виде пепла состоит примерно наполовину из фосфатов, на четверть из кальция и остальное – сульфаты, калий, натрий и хлориды. Останки содержат следы всех элементов – всех от алюминия и ванадия до сурьмы и цинка. Органические компоненты в массе своей превращаются в металлические оксиды. А неорганические могут переходить в форму хлоридов, карбонатов, фосфатов и сульфатов в зависимости от процесса горения.
– Да, – сказала я, – углерод из карбонатов и кислород из оксидов обычно выпариваются, хотя в случае неполного сожжения углеродный осадок будет немного больше по количеству и станет давать запах горения.
– Полагаю, что так, – подтвердил Доггер. – Да, я думаю, вы правы.
Люблю, когда Доггер так говорит со мной. Мир становится таким уютным и далеким от тягот повседневной жизни. Как будто тебя укачивают в колыбели знания и ты плывешь по великому спокойному морю интеллекта, крохотный мотылек в безбрежном пространстве вселенной.
И тут неожиданная мысль вернула меня к настоящему.
– Миссионерки! – воскликнула я. Начисто забыла о них.
– Я устроил леди в гостиной, – успокоил меня Доггер. – Надеюсь, я не был невнимателен. Мисс Дафна не выходит из библиотеки. Я подумал, она не станет возражать.
– Мемуары, – сказала я. – Она собирается выдернуть ковер у нас из-под ног, Доггер. Она все расскажет. Мы будем жить все равно что под одной крышей с Максом Броком.
Доггер улыбнулся.
Наш сосед Максимилиан Брок, крошечный, похожий на гнома человечек, после блестящей международной карьеры концертирующего пианиста ушел на покой в штилевой полосе, как он описывал наши края. Теперь под псевдонимом Лола Латтимор он писал жуткие истории о кровавых убийствах, предположительно основанные на реальных событиях, для журнала «Душераздирающие сказки».
– Полагаю, леди готовятся к выступлению в приходском зале, – продолжил Доггер. – Ожидается, что оно будет необыкновенно интересным, поскольку одна из них что-то выписывала из романа мистера Лоуренса.
Я не спросила, какая из леди.
– О боже! – произнесла я. – Неужели Даффи снова бросила «Леди Чаттерлей» где попало?
Доггер тихо склонил голову.
– Мне дали понять, что темой будет христианское здоровье, – сказал он, – и я с особенным нетерпением жду их рассказа на тему тропической медицины.
Подумать только! Доггер, который знает на эту тему больше всех на свете, будет смиренно сидеть в приходском зале, сложив руки на коленях, и слушать миссионерок, рассказывающих, как они клеили пластыри в джунглях. При мысли об этом у меня заболело сердце.
Почему жизнь обошлась с ним так несправедливо? Мне хотелось протянуть руку и прикоснуться к нему, но я сдержалась. Избавлю его от этого.
– Я тоже, – сказала я.
Мы вернулись к анализу пепла, который я соскребла с юбки. Тест с гидроксидом натрия подтвердил, как мы и ожидали, что это человеческие останки.
Интересно, чей это пепел? Какое человеческое существо родилось, жило, смеялось, страдало, плакало и умерло, может быть даже прославилось при жизни, только чтобы закончить полоской грязи на моей юбке?
– Думаю, что, когда мы закончим, – я указала на массу в мензурке, теперь ставшую слегка студенистой, – надо будет похоронить это в тихом углу на кладбище.
– Это будет хороший поступок, – сказал Доггер. – Несколько молитв, не относящихся к какой-либо конфессии, тоже будут уместны.
Проявление уважения порой может открыть новые двери, указать пути, которые могли бы в противном случае остаться неизведанными.
Я в шоке осознала, что избегаю определенных мыслей. Хочу ли я защитить Доггера? Или себя?
Человеческий мозг как губка: он может впитать только определенное количество информации, перед тем как начнет протекать.
Рано или поздно мне придется рассказать, что я видела.
Но сейчас у меня что-то сжалось в груди, мне не хватало воздуха, как будто слова не хотели выходить наружу.
А потом внезапно они сами полились со всеми неприятными подробностями, не успела я сдержать поток: «Старая кузница», мисс Трулав, садовый сарай, пепел, ящики, голубая шелковая лента, имена, кости, флакончики – вся эта кошмарная сцена…
– Чем они занимаются, Доггер? – шепотом спросила я. Мне казалось, я знаю, но хотелось услышать подтверждение от спокойного и рассудительного разума.
Доггер уставился на осадок в пробирке с таким видом, как будто его мысли в миллионе миль отсюда.
– Это гомеопатическая дистилляция, да? – продолжила я. – Они продают бульон из вываренных тел и костей – тел и костей знаменитых людей! – как патентованное лекарство. Подобное излечивает подобное. Они ведь так говорят? Раствор праха Диккенса превратит вас из бездарности в известного писателя. За хорошие деньги.
Догггер медленно перевел взгляд с пробирки на меня.
– Или, – я задрожала, – настойка пальца мадам Кастельнуово превратит вас в опытного гитариста.
– Боюсь, вы правы, мисс Флавия, – наконец сказал Доггер. – Не вижу никакого другого рационального объяснения.
– Но как они умудряются наложить свои руки на эти… эти… останки? – спросила я.
– Есть разные способы, – ответил Доггер. – Всегда есть способы. Деньги способны на многое. Считается, что деньги говорят.
Не просто говорят, хотела было я сказать. Это нечестно. Они кричат с крыш в мегафон.
За последние несколько лет я особенно прочувствовала несправедливую жестокость судьбы. Если бы справедливость существовала, я бы не потеряла мать и отца. Сестры, может быть, любили бы меня. И в этот самый момент…
Прекрати, Флавия, произнес знакомый голос, который с каждым днем становился все более и более настойчивым. Заткнись. Хватит.
И все такое. Три предупреждения по цене одного.
Что, черт возьми, со мной происходит?
Понятия не имею, но под пытками, особенно в «Железной деве» или на дыбе, я бы призналась, что мне все равно, чей это голос и откуда он звучит. Я начинаю ценить его бубнеж.
– И здесь есть связь, как ты считаешь, Доггер? Между пальцем мадам Кастельнуово и прахом Диккенса?
Я едва осмелилась задать этот вопрос. Если это так, то след огромного заговора, обширного криминального предприятия, которое может оказаться за рамками наших с Доггером возможностей.
Не исключено, что мы должны вывалить это дело на колени инспектора Хьюитта и позволить ему разбираться с преступниками.
Мы умоем руки и будем ждать, пока нам подвернется другое дело, о которое мы сможем поточить зубы. Например, милый шантаж или простой случай с мышьяком в зубной пасте.
Что-то цивилизованное. Что угодно, только не эти чудовищные шарлатаны, которые склоняли своих жертв есть трупы, и не важно, что в виде раствора.
Доггер до сих пор не ответил на мой вопрос.
Я встала, картинно потянулась и сказала:
– Я совершенно без сил. Думаю, что утром все прояснится.
Доггер поднялся и надел пиджак, до этого висевший на спинке кресла.
– Боюсь, – отозвался он, – нам придется нанести еще один визит в аббатство Голлингфорд.
Мои сны были полны призраками – обрывочными бесформенными существами, кишевшими где-то на грани восприятия. Я крутилась и вертелась, время от времени поглядывая на часы, которые сводили меня с ума своей медлительностью, как будто хотели, чтобы ночь длилась вечно.
Через некоторое время я встала и завернулась в старый отцовский халат, который обычно висел у меня на двери. Покопалась под кроватью, перебирая пластинки, и достала то, что хотела.
Это было «Адажио для струнных» американского композитора Сэмюэля Барбера. Я завела «Виктролу» и опустила иголку на пластинку. Если что-то в целом мире может меня усыпить, это оно.
«Адажио» сочинили для людей, которые не могут уснуть. Это наполовину боксерская перчатка, наполовину хлороформ, музыкальный наркотик.
Я подтянула колени под подбородок и сидела в кровати с прямой спиной, внимательно слушая переливы струн. Волна набегала и отступала, вздымалась и падала, то ближе, то дальше…
Через несколько минут я поймала себя на том, что мычу в такт и слезы катятся у меня по щекам.
Я вскочила, сорвала пластинку с граммофона и швырнула ее через всю комнату. Пластинка ударилась о камин и рассыпалась на куски – темные обвиняющие обломки вроде осколков волшебного зеркала из «Снежной королевы» Ганса Христиана Андерсена, которые попадали в глаза, протыкали сердце и заставляли видеть в людях только плохое.
Вот что со мной происходит?
Поэтому мне так противны все Трулавы, Персмейкеры и Стоунбруки в мире?
И Приллы тоже, да, а вместе с ними Брокены. Признаю это.
Мое горло сжалось из-за чувства вины. Надо от него избавиться.
С раскаянием я собрала обломки пластинки и отнесла их в лабораторию. Знаю, что шеллак можно размягчить денатуратом.
Я разложила кусочки на рабочей поверхности и потом начала тщательно складывать их в единое целое, словно причудливый пазл. Нескольких осколков не хватило, но пластинка казалась почти целой. Один за другим я протирала части денатуратом и складывала их друг с другом. Когда диск был собран заново, я нанесла несколько финальных штрихов с помощью прозрачного лака для ногтей Фели, который я так удобно забыла ей вернуть.
Я бережно положила склеенную пластинку на ладонь, словно раненого птенца.
Вернувшись в спальню, я взглянула на часы. Ремонт занял у меня около часа.
С величайшей осторожностью я поставила пластинку и включила граммофон.
Сэмюэль Барбер. «Адажио для струнных».
Блаженство.
Способствует целительной медитации.
Если у меня когда-нибудь будет дочь, решила я (в чем я глубоко сомневаюсь с учетом моей отшельнической натуры), назову ее Виктролия в честь богини музыки.
Мне самой никогда не нравилось мое имя. Флавия чем-то напоминает ванильный экстракт.
Если бы я могла сама выбрать, как меня зовут, я бы стала Аманитой. Звучит прекрасно.
Однажды я спросила у Даффи: «Тебе нравится твое имя больше, чем мое?»
«Тьфу! – выплюнула она. – Тебе повезло, Флавия золотоволосая, в то время как меня назвали в честь полоумной нимфы, превращенной в дерево».
Я аккуратно опустила иглу на внешнюю дорожку пластинки.
И полилось «Адажио»:
Дааааа-дзынь! – даааа-дзынь! – даааа-дзынь! – дзынь-дзынь!
Дааааа-дзынь! – аааа-даааа-дзынь! – дзынь! – аааа-аааа-дзынь-дзынь!
Я подскочила к граммофону, снова сорвала пластинку с подставки и швырнула через всю комнату – она опять разбилась о дверь.
Я запрыгнула на кровать и накрыла голову подушкой.
Когда я проснулась, в окна лились солнечные лучи и я почувствовала себя, как Мэри Поппинс, хотя я ненавижу это сравнение, – лучше, чем когда-либо. Почти идеально.