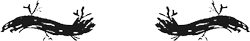16
Отлично, что я встала с кровати с правильной ноги. Открыв дверь спальни, краем глаза я заметила легкое шевеление в темном конце коридора.
Я остановилась, повернулась боком, но продолжала коситься периферическим зрением – это дар богов, который нельзя недооценивать.
Что-то подкрадывалось ко мне по-змеиному. Я пыталась не смотреть, но безуспешно. Невозможно сопротивляться древним инстинктам.
Но вместо того чтобы убежать, я поддалась требованию крови: встала на цыпочки, уперла руки в бока и зашипела сквозь зубы. Миллионы лет эволюции требовали: кажись как можно больше, изобрази из себя угрозу.
Тем не менее это продолжало подкрадываться ко мне, слегка качаясь из стороны в сторону. Кажется, на нем было что-то вроде панциря. Я слышала, как живот шуршит по ковру.
Теперь я видела это создание более четко: плотная кожистая шкура с фестончатыми краями, словно крылья какого-нибудь Бармаглота из юрского периода, перевернутая чаша, оживленная древним механическим злом. Знаю, звучит как полная чепуха, но это то, что проносилось у меня в голове.
Со зловещим скрипом оно наступало на меня. Когда на него упал бледный луч света из мутного окна, я увидела, что тело этого существа покрыто удивительными отметинами, которые я где-то видела, но совершенно не могу вспомнить где.
Мой мозг словно собрал чемоданы и отчалил на курорт в Батлинс, где он не требуется.
И тут наконец меня осенило. Ну конечно! Узор на панцире или на шкуре этого существа, кем бы оно ни было, – это рисунки фабрики Уильяма Морриса, знаменитой своими обоями и обивкой, все эти переплетенные побеги и щупальца, зеленые листья аканта и редкие кроваво-красные ягоды.
Костистая спина существа – это открытый зонтик, выставленный прямо на меня.
Я вытянула ногу, подцепила большим пальцем край зонтика и дернула его так, что он полетел по воздуху и упал с глухим стуком, обнаружив маленькую фигурку, скрючившуюся под жутким плетеным устройством готического вида, которое я последний раз видела в комнате мисс Стоунбрук.
Это Ундина.
– Я борнейская речная черепаха! – прокаркала она. – Я тебя испугала, Флавия?
Я не стала радовать ее ответом.
– Ну же, Флавия, признай это. Я напугала тебя до чертиков, да?
– Ладно, – сказала я. – Ты меня напугала. У меня сердце превратилось в лимонное желе.
– Вот это больше похоже на правду, – обрадовалась Ундина, выбираясь из адской клетки и выпрямляясь. – Ты была не в сейчас, Флавия?
– Что? – переспросила я.
– Ибу всегда говорила, что Аристотель велел нам жить в сейчас. Но ты жила не в сейчас, да? Вот почему я смогла напугать тебя и твое сердце превратилось в лимонное желе?
Маленькая проныра была права. Именно сейчас я была не в сейчас. Я обдумывала одну проблему.
– Тетушка Фелисити убьет тебя, – заметила я. – Ты сломала ее зонтик. Он работы Уильяма Морриса, семейное наследие.
– Я только отпилила ручку, – сказала Ундина. – Он нужен был мне для панциря. Ты же не можешь сделать борнейскую речную черепаху без панциря, верно? Иначе куда девать внутренности? Кроме того, птицы заклевали бы ее до смерти. Ты знаешь, что греческий драматург Эсхил был убит птицей, уронившей черепаху на его лысую голову? Ибу рассказывала, что прорицатель предрек ему смерть от падающего предмета и он жил на природе, чтобы избежать гибели. Ибу говорила, что это идеальный пример поэтического правосудия.
– Послушай, – сказала я, – мы можем поговорить об этом позже? Я еще не завтракала и умираю от голода.
– Завтрак может подождать, – с удивительной властностью в голосе произнесла Ундина. – На самом деле я пришла к тебе. Нам нужно поговорить наедине.
– О чем?
– Возвращайся в спальню, – сказала Ундина. – Это не тема для публичной дискуссии.
Не то чтобы мы находились в зале продажи билетов на вокзале Святого Панкраса. Это отдаленное полузаброшенное восточное крыло небольшой сельской усадьбы на задворках нигде. За деревянными панелями не прячутся шпионы, да и вообще никому нет дела, о чем мы разговариваем.
Ундина поднесла указательный палец к губам.
И внезапно до меня дошло. Она пришла с информацией о миссионерках. Она же была в их комнатах. Корректирующий корсет мисс Стоунбрук тому доказательство.
Я открыла дверь, и Ундина втащила внутрь плетеное чудище, которое после использования в качестве борнейской речной черепахи выглядело как результат крушения примитивного аэроплана – штуки на манер, которую мальчишки вроде Дитера использовали, чтобы планировать с черепичных крыш, порой с трагическими последствиями.
– Садись, – велела Ундина, вытаскивая на середину комнаты стул с прямой спинкой.
– Зачем?
– Не задавай вопросов, – сказала она. – Делай, что говорят.
К собственному ужасу, я послушалась.
Ундина начала ходить по спальне взад-вперед, сначала сцепив руки за спиной, потом заламывая их перед грудью, словно от горя.
Она драматически откашлялась и заговорила:
– Каково мое место в этом доме? Как ты его видишь?
Она застала меня врасплох.
– Я… я… Ты часть семьи, – ответила я.
– Помимо этого? – требовательно спросила Ундина, пронзая меня взором.
– Ну… ты одна из нас. По крови. Мы тебя любим.
– Это все?
– Ну… да. Нет, я не понимаю, к чему ты клонишь.
Ундина раздраженно фыркнула.
– Ты хотя бы раз задумывалась о моих чувствах? – вопросила она ледяным тоном.
О чувствах?
О чем она? Эту девочку привезла в Букшоу ее покойная мать Лена де Люс из корнуольских де Люсов, по всей видимости лично ответственная за гибель моей матери.
Когда сама Лена плохо кончила («Гореть ей в аду», – однажды ляпнула миссис Мюллет), мы взяли эту девочку в дом, как берут маленького кролика, найденного в чистом поле.
Почему мне то и дело приходят на ум образы спасения маленьких животных? Может, это вызванные гормонами галлюцинации?
Хотя недавно я читала великий труд профессора Маршалла о биологической и клинической химии, я бы под дулом пистолета не вспомнила, что он писал конкретно по этой теме.
– Я думаю о чувствах всех людей, – ответила я. Но правда ли это?
– Я скажу тебе о своих чувствах, – продолжила Ундина. – Ты будешь сидеть и слушать. А потом скажешь мне, что ты думаешь на эту тему.
У меня закружилась голова.
– Ладно, – согласилась я. – Пли. Расскажи мне, что ты чувствуешь.
– Удрученность, – объявила Ундина.
– Прошу прощения.
– Удрученность, – повторила она. – Ты не знаешь, что означает это слово?
– Разумеется, знаю, – возразила я, хотя на самом деле понятия не имела.
– Это значит, что человек тяготится, его гнетет какая-то ноша, как правило неприятная, что-то его беспокоит. У-д-р-у-ч-е-н-н-о-с-т-ь – так это пишется по буквам, и это то, что я чувствую. Удрученность.
– Почему? – поинтересовалась я.
– Я не просила, чтобы меня сюда привозили. – Она снова начала ходить взад-вперед по комнате. – У меня не было выбора. Я чувствую, что я здесь лишняя. Никому не нужная. Поэтому я ощущаю себя удрученной.
Она вытерла руки: «А теперь скажи мне, что ты думаешь?»
– Мне грустно от этого, – ответила я.
Ундина долго пялилась на меня, потом яростно замотала головой, словно выбравшийся из воды ретривер.
– Спасибо, что выслушала меня, Флавия, – сказала она. – Рада, что мы поговорили об этом. А теперь пошли завтракать. Мой желудок считает, что мне перерезали горло.
Я сидела над селедкой и рассматривала эту странную маленькую девочку, которая внезапно так напомнила мне меня саму.
– Где ты взяла эту штуку? – спросила я, понизив голос и наклонившись к ней.
– Так и знала, что ты заинтересуешься, – сказала Ундина. – Именно поэтому я позаимствовала ее из комнаты мисс Стоунбрук.
– Ты не боялась, что тебя поймают?
– Поймают? – Она захихикала. – Меня? Я просто маленькая девочка. Хотела сделать ракету из этой штуки, вот и все.
Я не стала говорить ей, что уже изучила этот предмет, это будет жестоко.
– Спасибо, что позаботилась об мне, – поблагодарила я. – Что ты об этом думаешь?
Ундина растопырила пальцы левой руки и начала загибать их по очереди:
– Один – это костюм. Два – она актриса. Три – это часть маскарадного наряда, и она преступница. Четыре – у нее какая-то тропическая болезнь, и ей нужно, чтобы одежда не касалась нижней части тела.
– Отлично, – восхитилась я. Я не подумала ни о чем таком.
Ундина ухмыльнулась, словно гоблин.
– А, вот ты где! – сказала миссис Мюллет, входя в комнату и уставившись на Ундину. – И чего ты желаешь на завтрак?
– Яйца по-шотландски, – тут же отозвалась Ундина. – И подержите их подольше. Ибу всегда так говорила официанту, когда мы останавливались в роскошных отелях.
– Не сомневаюсь, милочка, – сказала миссис Мюллет. – Должно быть, это было забавно. А теперь сколько тостов ты хочешь?
«Роллс-ройс» довольно мурлыкал, как котенок. Казалось, что он счастлив растянуть свои механические мышцы в долгом пути в Лондон и за его пределы.
– Ундина подает надежды, – заметила я, позволив своим словам заманчиво повиснуть в воздухе.
– Хорошо, – сказал Доггер.
Снаружи деревья, холмы и небо проносились в бесконечной панораме осени. Фермеры собирали последний урожай в полях, их машины ползали по земле, словно жуки.
– Она очень странная, – добавила я.
Над отдаленным холмом косыми струями хлестал дождь из темной тучи, волновавшейся на фоне безбрежной белизны сияющего неба.
– Да, – согласился Доггер. – Но, если задуматься, мисс Флавия, мы все странные люди.
Остаток пути прошел в относительном молчании.
За время нашего отсутствия аббатство Голлингфорд не изменилось. Когда я сказала об этом, Доггер ответил: «В тюрьмах и больницах перемены не приветствуются. Только неизменность делает их терпимыми для пленников в их стенах».
Мы припарковались на маленьком полумесяце из гравия рядом со входом.
Мы поднимались по ступенькам, когда из вестибюля вышел довольно полный человек в белой куртке и остроконечной шапке. Он был похож на привратника.
– Кого-то ищешь, друг? – спросил он у Доггера.
– Да-да, – ответил Доггер. – Как вас зовут?
– Куртрайт, – ответил мужчина, приподнимая свою шапку и возвращая ее на место с широкой улыбкой. – Гилберт С. Куртрайт. Можете называть меня Гил, как все. Даже те, над кем я начальствую.
– Спасибо, Гилберт, – продолжил Доггер. – Будем премного обязаны, если вы проведете нас к доктору Брокену.
– Доктору Огастесу Брокену? – уточнил Гил, снова снимая шапку и уставившись в нее, как будто на подкладке напечатаны дальнейшие инструкции.
– Верно, – сказал Доггер. – Думаю, он нас ожидает.
И это правда, внезапно поняла я. Доггер часто делает предположения, резонирующие с миром других людей и связывающие наши миры практически без усилий. Это искусство, которым я восхищаюсь и которое надеюсь однажды постичь.
– А! Доктор Брокен, – повторил Гил. – Он хитрец, да?
– Прошу прощения? – Доггер выгнул брови.
– Это шутка, друг. Мы все так говорим. Он любит тишину и спокойствие. Никаких проблем с ним. В хороший день мы выкатываем его на солнце утром и возвращаем вечером – вместе с простынями.
– У вас развитое чувство юмора, Гилберт, – заметил Доггер.
– В месте вроде этого ничего другого не остается. Или с дуба рухнешь.
– С дуба? – переспросил Доггер.
– Съедешь с катушек. Чокнешься.
– А, – сказал Доггер. – И где же нам найти доктора Брокена.
Гил обвел рукой окрестности.
– Третий дуб справа с противоположной стороны.
– Благодарю вас, Гилберт. – Доггер протянул руку, которую Гил с готовностью пожал. – Вы очень любезны.
Мы пошли по лужайке и, оказавшись за пределами слышимости Гила, я сказала Доггеру: «В прошлый раз, когда мы здесь были, дело шло к дождю?»
– Я тоже об этом подумал, – отозвался Доггер.
Мы с легкостью нашли третий дуб справа, и с обратной стороны на деревянной скамейке, окружавшей ствол, сидел доктор Брокен, как нам и сказали. В белом костюме и широкополой шляпе он выглядел тропическим плантатором.
– Добрый день, доктор Брокен, – поздоровался Доггер. – Надеюсь, вы в порядке?
Доктор не ответил.
– Можем мы присесть? – спросил Доггер, указывая на скамью.
И снова тишина.
Хотя я внимательно наблюдала за доктором, я не увидела ни проблеска сознания. С тем же успехом он мог быть вытесан из камня.
– Я бы хотел проинформировать вас, доктор Брокен, – продолжил Доггер, – что ваша дочь миссис Прилл наняла нас найти некие исчезнувшие письма – письма, которые, как она полагает, были у нее похищены.
Я пыталась поймать взгляд Доггера, но он уклонялся. Почему он говорит «она полагает», как будто миссис Прилл еще жива? Доктору кто-то рассказал о ее смерти? И, если да, как он отреагировал?
Доггер снова заговорил:
– До сих пор мы не смогли обнаружить пропавшие документы. Тем не менее, выступая в качестве ее представителей, мы предлагаем обыскать вашу комнату в надежде, что сможем пролить свет на это дело. Вы не возражаете? Вы согласны?
Доктор Брокен и глазом не моргнул.
– Или вы запрещаете? – спросил Доггер.
Внезапный порыв осеннего ветра взметнул листья у нас над головами.
И тут доктор начал задыхаться: небольшой спазм быстро превратился в настоящий приступ.
– Сбегайте в палату доктора Брокена, пожалуйста, – попросил меня Доггер. – Принесите стакан воды.
Я понеслась, как ветер по лужайке, вверх по ступенькам и дальше в вестибюль аббатства. У дверей я замедлила шаг до прогулочного, изображая подростка, которого заставили навестить старого дурнопахнущего родственника. Не стоит привлекать к себе внимания.
Не стоило утруждаться: в поле зрения не было ни души.
Меньше чем через минуту я оказалась в палате тридцать семь и заперлась изнутри.
Что касается воды, это меня не волновало. Доггер сказал: «Сбегайте в палату доктора Брокена». Именно это он и имел в виду.
Если бы он хотел воды, он попросил бы меня сбегать за водой и не более.
Я получила от него зашифрованную инструкцию и поняла ее правильно. Я знаю, что мне нужно сделать.
Со времени нашего последнего визита комната не изменилась. Выкрашенная в больничный цвет молока, с которого сняли все сливки до единой капли, палата была обставлена кроватью, стулом, столом и шкафом.
Грустно думать, что жизнь заканчивается вот так.
Я хорошенько обыскала кровать, стол, матрас и подушки и не нашла ничего необычного. Открутила металлические ножки кровати, заглянула в них, перевернула стул, чтобы изучить дно сиденья, перерыла шкаф – безрезультатно.
Ничего.
Хотя процесс занял у меня не больше десяти минут, из-за спертого воздуха мне показалось, что прошла вечность. Доггер ждет меня с водой, пусть даже только для видимости. Он вполне способен справиться с приступом удушья без моей помощи.
Я подошла к окну, чтобы попытаться найти дуб, где они сидят с доктором Брокеном. Может, они уже возвращаются.
Когда я задела занавеску, что-то упало к моим ногам.
Я встала на колени и подняла край портьеры, тяжелой дешевой красной мешковины, которая при необходимости могла использоваться для затемнения комнаты в дневное время.
Это свинец, вшитый в ткань, чтобы она висела ровно и не собиралась сборками?
Больницы не утруждают себя подобной роскошью. Практичность превыше всего. Даже птицы на дешевых обоях предназначены для того, чтобы успокаивать, создавать иллюзию свободы и нахождения за пределами стен.
Я ощупала низ портьеры.
Ага! Тут что-то есть. Что-то прямоугольное.
Я выдавливала эту штуку вдоль нижней кромки, пока она – шлеп! – не упала на пол.
Шов с краю был подпорот. Я нашла тайник доктора.
Я подняла предмет и подняла его на свет.
Это был бумажник, и необычный – удивительно тяжелый, с серебряными уголками и печатью дорогого мастера с Бонд-стрит.
Деньги меня не заинтересовали, хотя я заметила, что там несколько сотен фунтов в купюрах. Рядом с деньгами лежали сложенные письма и с полдюжины визитных карточек (Огастес Брокен, «Бальзамический электуарий Брокена», Ховерфорд Хаус, Лондон, УС) с изящной и аккуратной гравировкой зеленым и белым, которые просто кричали о времяпрепровождении за пределами больницы. В маленьком выпуклом кармашке для монет лежал билет на поезд.
Я держала кошелек в руке, когда в дверь постучали.
– Откройте!
Я узнала голос. Это Гил.
Я сунула письма и билет в карман, вернула бумажник на место и встала на ноги.
Бросилась к раковине, наполнила стакан водой и подошла к двери. Сосредоточенно прикусив язык, я молча и медленно отодвинула засов.
– Толкните плечом! – крикнула я и отошла.
Дверь с треском распахнулась, и Гил влетел в палату, размахивая руками, чтобы восстановить равновесие.
– О, спасибо вам, Гил, – сказала я, заставляя руку и стакан с водой в ней заметно дрожать. – Замок, должно быть, заело. Я не могла выйти. Вы меня спасли.
Он продолжал двигаться – медленно, но угрожающе – по направлению ко мне.
Собравшись с силами, я сделала шаг вперед и клюнула его в щеку.
Ну, по правде говоря, не то чтобы клюнула, а скорее обслюнявила. Это остановило его на пути настолько же эффективно, как если бы его ударили по лицу камбалой.
Он потрогал место, куда я его поцеловала, с таким изумлением, словно я принцесса, а он лягушка.
И тут он начал заливаться краской – сначала розовой, которая быстро прошла через все оттенки до ярко-красной.
Я подумала, что он сейчас взорвется.
А потом так же быстро краснота отступила. Я видела, как он берет себя в руки.
– Вам не следует здесь находиться, мисс, – конфиденциально сказал он. – Вход в палаты в отсутствие пациента строго запрещен.
Я поняла, что он цитирует какой-то официальный документ, демонстрирует силу невидимых составителей правил, чьи приказы соблюдаются, только когда их нарушает кто-то вроде меня.
– Извините, – сказала я, поскольку от меня ждали этого ответа. – Но доктор Брокен начал задыхаться, и ему потребовался стакан воды.
– Надо было попросить у медсестры, – сказал Гилберт. – На первом этаже достаточно мест, где это можно сделать.
Он продолжал болтать: мне надо было сделать то-то и то-то, вот это, потом это и это.
У всех официальных лиц я замечаю одно и то же. Как только они ловят нарушителя, то начинают читать мораль до тех пор, пока коровы не то что придут домой, но поужинают, наденут фланелевые пижамы, заберутся в кровать, послушают сказку на ночь, выключат свет и уплывут в сны, где им приснятся новые пастбища.
Есть только один способ справиться с ними.
– Вы абсолютно правы, мистер Куртрайт, – сказала я. – Мне следовало подумать об этом. Должна сделать комплимент вашей бдительности. Что я могу сделать, чтобы искупить вину?
В таких случаях нельзя подмазать слишком сильно. То, чего хочет тиран, – это полное и безусловное раскаяние. Что-то меньшее – потеря времени.
– Небольшой взнос в фонд старшей медсестры? – предложила я. – Или хвалебное письмо заведующему?
Я остановилась перед тем, как предложить воздвигнуть ему бронзовый памятник в парке с открытым в безмолвном вопле ртом и указующим перстом в назидание всем нарушителям правил.
Было заметно, что он остывает. Надзиратели не любят принимать решения.
– Просто больше этого не делай, – пробурчал он.
Если бы положение действительно было критическим, доктор Брокен уже бы задохнулся.
– У вас есть часы, мистер Куртрайт? – спросила я. – Нам нельзя опоздать на поезд.
Куртрайт отвернул рукав и быстро глянул на часы – довольно дорогую вещь с несколькими циферблатами больше напоказ, чем практичности ради.
– Половина второго, – неохотно ответил он.
– Мне пора, – сказала я, собираясь уходить. – Я не забуду вечером помолиться о тех, кто имеет над нами власть, чтобы Господь направил их сердца и укрепил их руки и они могли карать безнравственность и пороки.
И я сбежала, пока он не остановил меня резким замечанием.
Доггер молча сидел на скамейке рядом с доктором Брокеном.
– Спасибо, – сказал он, когда я протянула ему стакан воды. И глотнул. – Ах, как освежает. Работал насухую.
– Он в порядке? – Я показала на молчащего доктора.
– Как огурчик, – ответил Доггер, вставая. – Благодарю вас, доктор Брокен. Вы очень помогли нам.
Думаю, он знал, о чем говорит.