Глава 38
Подлинный юг
Через пять дней полицейские вновь пришли за Винсентом. Он был слишком пьян, чтобы сопротивляться. На этот раз жандармы закрыли все ставни, заперли на замок и опечатали дверь, словно подразумевая, что жилец сюда больше не вернется.
Винсент, которого уже некоторое время мучили подозрения о заговоре соседей с целью отравить его, оказался почти прав. За исключением разве того, что горожане сумели отравить ему жизнь, не прибегая к яду или сглазу, но тайно обратившись к городским властям. «Гражданин Голландии по имени Вод (Винсент), – писали они, коверкая имя художника, – уже несколько раз на протяжении некоторого времени доказал, что не находится в здравом уме. Он регулярно злоупотребляет алкоголем, из-за чего пребывает в состоянии такого возбуждения, что не отдает себе ни малейшего отчета в том, что делает и что говорит». «Возбуждение» и «неуравновешенность» Винсента, по словам жителей площади Ламартин, заставляли их существовать в постоянном страхе за жен и детей. «Во имя сохранения общественного порядка» они требовали, чтобы сосед-художник был «как можно скорее возвращен в семью» либо незамедлительно определен в психиатрическую лечебницу, «дабы предупредить разнообразные беды, которые определенно случатся, если не предпринять решительных мер».
Заявление подписали тридцать человек (сам Винсент ошибочно считал, что «подписей было более восьмидесяти»). Недовольство горожан соседством с эксцентричным голландцем, возникшее практически одновременно с прибытием Винсента в Арль, в этом единодушном протесте достигло своего апогея. Еще до рождественских событий дети жестоко дразнили «ненормального художника», признавался впоследствии один из повзрослевших участников этой травли. После декабрьских безобразий его стали сторониться и взрослые. Когда Винсент шел по улице, горожане многозначительно шептали друг другу: «Fada!» – так на южном диалекте называли умалишенных. Проститутки в борделе прозвали его fou roux – «Рыжий Псих». Походка Винсента, его привычка часто моргать, тирады на непонятном голландском и неловкие попытки изъясняться на местном диалекте – все это начинало выглядеть угрожающе.
В арльском обществе, где многие, как и прежде, верили в одержимость дьяволом, насмешки быстро переросли в подозрения. Вторая госпитализация в феврале только усугубила ситуацию. Теперь мальчишки кидались в Винсента не объедками, а камнями. Подливало масла в огонь и пьяное презрение Ван Гога к своим недоброжелателям: их страхи он называл «абсурдными», а их самих – суеверными провинциалами. Убежденный в необходимости дать жестокий отпор отсталым предрассудкам, Винсент отвечал обидчикам их же оружием. Самое страшное они с ним уже сделали, горько сетовал Винсент: «Что может быть хуже одиночки для буйнопомешанных – места, где я и так побывал уже дважды?» Регулярные ссоры с хозяином дома (ему принадлежали и другие дома в округе) могли подтолкнуть соседей к тому, чтобы обратиться в полицию. К концу февраля Винсенту приходилось посылать по делам свою домработницу, сам он выходить на улицу уже не решался.
Лишь только петиция была направлена властям, месяцами копившиеся слухи и личные претензии стали достоянием общественности. После происшедшего год назад инцидента с владельцем ресторана Каррелем начальник местной полиции наверняка отметил Винсента как нарушителя общественного порядка; теперь же он послал жандармов, чтобы те собрали показания соседей в поддержку выдвинутого в петиции обвинения (говоря официальным языком изданного мэром распоряжения: «С целью установить степень сумасшествия Ван Гоха» – в документе фамилия возмутителя спокойствия вновь была исковеркана). Со слов свидетелей (были указаны только их возраст, пол и профессия) жандармы заносили в протокол безумную смесь фактов, сплетен и подозрений. Соседи сообщали, будто Винсент преследовал их детей на улице с намерением «причинить им вред», что он слишком много пил и что речь его была бессмысленной.
Одна женщина, портниха сорока двух лет от роду, жаловалась, что художник «схватил ее за талию и поднял в воздух». Остальные в более общих выражениях сообщали, что регулярно наблюдали, как Винсент «постоянно пытался потрогать соседских женщин» и «позволял себе поглаживать их». По словам другого свидетеля, Ван Гог «делал неприличные замечания в присутствии» женщин. Зеленщик Франсуа Кревулен описывал, как Висент, приходя к нему в лавку, располагавшуюся в том же Желтом доме, «оскорблял покупателей и трогал женщин». Сразу несколько свидетелей показали, что Ван Гог имел привычку увязываться за женщинами на улице и преследовать их до самых дверей их домов – и даже заходить внутрь, – так что жительницы города «не чувствовали себя в безопасности». Большинство свидетелей были убеждены в сумасшествии Винсента, назвали его «тронутым» и «ненормальным», уверяли, что он, несомненно, представляет опасность для окружающих, и требовали поместить его в специальную лечебницу или изолировать любым другим способом.
Оказавшись вновь заточенным в знакомой палате арльского Hôtel Dieu, в письме к Тео Винсент с негодованием клеймил своих обидчиков: «Можешь вообразить, каким сокрушительным ударом было для меня узнать, что меня окружает такое множество трусливых людей, способных объединиться против одного, да еще больного, человека». Не стесняясь в выражениях, он называл горожан «идиотами, которые во все суются», «злобными бездельниками», «сборищем подлецов и трусов», только и мечтавших отравить ему жизнь. Судя по всему, Винсент надеялся, что дело будет заслушано в присутствии мэра или кого-то из чиновников («Мне есть что сказать в ответ на все это») и тогда он бы мог изложить все доводы, которые крутились у него в голове, – накопившиеся за целую жизнь доводы против предрассудков и бесконечных заговоров. Винсент был убежден: соседи раздувают из мухи слона – и высмеивал тех, кто полагал, что он представляет опасность для кого-либо, кроме себя самого.
Я решительно сказал в ответ, что не возражаю пойти и броситься в воду, например, если так смогу раз и навсегда осчастливить этих добродетельных типов, что, хотя я поранил самого себя, уж точно не причинил никакого вреда никому из этих людей.
Относительно же странного поведения, подробно описанного в петиции, Винсент утверждал, что сами жалобщики его и спровоцировали. «Я сохранил бы больше спокойствия, если бы полиция защитила мою свободу и не позволяла детям и даже взрослым собираться вокруг моего жилья и залезать ко мне в окна, как они это делали (будто я какое-то диковинное животное)», – оправдывался он. Любой на его месте взял бы револьвер и, не сдержавшись, «пристрелил нескольких болванов», уверял Винсент. Желая отплатить своим мучителям той же монетой, Винсент вздумал требовать компенсации за причиненные ему неудобства. «Если эти ребята снова вздумают жаловаться на меня, я отвечу им тем же, и тогда им придется по доброй воле возместить мне причиненный ущерб, а именно – вернуть мне то, чего я лишился из-за их невежества».
Претендуя на звание мученика, Винсент сравнивал себя с героическими личностями, вроде Виктора Гюго, жертвами клеветы и злобного недоброжелательства, обреченными страдать в тюрьме или, что еще хуже, служить «вечным примером» будущим поколениям. Что бы он ни делал, он делал это во имя нового искусства, которое называл «первой и главной причиной» своего душевного расстройства. И если оно приносило ему боль или унижение от рук дураков и трусов, то так тому и быть. «Художник – это человек, занятый работой, и не дело позволять первому встречному добивать его», – гордо заявлял он. И все же Винсент был убежден, что «весь этот шум пойдет на пользу „импрессионизму“».
После того как врачи тоже отказались встать на сторону художника, Винсент еще острее ощутил себя всеми преданным несчастным мучеником. Изначально он охотно согласился с пастором Салем, что «судьями в подобном деле должны быть врачи, а не комиссар полиции». Но после нескольких неожиданных и острых рецидивов его болезни медики предпочли впредь придерживаться более осторожной позиции. Они никак не могли определиться с диагнозом – то предполагали, что у больного рак, то сходились на эпилепсии – и не осмеливались предсказать, когда ожидать, и ожидать ли вообще, новых приступов. Один из них, доктор Делон, уже предоставил в полицию отчет, в котором подтверждал «психическое расстройство» Ван Гога и поддерживал прошение о выдворении больного из города. Даже Рей, считавший, по словам Саля, «проявлением жестокости регулярное помещение в карцер человека, который никому не причинил вреда», не стал возражать против официального заключения, согласно которому Винсент представлял потенциальную «угрозу общественному порядку». В любом случае, что мог сделать молодой интерн против исполненного решимости комиссара полиции, разъяренного домовладельца, малодушного мэра и напуганных горожан?
Сколько Винсент ни возмущался, весь последующий месяц – с 25 февраля по 23 марта – ему пришлось провести в городской больнице. Почти все это время он просидел «под замком», один, под наблюдением. Ван Гог навредил сам себе: чем активнее он бунтовал против несправедливого заточения, тем сильнее окружающие верили, что он действительно буйнопомешанный. На собственном горьком опыте Винсент убедился, что изоляция – не худшее из возможных наказаний. Его тюремщики забрали у него не только фляжку с выпивкой, но и трубку с табаком. Ему было запрещено читать и выходить на прогулки. Саль принес из Желтого дома немного красок и кисти, но, как писал пастор, это привело Винсента в «дикое состояние», и художественные принадлежности быстро забрали. «Мне не хватает работы», – жаловался Винсент. «Работа развлекает меня или, вернее, не дает распускаться». Несколько недель он никому не писал и ни от кого не получал писем. Кроме Саля, который изредка приходил навестить его, Винсент ни с кем не общался. За исключением докторов, которые, по его словам, «налетели» на своего пациента, точно «осы на плод». При этом у него не было ни малейшей возможности уединиться – наблюдение не прекращалось ни днем ни ночью.
Унижение и несправедливость стали причиной «неописуемых моральных страданий». Каждый новый приступ заставлял Винсента заново переживать шок и отвращение к своему положению. Обуреваемый «глубочайшим раскаянием», испытывая «отвращение к жизни», в ожидании нового приступа Винсент погружался в долгое мрачное молчание. И каждый раз все повторялось сначала: он опять лежал, раздетый донага, привязанный к больничной койке, и смотрел в темноту, обхватив голову руками, снова и снова переживал свою историю, вспоминал книги и людей, которых любил, воображал, какие картины мог бы написать, и составлял мысленный перечень ошибок и неудач, приведших его в столь мрачное место. «Сколько страданий, и все это, так сказать, на пустом месте. Что скрывать, я предпочел бы умереть, чем быть причиной стольких неприятностей для других и самого себя».
За месяц до свадьбы, назначенной на 18 апреля, жизнь Тео била ключом. Выставка Моне в мансарде имела огромный успех, особенно после того, как критик Октав Мирбо разразился «восторженными излияниями» в газете «Фигаро». «Я был в совершеннейшем изумлении, – признавался Тео Йоханне. – Из-за этой выставки мы просто сбились с ног». В редкие свободные дни Тео навещал брата Йоханны Андриса и его супругу в фешенебельном столичном пригороде Пасси, где будущие родственники совершали приятные прогулки по зеленым лесам. В городе младший Ван Гог проводил вечера с друзьями: начиналось все, как правило, с ужина, затем все шли в театр или на концерт, а после вели разговоры в кафе на бульварах, расходясь далеко за полночь.
По желанию Йоханны Тео прослушал «прелестную» Седьмую симфонию Бетховена и комическую оперу Лекока «Маленький герцог» – сладкую, как содержимое бонбоньерки, историю о наивной любви и юношеском кокетстве, напомнившую ему о Йоханне уже в ином ключе. Приходили с визитами дальние знакомые и голландские родственники с пожеланиями счастья в преддверии свадьбы. И как бы долго Тео ни задерживался вечерами, он никогда не возвращался в пустой дом: его сосед де Хан и сам он часто принимали гостей в квартире на улице Лепик.

Изолятор в арльской больнице
В водовороте событий Тео как-то умудрился спланировать свадебные торжества: выбрал сервиз для праздничного ужина, удачно договорился о месте проведения банкета и аренде фраков, распределил денежные подарки между родственниками, договорился со свидетелями и начал уже раздумывать, где бы провести медовый месяц, не забывая заодно интересоваться, как у себя в Голландии Йоханна справляется со своей частью свадебных хлопот («Как поживает твое свадебное платье?»).
Но главное, надо было подготовить новую квартиру – на это по-прежнему уходило очень много сил, – выбор мебели, тканей и обоев порой оказывался мучительным. «Маляры и декораторы закончили работу, но, увы, оказывается, далеко не у всех французов хороший вкус», – писал Тео 25 февраля, в тот самый день, когда Винсента во второй раз увели из дома полицейские. В новой квартире уже развешивали картины, Тео улаживал последние дела, и образцы обоев по-прежнему курсировали в письмах между Парижем и Амстердамом. «Я уже боюсь, что получится слишком мило», – беспокоился он.
Вся эта повседневная суета разворачивалась на фоне внушительной переписки – Тео писал по три-четыре письма в неделю, заново переживая события каждого дня в той реальности, которая сейчас была для него важнее всего: в пространстве любви к Йоханне и мыслей о совместном будущем. «Как я благодарен за то, что перестал быть одиноким, а моя жизнь теперь не бесцельна», – писал он невесте 7 марта. В первый день весны Тео распахнул окна в новой квартире и почувствовал дыхание свежего ветра будущего. «Вдруг заиграл на гитаре уличный музыкант, а девочка лет десяти стала ему подпевать, – вдохновенно писал он Йоханне. – Ее мягкий негромкий голос дрожал в воздухе, выпевая слова, которые было трудно разобрать, – что-то вроде „printemps“, „amour“, „lumièr“. Дражайшая моя, это тебя я должен благодарить за эту минуту». Тео называл невесту «ненаглядной», «горошинкой», «будущей женушкой», она же обращалась к нему «дражайший муженек». Оба считали дни до того момента, когда они снова смогут быть вместе. За шесть с лишним недель до дня свадьбы Тео уже сообщил Йоханне точную дату своего возвращения в Амстердам.
Имя Винсента упоминалось хоть раз в каждом письме: «Из Арля никаких новостей». Порой ясные небеса будущих молодоженов омрачала черная туча – как это случилось в конце февраля, когда Винсента опять поместили в больницу. «На этот раз по просьбе соседей, которые, вероятно, его боятся», – сообщал Тео. К середине марта разговоры о далеком брате свелись к коротким репликам: «Что в Арле?» «Что за досадное пятно посреди безоблачного неба», – сетовал Тео.
Пастор Саль тем временем становился все настойчивей. «Необходимо принять решение, – требовал он, сообщая Тео о третьей принудительной госпитализации Винсента. – Каковы Ваши намерения: Вы собираетесь забрать брата к себе, планируете поместить его в заведение по собственному выбору или же предпочитаете оставить все на откуп полиции? Настал момент, когда нам уже не обойтись без решительного ответа».
На протяжении двух месяцев Тео успешно игнорировал рекомендации перевести Винсента в лечебницу в Эксе или Марселе, где он находился бы под надзором специалистов. Не желая предпринимать оскорбительных для брата действий («Недопустимо, чтобы кто-либо, пусть даже ты или доктор, решился на подобный шаг, не предупредив и не посоветовавшись со мной») и по-прежнему надеясь на исцеление, Тео упорно ждал, что все как-нибудь решится само собой: «Я думаю, единственное, чем мы можем ему помочь, – это позволить поступать так, как он пожелает». Врожденная осторожность заставляла его поддерживать поочередно то благочестивый оптимизм Саля, то почтительную нерешительность Рея, то нежелание брата продолжать лечение («Позволь мне спокойно продолжать работу; если же окажется, что это работа сумасшедшего, что ж, тем хуже»). Неожиданные изменения состояния Винсента, спровоцированные его неведомой болезнью, также не способствовали решительности Тео, который метался между надеждой и обреченностью.
Но если отправить брата в психиатрическую лечебницу было трудно, то привезти его домой – просто немыслимо. К недоумению Саля и Рея (еще 30 декабря 1888 г. в письме к Тео последний выражал уверенность, что пребывание в кругу семьи благотворно сказалось бы на здоровье пациента), младший Ван Гог с самого начала уклонялся от разговоров на эту тему. Предложение сестры Вил перевезти Винсента в Бреду, где она жила со стареющей матерью, Тео также решительно отклонил. «Вот бы Винсент вернулся домой, – писала она. – Ведь это так неестественно, что о нем заботятся другие, а мы ничего для него не делаем. Для меня невыносима мысль об этом». Но, по признанию самой Вил, матери эта идея не нравилась. И теперь, накануне четвертой годовщины преждевременной кончины мужа, она все еще не могла простить сына.
Но Йоханна, в феврале навестившая будущих свекровь и невестку, тоже не пожелала остаться в стороне. «Дорогой Тео, – ласково интересовалась она, – возможно, то, что я скажу, покажется тебе глупым и бестактным, но нельзя ли Винсенту вернуться домой, как любому обычному человеку, который заболел?» Тронутая словами Тео в защиту брата – «возвышенного и благородного духом», – она рассудила, что Винсенту будет лучше в «спокойной, дружелюбной обстановке», а не в больнице или в одиночестве. «Это успокоило бы его нервы, тогда как одиночество, мне кажется, только вернет его в тревожное состояние». А если не в Бреду, то почему бы не в Париж? «Будь он в Париже, ты мог бы без труда навещать его. А сейчас он по-прежнему один и так далеко от нас», – осторожно предлагала Йоханна.
Тео же лихорадочно перечислял причины, почему такое решение проблемы, казавшееся самым очевидным, было неудачным. «Если бы ты только знала его, то вдвойне оценила бы, насколько сложно решить, что можно и что до́лжно сделать… То, как он одевается, то, как ведет себя, – все указывает, что он не такой, как все, и вот уже много лет все, кто видел его, говорят – c’est un fou». Тео допускал, что для художника подобное поведение простительно и даже дает ему преимущество («Многие художники сходили с ума и все же начинали создавать истинное искусство»), но настаивал, что «дома это неприемлемо».
Тео пересказал невесте историю неудач Винсента в Париже, когда модели отказывались позировать художнику, прохожие задирали его, а полицейские прогоняли с улицы, когда он пытался работать. «К концу своего пребывания он был по горло сыт Парижем», – писал Тео. А Париж – по горло сыт Винсентом Ван Гогом. «С ним с трудом ладят даже те, кого можно назвать его лучшими друзьями, – пытался объяснить Йоханне жених. – В его манере разговаривать есть нечто, из-за чего люди либо очаровываются им, либо находят его невыносимым». Тео намекал, что Винсент пария даже среди коллег-художников (загадочно упоминая о «множестве врагов»), и мягко разубеждал Йоханну, уверенную в благотворном влиянии мирной семейной обстановки. «Для него не существует такого понятия, как мирная жизнь в кругу семьи… Он не щадит ничего и никого».
Наконец Тео обратился за поддержкой к Луи Риве, врачу, который лечил Винсента в Париже и наблюдал самого Тео в связи с «нервным расстройством», – за этим диагнозом на самом деле скрывался неумолимо прогрессировавший сифилис. «Риве утверждает, и я с ним согласен, что лучше поместить [Винсента] в самую дурную больницу, чем он будет следить за собой сам, – даже если он будет хорошо себя чувствовать, – сообщал младший Ван Гог в начале марта. – Он настойчиво советовал мне пока не привозить его сюда, поскольку он может представлять опасность как для самого себя, так и для других». На вопрос, почему бы не перевести Винсента в частную клинику в Париже или в одном из пригородов, где брат, как отмечала Йоханна, мог бы навещать его, у Риве, по словам Тео, тоже был готов ответ: «Как правило, лечебные заведения [во Франции] отлично оборудованы и… пациенты, за которыми присматривают бесплатно, получают тот же уход и лечение, как и те, кто платит».
Тео, конечно, ничего не писал Винсенту про деньги, чьи письма пронизывало чувство вины за каждый франк, потраченный на лечение, и за каждый день, проведенный не за работой, которая позволила бы возместить растущий долг. «Если запирать меня в палате необязательно, – писал он в январе, – я смог бы продолжить выплачивать свой долг, который по-прежнему за собой числю». Тео затронул этот вопрос в письме Йоханне, признавшись, какими вложениями рискуют братья. «Хотя он ничего не понимает в деньгах, – писал Тео, защищая придуманную для невесты версию о Винсенте как о человеке бескорыстном и свободном, – он расстроится, если мы потеряем все, что вложили в это предприятие».
Однако сам Тео о деньгах не забывал никогда. Для него, человека, считавшего брак наивысшей формой финансовой ответственности, любое решение или сомнения определяли деньги. Когда сестры Вил и Лис, чтобы помочь оплатить лечение брата, прислали деньги из своей части отцовского наследства, Тео положил их на счет в банк: «Нет причин менять существующую схему лечения [Винсента], а сейчас оно бесплатно». Он понимал: если сестры истратят свою долю, потом они в какой-то момент все равно призовут его, чтобы возместить недостаток средств либо в виде приданого, либо, если не выйдут замуж, в виде пособия на содержание.
И все же в конце февраля младший брат поддался-таки на простодушные уговоры невесты. Однако терзаемый чувством вины Винсент отказался от предложения Тео приехать в Париж. «С твоей стороны очень мило предложить мне переехать в Париж, но, думаю, суета большого города вряд ли пойдет мне на пользу», – писал Винсент за день до того, как жандармы вторично забрали его в больницу. Должно быть, Тео испытал облегчение, но вряд ли удивился отказу брата. Чтобы смягчить собственное чувство вины, а также пытаясь угодить Йоханне, Тео предложил новый план. В попытке вернуть брату энтузиазм по отношению к его «южному проекту» он даже готов был отправить в Арль еще одного художника. «Больше я ничего не могу придумать, чтобы восстановить его душевное равновесие», – пояснял Тео.
Поначалу он рассматривал только кандидатуры соотечественников, вроде Арнольда Конинга или Мейера де Хана. Однако Винсент, мучимый чувством стыда и вины, отреагировал на эту идею с ужасом: «После того, что случилось со мной, я не смею приглашать сюда других художников и подвергать их риску потерять разум, как потерял его я». Целый месяц план Тео не находил никакого отклика: новости от Винсента приходили все реже, зато подробностей истории с петицией становилось известно все больше. Наконец в середине марта Тео удалось уговорить Поля Синьяка – последний собирался провести ежегодный отпуск в Кассисе, живописной деревеньке на морском побережье в ста двадцати километрах от Арля. «Мой знакомый Синьяк собирается в Арль на следующей неделе, и я надеюсь, он сможет что-нибудь сделать», – неопределенно сообщал Тео Йоханне. «Я почти уже собирался отправиться туда сам, – добавлял он в попытке успокоить невесту, – но это было бы бессмысленно».
Вместо этого, как давно уже было запланировано, Тео отбыл в Голландию. Ночной поезд уходил из Парижа 30 марта – Винсенту в этот день исполнилось тридцать шесть лет.
В Арле Винсенту с Синьяком пришлось взламывать дверь. Чтобы воспрепятствовать проникновению в Желтый дом, жандармы не только заперли ставни и опечатали двери, но еще и испортили замок. Кое-кто из недоброжелательно настроенных соседей попытался помешать возвращению сумасшедшего художника и спровоцировал ссору, из-за чего к дому в очередной раз прибыла полиция. Но Синьяку удалось их успокоить: оказалось, что взламывать двери он мог столь же убедительно, как и создавать произведения живописи. «Он вел себя очень здорово, очень прямо и просто, – восхищался Винсент. – Сначала нас не хотели впускать в дом, но в конце концов мы все же смогли войти».
После случайных встреч на берегах Сены за два года до этого художники не виделись и не переписывались. Винсент же день, проведенный с Синьяком, описывал так, будто впервые познакомился с двадцатипятилетним Полем. «Синьяк показался мне очень спокойным, хотя его и считают весьма несдержанным. Но на меня он произвел впечатление человека уравновешенного и знающего себе цену». Они встретились в больнице и, после того как доктор Рей впервые за месяц позволил Винсенту покинуть госпиталь, отправились в город. Когда художники проникли наконец в Желтый дом, Ван Гог показал Синьяку свои картины и даже подарил младшему коллеге одну из них. Они беседовали обо всем: об искусстве, импрессионизме, литературе, политике, – проведя в одиночестве целый месяц, Винсент наконец получил возможность озвучить внутренний монолог.
Ван Гог обрушил на Синьяка все горести и беды, печальный перечень которых был адресован совсем другому человеку. Винсент жаловался на отсутствие приватности в больнице и говорил о возможном переезде в Париж с такой настойчивостью, какой никогда не проявлял в общении с Тео. Он досадовал на дороговизну пребывания в больнице и бранил городские власти за постоянные попытки лишить его свободы, недвусмысленно обвиняя Тео в нежелании спасти старшего брата, в стремлении спихнуть свои братские обязанности на практически незнакомого человека. Подобные мысли «расстраивали» Ван Гога, как впоследствии вспоминал Синьяк, списывая переменчивость в настроениях коллеги на «ужасный мистраль», от которого хлопали оконные рамы. В какой-то момент Винсент распалился до такой степени, что потянулся к бутылке скипидара – в отчаянной попытке заменить им давно запрещенный алкоголь – и начал его пить.
По мере того как брак Тео становился все более реальным, хрупкий мир Винсента все явственнее трещал по швам. Долгие месяцы он отрицал этот факт. После рождественского приступа, когда к нему вернулось сознание, Винсент был склонен трактовать событие не как грядущую женитьбу брата, но как его долгожданное примирение с Андрисом Бонгером. «Не могу передать, как меня радует, что ты помирился с Бонгерами – и даже более того», – писал он брату из больницы в январе. Когда же наконец пришлось признать правду, Винсент поздравил брата довольно холодно («Дом больше не будет пустым») и чуть ли не до самого дня свадьбы упорно избегал называть Йоханну по имени. В начале февраля Винсент недвусмысленно советовал Тео просто «вступить в близость» с девушкой, вместо того чтобы жениться на ней. «В конце концов, на севере это принято», – писал он, язвительно намекая на многочисленных любовниц брата. Наконец Винсент пустился в уничижительные рассуждения по поводу самой идеи брака, который, по его мнению, имел значение лишь с точки зрения соблюдения приличий и был всего лишь не имеющей отношения к любви обязанностью, налагаемой определенным «положением в обществе», и знаком покорности сыновнему долгу.
Но бесконечные отчеты Тео о новой квартире и мечтательные рассказы о Йоханне позволили Винсенту утешить себя иллюзией, которая всегда выручала его, когда брат угрожал жениться. «Если ты обзаведешься надежной семейной гаванью, я тоже окажусь в выигрыше», – писал он Тео, предлагая съехаться вместе. Винсент воображал, как Йоханна станет соратницей братьев в борьбе за новое искусство (точно так же когда-то в Дренте он приглашал присоединиться к их несостоявшейся колонии на пустоши любовницу Тео Мари): «Твоя жена… в любом случае присоединится к нам, чтобы работать с художниками». Как и в Париже (когда Тео в первый раз планировал совместную жизнь с Йоханной), Винсент нафантазировал, что молодожены приобретут загородный дом, который он заполнит картинами. Грядущий священный союз представлялся ему неким слиянием, призванным на долгие годы обеспечить успех совместному предприятию братьев: «Весной ты и твоя жена заложите основу коммерческого предприятия для нескольких последующих поколений. Когда же все будет устроено, я прошу лишь о месте наемного художника».
Месяц, проведенный в больничном изоляторе, обратил все эти фантазии в прах. По возвращении из больницы в конце марта Винсент изменил свое отношение к женитьбе Тео. Целый месяц Винсент напрасно ждал, что брат вызволит его, целый месяц без единого письма от Тео или Йоханны подтвердил его наихудшие опасения. Женитьба Тео сулила ему только одно: забвение. Кроме всего прочего, никто не удосужился проинформировать Винсента о дате предстоящей свадьбы: судя по письмам того времени, он совершенно не был осведомлен о планах Тео, не имея ни малейшего представления, где и даже когда состоится церемония. Родственники словно боялись, как бы он не сел на поезд и не явился на свадьбу брата мрачным призраком, нежеланным гостем без приглашения, чтобы испортить важный день в жизни семьи, как делал это уже не раз.
Не помогло и полученное наконец письмо, в котором Тео призывал Винсента разделить счастье брата и найти жену и для себя. Свое супружеское счастье Тео с определенной жестокостью назвал «подлинным югом». Подобная формулировка вызвала у Винсента пароксизм отчаяния, ведь брат удалялся от него тем путем, по которому сам он пойти уже не мог. «Разумно оставить это [женитьбу] людям более уравновешенным и цельным, чем я… на таком расшатанном и гнилом основании, какое представляет собой мое прошлое, мне никогда не воздвигнуть ничего грандиозного».
К приезду Синьяка, подтвердившему, что Тео рад избавиться от обременительного братского долга, Винсент совершенно ожесточился. Он едко советовал брату не заботить себя мелочами вроде принудительного заточения его, Винсента, в больнице до окончания свадебных торжеств: «Будет лучше, если ты просто оставишь меня здесь… Здесь мне в общем неплохо, хотя, конечно, не хватает свободы и еще многого». В одном из самых мрачных и полных отчаяния фрагментов всей его многолетней переписки с Тео Винсент оставляет не только мысль о браке, но и всякую надежду любить кого бы то ни было, не причиняя им боли: «Разумеется, самое лучшее для меня – не оставаться одному, но я предпочту провести всю жизнь в сумасшедшем доме, чем позволю кому-то пожертвовать для меня своей жизнью». Беседы с Синьяком тоже, по-видимому, были полны горечи от женитьбы брата; те же эмоции переполняют и письмо, написанное Винсентом молодому коллеге сразу после отъезда последнего:
Боже мой, невольно пожалеешь того беднягу, который, обзаведясь необходимыми документами, добровольно направляется туда, где его с жестокостью, с которой несравнима свирепость самых кровожадных каннибалов, заживо женят на медленном огне вышеупомянутых похоронно-помпезных церемоний.
Несмотря на все это, визит Синьяка открыл для Винсента новые горизонты. Присутствие коллеги, возвышенные споры, рабочие ритуалы позволили Ван Гогу еще раз прикоснуться к такой художественной жизни, о которой всегда мечтал. Винсент осмелился мечтать о возможности начать все заново – на этот раз самостоятельно. Крепкое здоровье и ясная голова (как ему казалось) давали шанс на нормальную жизнь. Когда Синьяк пригласил Ван Гога в Кассис (без особого, правда, энтузиазма) «приехать и написать в этом чудном месте пару этюдов», Винсент ненадолго поверил, что они с Синьяком смогут «совместно найти новое пристанище» и создать очередное братство художников под южным солнцем.
Ван Гог послал в ответ восторженное письмо, полное слов и рисунков с заманчивыми образами будущего нового пристанища японизма на Лазурном Берегу. Если мысль о браке пришлось оставить, то уж настоящего друга он мог себе позволить. Упрекая брата в предательстве, Винсент писал Синьяку: «Наилучшее утешение для меня, а может, даже единственное лекарство – чья-то искренняя дружба, даже если она имеет недостаток привязывать нас к жизни крепче, чем нам хочется в дни тяжелых страданий».
Когда задуманный союз с Синьяком – как и многие аналогичные прожекты – не состоялся, Винсент решил заново начать жизнь в Арле. На площадь Ламартин возвращаться было нельзя, поэтому Винсент поручил Салю подыскать квартиру в другой части города. «Мне нужно обзавестись постоянным жильем, – писал он брату в предвкушении грядущего освобождения, – а потом я смогу съездить в Марсель, а то и дальше». Но единственным домовладельцем, с которым удалось договориться Салю, оказался доктор Рей; он согласился сдать Винсенту две «очень маленькие комнаты» в доме своей матери («не сравнить с моей мастерской», – жаловался художник). Планируя выехать из Желтого дома к Пасхе (21 апреля) – такую дату установил владелец дома на площади Ламартин, – Винсент убедил добросердечного доктора, чтобы тот позволил ему работать в больнице и ее окрестностях. К концу марта Винсент прислал брату заказ на краски и сам начал выходить в город за покупкой прочих материалов.
Он начал с реплик собственных работ, словно стал по новой читать привычную мантру: написал пятую «Колыбельную» и еще один портрет почтальона Рулена (старый знакомый заезжал в Арль вскоре после визита Синьяка и вернул Винсента к фантазиям на тему юга в духе Тартарена – края веселых, беззаботных крестьян). Затем Винсент приступил к выполнению обещания, данного в январе, когда казалось, что вот-вот он вернется к нормальной жизни: «Вскоре начнется весна, и я опять примусь за цветущие сады». Первым делом он написал панораму с цветущими персиковыми садами – напоминание о величественных видах Ла-Кро, занимавших его годом ранее; на второй картине он крупным планом изобразил одинокое дерево с перекрученным стволом посреди усеянного одуванчиками моря изумрудной травы – подтверждение справедливости его доводов в пользу «южной Японии».
Воплощением прежних идей оказались также рисунок и картина с изображением больничного двора, запечатлевшие образ арльского Параду: низкие самшитовые бордюры, обрамляющие буйные заросли «незабудок, морозников, анемонов, лютиков, лакфиолей, ромашек», художник перечислил их списком, – тайная жизнь и изобилие среди тюремных стен и сумрачного ритуала умирания.
Для новой жизни Винсент выбрал позицию человека независимого и внутренне спокойного. Он торжественно сообщил Тео, что находится «на пути к выздоровлению», и заявил о решимости не сходить с этого пути. Опасаясь, что любое переживание может вызвать рецидив, и будучи, как никогда, уверен, что сможет усмирить бури, бушующие в его сознании, посредством одной лишь силы воли, Ван Гог обращался к будущему с японской безмятежностью и вольтерьянской насмешливостью. «Я стараюсь сохранять спокойствие вопреки всему», – писал он Тео, приводя в качестве примера одновременно и вольтеровского Панглоса, и возвышенных флоберовских клоунов Бувара и Пекюше. «Лучшее, что мы можем сделать, – это смеяться над нашими маленькими горестями, а заодно, немного, над великими горестями человеческой жизни. Прими это мужественно». Винсент отрекся от суровой реальности натурализма и вернулся к утешительным сентиментальным произведениям своей юности: «Хижине дяди Тома» и «Рождественским повестям» Диккенса. «Я читаю их и предаюсь размышлениям о прочитанном», – признавался он сестре Вил.
Писал он с той же целью. Подражая японскому монаху, который усмирил своих внутренних демонов, посвятив всю жизнь изучению «одного-единственного стебелька травы», Винсент делал наброски цветов, бабочек и завихряющихся пучков травы. Эти изображения были точны, словно ботанические штудии, но производили впечатление абсолютной абстракции – тесная связь с природой, к которой он порой обращался в прошлом, особенно когда хотел угодить Тео, теперь придавала новое направление творчеству художника.
В поисках образцов чистоты и безмятежности Винсент обращался как в будущее, так и в прошлое. Впервые в жизни он стал находить утешение в науке. Ухватившись за шутливое замечание доктора Рея о том, что любовь вызывают микробы, Винсент вообразил, будто приступы меланхолии и раскаяния тоже «вполне могут быть вызваны микробами», – эта теория позволяла ему расценивать собственные испытания не как неотвратимые мучения, но как «простую случайность» в безучастной вселенной. «Я начинаю считать безумие такой же болезнью, как любая другая, и воспринимаю его как таковую… Почти каждый из наших друзей чем-то болен. Так стоит ли говорить об этом?»

Двор арльской больницы. Холст, масло. Апрель 1889. 73 × 92 см
Но вопреки всем усилиям, призраки неудачи, чувства вины и забвения неумолимо преследовали Винсента. «Ах, если бы только ничто не беспокоило меня! – вдруг восклицал он, рассуждая о том, как будет писать цветущие сады. – Ты видишь – на юге мне везет не больше, чем на севере. Всюду примерно одно и то же». Винсент жаловался брату на «какую-то смутную тоску, причину которой мне трудно определить», и не видел «оснований надеяться на что-нибудь лучшее в будущем». В письмах извинения за «проявления слабости характера», «прискорбную и болезненную неудачу» затеи с Желтым домом выскакивали из-под пера раньше, чем он успевал остановить себя: «Но не будем начинать снова!» В виноватых отчетах упоминались даже суммы, истраченные на покупку новых носков.
Паранойя, потребность в уединении и работе гнали Винсента прочь из больницы, но одновременно перспектива самостоятельной жизни пугала его. «Я покину это место, – робко сообщал он брату, – разумеется, когда представится такая возможность». Каждый раз, когда его «разум будто бы приходил в нормальное состояние», его снова посещало чувство «глубоко засевшего в душе отчаяния» и начинался новый виток кошмара, признавался Ван Гог Синьяку.
Бромид калия, который он принимал, чтобы предотвратить подобные приступы, отуплял сознание. «Не каждый день мой ум бывает настолько ясен, чтобы я мог писать совершенно логично», – признавался Винсент брату. Но если он был не в состоянии вспомнить, какой сейчас месяц, или чувствовал себя слишком усталым, чтобы написать письмо, как он мог жить в одиночестве? Не говоря уже о неспособности удержаться от алкоголя во время длительных отлучек из больницы (несмотря на обещание соблюдать «режим строгой трезвости») и контролировать внезапные приступы тревожных размышлений о судьбоносных событиях, происходящих в Голландии…
Когда, по предположению Винсента, дело было сделано, он написал брату. Винсент пожелал Тео всех благ, поблагодарил за годы любви и доброты, напоследок еще раз попросил прощения за то, что так мало смог дать взамен, и освободил от всех обязательств. С этого момента доброта и любовь Тео принадлежали другому человеку, заботой другого человека было дарить ему утешение. Винсент признал то, чему так противился: пришла пора брату «подарить всю эту любовь – так много любви, как только возможно, – своей жене».
Всего несколько дней назад, накануне свадьбы, Винсент признался Салю: «Я не в состоянии заботиться о себе и контролировать свои поступки. Я чувствую, что стал теперь совсем другим человеком». Ван Гог настаивал: будет лучше, если он «отправится в приют для душевнобольных немедленно».
Это заявление удивило Саля – он искренне полагал, что Ван Гог «окончательно пошел на поправку», «словно бы и следа болезни не осталось». Врачи согласились отпустить Винсента из больницы; удалось договориться о новой квартире. Саль с Ван Гогом даже отправились было подписывать договор аренды, как вдруг внутри Винсента словно что-то надломилось. «Он внезапно признался мне, что пока ему не хватает мужества начать жить самостоятельно, – сообщал пастор, – и что ему будет всяко разумнее и более на пользу провести два-три месяца в доме для душевнобольных».

Палата в арльской больнице. Холст, масло. Апрель 1889. 75 × 91 см
Объявляя о своем решении в письме к брату, Винсент умолял Тео избавить его от необходимости объяснить причину своего поступка. «От разговоров об этом у меня раскалывается голова». Тем не менее почти незамедлительно он сам принялся перечислять брату причины неожиданной перемены намерений в бесчисленных письмах. Некоторые из его объяснений были вполне прозаическими («Я не в себе и не в силах сейчас сам устраивать свою жизнь»), некоторые – поистине душераздирающими («Я провалился „на дно“ жизни, а мое душевное состояние – не только теперь, но и всегда было таковым – смятенное. И несмотря на все усилия, я не вижу способа упорядочить мою жизнь»).
Однако истинная причина была вполне ясна. Винсент делал это ради Тео. «Я решил на время перебраться в убежище ради собственного спокойствия и ради спокойствия окружающих… Прости, что причиняю беспокойство Салю, Рею и, главное, тебе». Как бы то ни было, по мере приближения свадьбы Саль рисовал в письмах к Тео куда менее радужные картины. «Вы не поверите, как беспокоит и волнует Вашего брата мысль о том, что он причиняет Вам неудобство», – писал пастор. Винсент особенно боялся устроить очередную «сцену на публике» – в случае нового приступа после выхода из больницы. Что был бы вынужден предпринять в таком случае Тео? «Мой брат всегда столько делал для меня, а теперь я создаю ему еще больше проблем!» – горько сетовал Винсент в беседах с Салем.
Когда после долгих месяцев ожидания Винсент наконец сделал свой выбор, Тео был разочарован. «Отвратительная» перспектива поместить брата в психиатрическую клинику, пусть даже всего на несколько месяцев, разрушила его надежды на возможность излечения в больнице, подрывала состоятельность его рассуждений о прекрасном безумии Байрона и Дон Кихота и намекала на возможные проблемы с наследственностью – в тот самый момент, когда он стал задумываться о наследнике. Отчаянные попытки Тео убедить Винсента переменить решение, которое далось ему так тяжело, можно объяснить только чувством стыда. Тео не только еще раз пригласил брата в Париж, куда они с Йоханной только что вернулись (отложив на время медовый месяц), он даже высказал предположение, что Винсент, возможно, хотел бы «провести лето в Понт-Авене», куда, как, вероятно, было известно Тео, через месяц собирался приехать Гоген, – идея поразительная в своем безрассудстве.
Не одобрил Тео и клинику, куда пожелал отправиться брат по рекомендации Саля (в письмо, которым пастор информировал Тео о желании брата отправиться в лечебницу, была вложена брошюра). Винсент выбрал небольшую монастырскую лечебницу в Сен-Реми, в двадцати пяти километрах к северо-востоку от Арля, у подножия массива Альпий – скалистых предгорий Альп, склоны которых можно было увидеть на горизонте долины Ла-Кро. Выбор брата – небольшое, частное и дорогое заведение – оказался для Тео неожиданностью после многомесячной переписки, в которой речь шла исключительно о больших государственных (и, следовательно, куда менее дорогих) лечебницах в Эксе и Марселе. Спохватившись, Тео предложил Винсенту все же изучить условия содержания в этих заведениях. И в любом случае, какое бы место ни выбрал Винсент – Сен-Реми или какую-нибудь другую лечебницу, – Тео призывал брата ограничить свое пребывание парой месяцев и предпочитал рассматривать эту госпитализацию не как психиатрическое лечение, но как некий загородный отдых.
Призывы Тео изменить решение или хотя бы отложить переезд в лечебницу лишь подтвердили самые страшные опасения Винсента. Письма брата, полные радостных отчетов о свадебных торжествах и восторженных описаний прелестей обретенного с Йоханной семейного рая, ранили Винсента. «Мы совершенно понимаем друг друга и потому испытываем столь полное взаимное удовлетворение, которое делает нас двоих счастливее, чем я могу передать», – писал Тео Винсенту, каждым необдуманным восклицанием причиняя брату невыносимые страдания. «Все идет лучше, чем я когда-либо мог представить, я никогда не смел мечтать о таком счастье».
Сопротивление и нечуткость Тео лишь провоцировали Винсента, и он придумывал все более экстравагантные способы обрести независимость: «Если бы я мог выйти из положения, завербовавшись на пять лет в Иностранный легион, то предпочел бы военную службу». Расстроенный тем, что стоимость лечения в Сен-Реми оказалась выше, чем предполагалось изначально, и возможным запретом на занятия живописью за пределами лечебницы, Винсент вообразил, что сможет обрести избавление на самом южном юге – в песках Аравии. Там он всегда был бы «под присмотром» (к тому же совершенно бесплатно!) и мог бы продолжить работу в казармах легиона. Там ему «точно так же, как и в больнице, пришлось бы следовать правилам», благодаря чему он мог чувствовать себя намного спокойнее. А спустя пять лет Винсент «оправился бы, поуспокоился и в большей степени стал бы хозяином своих поступков». А главное, там можно было бы избавиться от чувства вины. «Живопись требует огромных расходов, и осознание того, как велик мой долг, подавляет меня и повергает в ужас. Я мечтаю, чтобы это поскорее закончилось».
Как бы ни пугали Тео угрозы Винсента завербоваться в Иностранный легион («Ведь ты задумал это как акт отчаяния?» – с укором спрашивал он старшего брата), еще больше испугала его присланная братом газетная статья, где речь шла о некоем художнике-самоубийце из Марселя. «Там упоминается Монтичелли», – многозначительно подчеркивал Винсент, напоминая о выдающемся художнике юга, – мысли о его бесславной смерти (по слухам, Монтичелли покончил с собой) после неудачи с Желтым домом преследовали Винсента. «Увы! Вот еще одна печальная история». Не потерпи он сам столь сокрушительное фиаско, возможно, он смог бы спасти своего неизвестного товарища: «А ведь мастерская должна была служить не мне, но всем художникам вроде того несчастного, о котором написано в приложенной к этому письму статье». Теперь от мечты остались лишь горькое разочарование, новые расходы и верный Тео. «Если бы не твоя дружба, меня безжалостно довели бы до самоубийства. И как бы я ни был труслив, я все-таки решился бы прибегнуть к нему», – предупреждал Винсент упорствующего брата.
В конце концов, у Тео не было выбора. Он согласился выделить дополнительную сумму и написал необходимое заявление в Сен-Реми (разместить Винсента он попросил по самому дешевому «третьему классу»). При этом младший Ван Гог не преминул заверить больничного врача, что изоляция брата была «необходима, скорее чтобы предотвратить возвращение прежних приступов, а не потому, что его психическое состояние теперь нестабильно». Винсенту в качестве утешения он сумел предложить лишь следующее: «С определенной точки зрения твое положение не так уж и плачевно, хотя со стороны может казаться иначе… Не падай духом, несомненно, твоим бедам скоро придет конец».
В начале мая Винсент собрал все, что оставалось еще в Желтом доме. Работа оказалась мучительной. Во время длительного отсутствия постояльца хозяин не топил комнаты, а во время половодья воды близлежащей реки подступили практически к порогу. В холодной сырой темноте на стенах выступила влага и селитра, повсюду расползлась плесень. Многие рисунки и картины были уничтожены. «Я был потрясен: погибла не только мастерская, но и напоминания о ней – мои этюды». Перебирая обломки крушения «южной мастерской», художник пытался спасти то, что еще было возможно. Мебель он перетащил в комнату над инфернальным ночным кафе Жину. На сортировку и сушку картин ушло несколько недель. Он снимал их с подрамников одну за другой – любимые «Колыбельные», «Спальню», «Сеятеля», «Стул», «Звездную ночь», «Подсолнухи», перекладывал газетной бумагой, упаковывал в ящики и отсылал в Париж, сопровождая записками с виноватыми пояснениями: «Среди них немало мазни, которую лучше уничтожить… ты уж выбери сам и сохрани то, что сочтешь стоящим».
Терзаясь сожалением, разочарованием и раскаянием, Винсент упаковывал картины. В новой квартире он остался всего на несколько ночей – одиночество и кошмары заставили художника вернуться в больницу, где он и провел свои последние дни в Арле.
Эти последние дни определенно выдались грустными… Но прежде всего мне было грустно, кажется, из-за того, что все это было подарено мне тобой с такой большой любовью, и что на протяжении долгих лет ты единственный поддерживал меня, и что теперь тебе вновь приходится вновь выслушивать эту печальную историю.
Оглянувшись вокруг, Винсент увидел не мастерскую, но «кладбище» и произнес полную отчаяния эпитафию: «Картины увядают, как цветы». В последнем письме из Арля он вспоминал пройденный им путь – словно вся жизнь промелькнула перед его глазами. Он вспоминал крестьян Милле и «серую голландскую палитру», предостерегая брата: «Не превращайся все-таки в абсолютного импрессиониста и не теряй из виду то хорошее, что можно встретить где-то еще». Винсент составил длинный перечень любимых художников, сетуя, что и им грозит забвение. О себе же он писал: «Как художнику мне никогда не стать чем-то значительным, я совершенно уверен в этом».
Но даже сейчас, выражая сомнение, что для него имеет смысл продолжать заниматься живописью, до отъезда Винсент умудрился написать еще две картины. Обе изображали дороги. Первая – «испещренную солнечными бликами и пятнами тени» аллею парка, где под густым пологом цветущих каштанов резвится счастливое семейство. Другая – пустынную, изрезанную колеями дорогу, уходящую вдаль. По ее обочинам, заросшим пучками лугового мятлика, – ряд стриженых ив, израненные и покореженные стволы которых тянутся к горизонту насколько хватает глаз.
Глава 39
Звездная ночь
Монастырская лечебница Сен-Поль-де-Мозоль (Святого Павла у Мавзолея) расположилась в горной долине, которая влекла к себе странников еще со времен Древнего Рима. Одни сравнивали скрытую в горах лощину с волшебными ущельями Швейцарских Альп. Другим зеленые поля и оливковые рощи напоминали холмистые тосканские пейзажи. «Истинная Италия, прекраснейшая из горных долин» – так отзывался об этих краях Шарль Гуно. Кому-то виделось здесь подобие аттических холмов Древней Греции – легендарной Аркадии.
Грозные вестготы в свое время предпочли близлежащие скалистые вершины, на одной из которых, на юго-западной оконечности Альпийской возвышенности, подобно орлиному гнезду, был высечен из твердой горной породы замок Ле-Бо, невероятным образом разместившийся на гигантской известняковой стене, обращенной к дельте Роны. Цивилизаторам-римлянам, однако, больше приглянулась удаленная плодородная долина, укрытая за скалистым гребнем, где, как им казалось, было безопаснее, а холмистый ландшафт напоминал о родине. Заповедный покой этих мест настолько поразил их, что римляне построили здесь небольшой городок Гланум, предназначенный исключительно для отдыха и восстановления физических и душевных сил.
К XII в. Гланум был разобран до последнего камня, чтобы отстроить близлежащий Сен-Реми, однако оздоровительный потенциал местности нашел новое воплощение в рассказах о чуде (посох, воткнутый в землю, зацвел), после чего в долине тут же основали монастырь и назвали в честь самой значимой реликвии, оставленной здесь римлянами тысячу лет назад, – надгробного монумента в виде башни. За последующие восемь столетий монастырская церковь Сен-Поль-де-Мозоль приняла не одну тысячу паломников; особенно стремились сюда те, кто жаждал успокоить смятенный ум и ослабевший дух. Под защитой гор монастырь пережил все эпидемии чумы, все разрушительные катаклизмы, из-за которых обратились в руины многие его собратья на равнинах. В начале XIX в. здоровый климат, безмятежные просторы и легенды о целительной силе этих мест превратили старинный монастырь, который к этому времени уже представлял собой внушительный комплекс зданий, в лечебницу для душевнобольных.

Лечебница Сен-Поль-де-Мозоль, Сен-Реми
Католическое наследие монастыря Сен-Поль должно было насторожить обоих братьев, но в рекламной брошюре лечебницы о религии почти не говорилось, вместо этого упор делался на более древние средства лечения – языческую силу деревьев и рощ и горного воздуха под «голубой глазурью неба».
Воздух, свет, простор, большие прекрасные деревья, качественная свежая питьевая вода, струящаяся с гор, и удаленность от любых крупных населенных пунктов – этим руководствовался ученый основатель лечебницы, выбирая место для своего заведения.
О монашеских орденах августинцев, бенедиктинцев, францисканцев, члены которых некогда молились под романскими сводами монастыря Сен-Поль, напоминали лишь несколько монахинь, помогавших персоналу лечебницы. Они выполняли свои обязанности с той же методичностью и абсолютным неземным спокойствием, с каким совершали утренние и вечерние службы. После мучительной двухчасовой поездки на поезде через Альпы над пугающими ущельями, известными со времен Данте как Врата ада, Винсент должен был увидеть расположенную в низине лечебницу с аллеей деревьев у входа, ухоженными садами и зеленеющими полями такой же, какой ее видели до него многочисленные паломники, – островом покоя в мире, полном тревог и опасностей.
Сохраняя дух римского Гланума, Сен-Поль-де-Мозоль функционировал скорее как курорт, а не как лечебница. За исключением монастырского ритуала общей трапезы и часа, отведенного для купания, в остальное время пациенты были, как правило, предоставлены сами себе; персонал внимательно наблюдал за ними на расстоянии. Поскольку церковь уже больше не поддерживала лечебницу, основным источником дохода стали обеспеченные представители среднего класса – те, кто хотел уберечь родственников от переполненных и малопривлекательных государственных лечебниц; здесь им обещали чистоту, качественное питание («изобильное, разнообразное, даже деликатесное»), частые прогулки, живописные виды, отопление и современные методы лечения, под которыми понималось «ласковое и доброжелательное» обращение с больными (без наручников и смирительных рубашек) и программа «физического труда и развлечений».
Удобства, естественно, различались «в зависимости от класса размещения», но стадо швейцарских коров обеспечивало «молочными продуктами в достаточном количестве» всех постояльцев. В лечебнице были отдельные помещения для занятий физическим трудом для женщин (шитье) и развлечений для мужчин (бильярд). В библиотеке можно было брать «иллюстрированные журналы, книги и различные игры, подходящие для отдыха». Для пациентов с соответствующими наклонностями была предусмотрена возможность заниматься музыкой, писать или рисовать. Члены семей могли навещать родственников и встречаться с ними в специальной гостиной. Постояльцы с «высоким общественным статусом» получали отдельные апартаменты, где их могли обслуживать «преданные слуги из дома».
Пациентам рекомендовали как можно больше времени проводить на воздухе: гулять по длинным аллеям, обсаженным высокими узловатыми соснами, чьи стволы ветер заставлял изгибаться в виде изящных запятых, или по тропинкам с зарослями ирисов и лавровых кустов по краям или просто сидеть на одной из многочисленных каменных скамеек, выстроившихся по периметру дворов с арочными галереями, и слушать плеск фонтана или наблюдать за ласточками, вьющими гнезда в изгибах старинных арок.
Но, несмотря на заманчивые обещания рекламного буклета, более половины комнат пустовали – прошли времена, когда все нужды приюта оплачивались за счет пожертвований, а для лечения душевных болезней призывали не врача, но священника. Прибыв в Сен-Поль 8 мая, Винсент оказался десятым пациентом мужского пола; женщин было вдвое больше – помешательство считалось тогда преимущественно женским недугом. Сокращение финансовых поступлений сказалось и на описанных в брошюре «первоклассном питании» и «ухоженных садах». Еда, которую подавали каждый день в трапезной, была, по мнению Винсента, «так себе» и даже «слегка несвежей» – мяса поменьше, бобов побольше, – «как в каком-нибудь кишащем тараканами парижском ресторанчике или школе-интернате». В «запущенном саду» месяцами никто не подрезал деревьев и кустарники и не выпалывал сорную траву. Все это наполняло старые каменные здания атмосферой упадка, которая едва ли способствовала духовному возрождению.
Возглавлял это не слишком процветающее предприятие доктор Теофиль Пейрон, толстый вдовец в очках, человек вспыльчивый и страдающий подагрой. По закону руководить лечебницей должен был врач, а не священник, однако для лечения «психических расстройств» главврачу совершенно не обязательно было обладать специальными знаниями. По образованию Пейрон был офтальмологом, а практический опыт получил, работая врачом в военно-морском флоте. Сен-Поль был для него своеобразной пенсионной синекурой, и, кроме общемедицинских знаний, офицерской одержимости порядком и бухгалтерского внимания к расходам, он ничего сюда не привнес. Он требовал вести строгий учет прибытий и отъездов и постоянно урезал бюджет. Ненадлежащее поведение влекло за собой немедленное наказание: провинившегося изолировали в уединенном внутреннем дворе или, в худшем случае, помещали в удаленную палату, на манер гауптвахты, подальше от остальных «постояльцев».
В этом размеренном, подконтрольном, упорядоченном мире Винсент буквально расцвел. «Я думаю, что поступил правильно, приехав сюда, – писал он спустя всего несколько дней после прибытия. – Никогда еще я не чувствовал себя так спокойно». Он любовно описывал брату мельчайшие детали чистого, хорошо освещенного пространства, которое теперь называл домом. «Меня поселили в маленькой комнатке, оклеенной серо-зелеными обоями, с двумя занавесями цвета морской волны с набивным рисунком в виде очень бледных роз… Эти занавеси… очень милы». Винсент восхищался старым креслом, словно оно было подобрано специально для него: «Оно обито крапчатой гобеленовой тканью в духе Диаса де ла Пеньи или Монтичелли, испещренной коричневым, красным, розовым, белым, кремовым, черным, незабудковым и бутылочно-зеленым». Окно, конечно, было забрано решеткой, но за ним «виднелось обнесенное стеной пшеничное поле – пейзаж в духе ван Гойена, над которым по утрам во всем своем великолепии восходит солнце».
В монастырском покое лечебницы, вдали от жандармов, кредиторов, домовладельцев, уличных мальчишек и шпионящих соседей, Винсент обрел безмятежность, которой всегда жаждал. «Там, где мне приходится подчиняться правилам, я чувствую себя спокойно», – писал он ранее. Здесь он получал пусть и не слишком обильное, но регулярное питание и мог умеренно выпивать, не будучи вынужденным противостоять соблазнам привокзального кафе. Днем он имел возможность бродить по территории монастыря, наслаждаясь ароматом растений и чистым воздухом («С высоты видно куда дальше, чем дома»), или просто сидеть, любуясь пейзажем («Голубое небо никогда меня не утомляет»).
Дважды в неделю Винсент принимал двухчасовую ванну – терапевтическая процедура, которая, по словам Ван Гога, «отлично успокаивала». По ночам он мог сидеть в своем монтичеллиевском кресле, читать книгу или газету и курить в свое удовольствие. Никакие картины – призраки прошлого – не смотрели на него со стен: все они были либо отправлены Тео, либо остались в Арле. С его плеч пал огромный груз честолюбивых стремлений и ожиданий. «Больше нет нужды жить ради великих идей, поверь мне, настало время посвятить себя малым. Благодаря этому я чувствую несказанное облегчение». Так как деньги на содержание теперь не проходили непосредственно через руки Винсента, он хотя бы на время мог избавиться от мучительной ежедневной необходимости «зарабатывать на жизнь», от тягостных мыслей о том, насколько велик его долг перед братом, и сознания собственной никчемности. Даже мистраль больше не мучил его. «Мистраль (благодаря тому, что местность здесь гористая) кажется здесь не таким надоедливым, как в Арле, который первым встречает его».
Остальные ветры тоже переменили свое направление в пользу Винсента. По сравнению с жителями Арля пациенты Сен-Поля являли собой образец любезности и сочувствия. «Они говорят, мы должны терпеливо относиться к другим, тогда сможем ожидать терпения и в свой адрес, – сообщал Винсент. – Мы отлично понимаем друг друга». Впервые за всю свою художественную карьеру он получил возможность рисовать и писать на публике, не боясь быть осмеянным и стать жертвой хулиганства. В чопорной Гааге в него плевали, из Нюэнена изгнали, в Арле кидали в него камнями. Под сенью окруженного аркадами сада лечебницы Сен-Поль-де-Мозоль, где Винсент проводил бо́льшую часть времени, художник наконец обрел покой, необходимый ему для работы и лечения.

Ванны, лечебница Сен-Поль-де-Мозоль
Рядом с ним пациенты как ни в чем не бывало продолжали играть в мяч или шашки. Иногда они останавливались понаблюдать за его работой, но всегда только на почтительном расстоянии. В отличие от «славных жителей Арля» товарищи по лечебнице «вели себя деликатнее и вежливее: они не мешали». На самом деле Винсент наслаждался их неискушенным вниманием, замечая: «Мне всегда очень хотелось писать для тех, кто не понимает художественной стороны картины».
Согласно описанию Ван Гога, пациенты лечебницы Сен-Поль в большинстве своем были людьми вежливыми и утонченными. Человек, играющий в мяч, пока Винсент писал, или сидящий рядом с художником в трапезной, в равной степени мог оказаться жертвой семейной ссоры («несчастным богатым пациентом не в себе», выражаясь словами Ван Гога) или непонятым чудаком, настаивавшим на том, чтобы одеваться для путешествий (шляпа, трость и пальто), даже отходя ко сну. Был там несостоявшийся студент-правовед, который, согласно документам, «чрезвычайно переутомил мозг», готовясь к экзаменам; еще одного пациента обвиняли в педофилии. Как минимум один больной имел диагноз «идиот», поскольку был в состоянии лишь мычать и кивать. Винсент нашел в нем идеального слушателя. «Я могу иногда поговорить с [ним]… потому что он не боится меня». Были там, конечно, и те, что кричали или выли по ночам. У других, как и у Ван Гога, случались неожиданные припадки паранойи и галлюцинаторной паники. Но когда подобное случалось, остальные пациенты не бежали прочь, но бросались их успокаивать еще до прибытия санитаров. «Люди здесь хорошо знают друг друга и помогают друг другу, когда у одного из них начинается приступ».
Ван Гог верил, что такая забота способна помочь даже в самых тяжелых случаях, и рассказывал о новом пациенте, молодом человеке, который «все ломает и кричит дни и ночи напролет. А еще он разрывает смирительные рубахи… он перебил все, что было в комнате, поломал кровать, переворачивает тарелки с едой и т. д.». Все это весьма печально, но Винсент был уверен, что товарищи по лечебнице, особенно старожилы, будут «ухаживать за ним и следить, чтобы он не нанес себе повреждений», когда наступит очередной приступ. «Здешний персонал терпелив и в конце концов справится даже с ним», – с уверенностью предсказывал он.
В соответствии с той же странной логикой любой всплеск эмоций, любой припадок и крик в ночи успокаивал Винсента, избавляя от собственных тревог. «Наблюдая реальную жизнь всевозможных сумасшедших и чокнутых в этом зверинце, я избавляюсь от смутного страха, перестаю бояться безумия». И каждый раз, когда одни пациенты помогали другим, Винсент ощущал себя частью некоего сообщества (как десять лет назад в Боринаже, где увечные шахтеры ухаживали друг за другом) – не сборища сумасшедших и изгоев, но общности людей, проникнутых духом товарищества и взаимного утешения. «Есть и такие, кто постоянно вопит и обычно пребывает в невменяемом состоянии, в то же время здесь есть место настоящей дружбе», – отмечал он.
Если режим и дружественный настрой окружающих упорядочивали повседневную жизнь Винсента, встречи с доктором Пейроном помогали рассеять туман в голове. Из арльской больницы Ван Гог прибыл с официальным диагнозом «истерическое помрачение сознания на фоне общего делирия». Согласно отчету именно в результате обострения симптомов этого психического расстройства в декабре Винсент отрезал себе часть уха. Однако доктор Рей также сообщил Пейрону, что подозревает у пациента «нечто вроде эпилепсии», подразумевая не известную с античных времен форму заболевания, при которой конечности начинали дергаться и человек падал наземь (так называемая «падучая»), но своеобразную ментальную эпилепсию – паралич сознания: разрушение способности мыслить, воспринимать, логично рассуждать и выражать эмоции, – происходящий исключительно в мозгу и часто провоцирующий больного на странное поведение и резкую смену настроения. Из всех врачей, лечивших Винсента в Арле, только молодой стажер Рей имел более-менее отчетливое представление об этом лишь недавно описанном варианте древней и страшной болезни.
О существовании бессудорожной эпилепсии врачи во Франции и других странах знали к этому моменту уже на протяжении пятидесяти лет, но ее причины и с трудом вычленяемые симптомы долгое время затрудняли распознавание. Варианты названия свидетельствуют о том, как сложно было его определить. Медики называли это заболевание «латентной» или «скрытой» эпилепсией из-за долгих периодов затишья между приступами, во время которых пациент мог вести относительно нормальную жизнь, не осознавая, что «демон» уже живет внутри его. Неявные причины и разнообразие форм позволяли назвать болезнь «замаскированной» эпилепсией. Некоторые врачи вообще отказывались диагностировать ее как эпилепсию с учетом неясной симптоматики. Были и те, кто называл эту патологию «интеллектуальной болезнью», поскольку основной мишенью становились высшие мозговые функции, но пытались систематизировать невидимые глазу припадки по тому же принципу, что и для видимой эпилепсии: на тонико-клонические (grand mal) и короткие абсансы (petit mal). Ряд специалистов (к ним относился и Рей) называли этот недуг просто «разновидностью эпилепсии», чтобы заполнить концептуальный пробел между самым явным для окружающих психическим недугом и его самым скрытым проявлением.
В Арле Рей уже обсуждал этот диагноз с Винсентом (которого беспокоило, что Иностранный легион может не принять в свои ряды «эпилептика») и даже показывал ему обнадеживающую статистику по распространенности и относительной безобидности заболевания в целом. «Во Франции пятьдесят тысяч эпилептиков, госпитализировано из которых всего четыре, следовательно ничего особенного в этом заболевании нет», – жизнерадостно сообщал Винсент брату. Рей объяснял, как припадки латентной эпилепсии могут иногда провоцировать галлюцинации – слуховые, визуальные и обонятельные, – способные заставить жертву заболевания наносить себе увечья: откусывать язык или отрезать уши.
Если Рей описывал Ван Гогу особенности поведения эпилептика, сформулированные двумя поколениями французских медиков, Винсент явно должен был видеть в зеркале похожего персонажа. «Предрасположенные к раздражительности и агрессии» латентные эпилептики шокировали и пугали родственников и друзей частой переменой настроения, чрезмерной возбудимостью, сумасшедшим стилем работы и «ненормальной психической активностью». Любая, даже самая ничтожная, обида могла привести латентного эпилептика в состояние гнева или, еще хуже, «эпилептической ярости», которую выдающийся французский психиатр Бенедикт Морель описывал в 1853 г. как «концентрированную в ужасных поступках энергию молнии». Латентные эпилептики находились в постоянном движении, в их жизни, как и в сознании, никогда не было стабильности: они никогда не оставались долго на одном месте, поскольку их дикие, непредсказуемые выходки раздражали, отталкивали и в конечном итоге приводили в ярость всех окружающих.
Описание это настолько точно подходило к Винсенту, что Пейрон, который, вероятно, узнал мнение Рея заранее, сразу же подтвердил диагноз молодого стажера и спустя всего двадцать четыре часа после прибытия Ван Гога уже записал в больничный журнал: «В свете всех фактов, полагаю, что г-н Ван Гог периодически страдает своеобразными эпилептическими припадками». (Винсент сообщал Тео: «Насколько я знаю, местный врач склонен видеть в случившемся со мной проявление эпилепсии».) На протяжении последующих недель Пейрон несколько раз беседовал с Винсентом, подробно записывая историю пациента и его семьи. Как добросовестный, пусть и не слишком чуткий, наблюдатель, он подтвердил диагноз Рея. «У меня есть все основания полагать, – писал Пейрон Тео в конце мая, – что приступы, которые перенес [Ваш брат], – результат эпилепсии». По свидетельству одного из коллег, главный врач лечебницы Сен-Поль, офтальмолог по профессии, «тем не менее был в курсе всего, что было известно тогда о психических заболеваниях», и во время своих бесед с Винсентом, без сомнения, дополнил портрет латентного эпилептика, намеченный в общих чертах Реем.
Заболевание часто впервые давало о себе знать в детстве, проявляясь в виде «озорства, непоседливости и раздражительности», писал ведущий специалист в этой теме, английский невропатолог Уильям Говерс в 1880 г. Причиной припадка могло стать что угодно – от яркого солнца и алкоголя до деструктивных эмоций, в особенности чувства вины. Возбуждение от «глубокого психического страдания» было самым распространенным предвестником припадка. Пациенты описывали, будто вдруг ощущали себя в ловушке кошмара, происходящего наяву, или «падающими в бездну». Считалось, что припадок могут вызвать укоры совести, особенно в случаях, когда жертву болезни преследовали необъяснимые и непреодолимые злоключения. Причиной приступа могли стать болезненные воспоминания и религиозная одержимость – чаще всего это касалось одержимости грехами, которые, по мнению больного, невозможно было отмолить.
Приступы часто сопровождались внетелесными ощущениями: психика больного словно бы разделялась или проецировалась на другие субъекты – субъекты, которые порой обретали собственный голос. Пациенты начинали бормотать какую-то бессмыслицу и действовать «автоматически», не контролируя свои действия сознательно, а то и вообще их не осознавая. Это и было сигналом начала припадка – самого опасного периода (для самого больного в особенности). Отличительными признаками этого состояния были буйство и судорожные вспышки ярости. В такие моменты больной был способен на убийство или на самоубийство. За припадком почти всегда следовала потеря сознания: глубокий беспокойный сон, после которого больной просыпался, не имея никаких воспоминаний о случившемся. Последующие дни и недели проходили в так называемом «эпилептическом ступоре» – сумеречном состоянии апатии и раздражения, характеризующемся ощущением бесцельности существования и убийственного раскаяния.
Когда Винсент признался, что в его роду уже бывали эпилептики, доктор Пейрон окончательно уверился в поставленном диагнозе. Специалисты по латентной эпилепсии были далеки от единодушия, но один момент не вызывал у них никаких разногласий: независимо от формы и происхождения эпилепсия должна была передаваться по наследству. Рассказы Винсента не оставляли сомнений, что ему было от кого унаследовать психические отклонения. Согласно неожиданно откровенной записи в семейной хронике, дед художника Виллем Карбентус умер «от душевной болезни». Сестра матери Винсента Клара, старая дева и затворница, всю жизнь страдала эпилепсией. Другой дядя Винсента по матери покончил жизнь самоубийством. Дядя Хейн, брат отца, в тридцать пять лет – примерно в том же возрасте, что и Винсент, – пережил первый «припадок падучей, после которого так никогда и не восстановился полностью». Хейн отошел от дел, после того как регулярные припадки «наполовину парализовали» его, и, как записала в семейной летописи его сестра, скончался до срока. Его болезнь семья сохраняла в тайне. Согласно той же семейной хронике, еще один дядя Винсента по отцу, адмирал Ян, в сорок лет тоже страдал от непонятных «приступов». И у дяди Сента, помимо прочих проблем со здоровьем, также бывали некие «припадки». Как минимум двое из кузенов Винсента страдали психическими расстройствами. За год до смерти Дорус упоминал в письме к Тео, что один из его племянников – Хендрик, сын адмирала Яна, «страдал тяжелыми эпилептическими припадками», после чего был помещен в лечебницу, где, по всей вероятности, покончил с собой. В медицинской карте Винсента Пейрон записал: «То, что произошло с этим пациентом, – лишь продолжение того, что случилось с несколькими членами его семьи».
Озарение, посетившее Пейрона, было отголоском принятого в среде его коллег – да и вообще в его эпоху – убеждения, что ключ к пониманию человеческого поведения кроется в наследственных особенностях. В 1857 г., за два года до появления «Происхождения видов», ведущий французский специалист по латентной эпилепсии Бенедикт Морель опубликовал трактат о психических болезнях («Traité des Dégénérescences Physiques, Intellectuelles et Morales de l’Espèce Humaine»), в котором эволюционные теории рассматривались в куда более мрачном свете, чем в знаменитом труде Дарвина. Согласно идее Мореля, не только эпилепсия, но и все психические отклонения – от невроза до кретинизма (равно как и физические несовершенства, и личные аномалии) – были результатом постепенного ухудшения генетических качеств, процесса, названного ученым «дегенерацией». Судьба семьи – или целой расы – могла зависеть от совокупного влияния генетических «загрязнителей», способных даже менять анатомию человека.
Во Франции конца XIX в. теория Мореля способствовала формированию свойственного рубежу столетий пессимизма. В век бесконечных революций с их пирровыми победами, рассыпающихся империй и в особенности после унизительного поражения Франции в войне с Пруссией идея Мореля о том, что враг находится внутри, что раковая опухоль слабости и ущербности подтачивает жизненные силы нации, овладела общественным сознанием. Так же как большинство психиатров и директоров психиатрических клиник во Франции, Пейрон принял теорию Мореля: с одной стороны, она подкрепляла авторитет профессии (согласно ей Пейрон и его коллеги оказывались ни больше ни меньше как защитниками генетического наследия нации), а с другой – помогала отвоевывать высшую власть над человеческим сознанием у священников, френологов и цирковых гипнотизеров. Пейрон, в прошлом офтальмолог, как-то сказал: «Прежде я лечил глаза, которыми смотрит тело, теперь я лечу глаза, которыми видит душа; это одна и та же работа».
Выдвинутая Морелем теория дегенерации – окончательное и самое мрачное выражение присущего эпохе интереса к «типам» (не избежал этого увлечения и Винсент) – еще соберет свою страшную жатву в XX в.: от кампаний по стерилизации до лагерей смерти. Но для Винсента она стала шансом на освобождение. Представив медицинское объяснение бушующих в его сознании бурь, Пейрон снял с плеч Винсента тяжкий груз прошлого. «Жизнь моя была весьма беспокойной, – писал Винсент накануне приезда в Сен-Поль, – все эти горькие разочарования, лишения, перемены не дают мне полноценно и естественно развиваться как художнику». Диагноз Пейрона не только избавил Винсента от необходимости полагаться только на свои силы, но и вернул ему утраченное ощущение личного контроля над своей судьбой. «Если ты осознаешь свое состояние, – объяснял он Тео, – если отдаешь себе отчет, что велика вероятность нового кризиса, можно подготовить себя к нему, чтобы ужас и отчаяние не застали тебя врасплох».
Кроме того, Винсент – пусть и на время – избавился от неотступного чувства вины. Если картины не продавались, а сам он не мог себя содержать, то была не его вина – он просто стал жертвой болезни. «К несчастью, нравится нам это или нет, все мы обречены жить в наше время и страдать его недугами», – писал Ван Гог, повторяя мысль Мореля. Да, он был болен, так же как и прочие, – его болезнь была ничуть не ужаснее других, будь то «туберкулез или сифилис», настаивал Винсент, по-видимому не замечая иронии, скрывавшейся в его утверждении. Если же и была чья-то вина, то искать ее надо было не в его прошлом, но в прошлом предшествующих поколений; ошибки, промахи – за все это нес ответственность не он, но его семья, не знающая прощения и милосердия.
В стремлении вдохнуть жизнь в этот новый образ освобождения и искупления Винсент начал собирать «asile imaginaire» – воображаемую клинику для художников, виной неудачам, безвестности или безумию которых, подобно его собственным, был пресловутый недуг эпохи. Ван Гог составил длинный список из жертв несправедливых обвинений: Труайон, Маршал, Мерион, Юндт, Маттейс Марис и, конечно, Монтичелли – и убедил себя, что творческая ясность неизбежно вернется к нему, как вернулась к ним. «Среди художников так много тех, кто, несмотря на периодические нервные расстройства или эпилептические припадки, все же продолжает двигаться вперед, а для художника этого, кажется, достаточно, чтобы создавать картины».
Избавившись от груза вины, Винсент наслаждался новой жизнью. Его всегда влекли заведения, связанные с ограничением свободы: сиротские приюты и богадельни Гааги; сам он лелеял мечту создать монастырь современного искусства на юге (в 1882 г. подобное место – больничный сад с прогуливающимися в нем выздоравливающими, «мужчинами, женщинами, детьми», – казалось ему «прекрасным, совершенно прекрасным»). Ван Гог собирал гравюры с больничными сюжетами и подробно описывал собственные визиты в больницы, даже если речь шла о самом тяжелом лечении; не далее как в Арле он подумывал о том, чтобы самому наняться в санитары. «У больных, вероятно, следует учиться жить», – писал он как-то брату.
В свое время Винсент резко воспротивился планам поместить его в лечебницу в Геле, но причиной было то, что инициатива исходила от отца. Теперь же, когда неумолимого пастора не было в живых, а медицинская наука прогнала прочь его призрак, Винсент наконец мог насладиться почти монастырским укладом и спартанской простотой, к которым так давно стремился. «Лечение» практически сводилось к регулярным дозам бромида (в качестве успокаивающего средства), долгим погружениям в каменную ванну, приемам пищи по расписанию (мясо ограничивали, считали, что оно слишком возбуждает), умеренному потреблению алкоголя (вино выделялось в ограниченном количестве) и успокаивающей рутине будней в заколдованной долине. Подобно героям и героиням своих любимых романов, Винсент обрел в закрытом монастыре-санатории покой, которого ему всегда так не хватало во внешнем мире, и, так же как эти герои, он постепенно начинал воспринимать этот внешний мир как настоящий сумасшедший дом.
Через пару дней после прибытия Винсент стал регулярно писать Тео, докладывая, как улучшается его самочувствие и как на него нисходят покой и умиротворение. «Желудок мой работает неизмеримо лучше»; «чувствую себя хорошо, а что касается головы – будем надеяться, что со временем все уладится и с ней, будем терпеливыми». В бодрых отчетах брату Винсент отпускал шутки насчет своей болезни и местного уклада. Скучные помещения лечебницы, где приходилось пережидать дождливые дни, напоминали ему «зал для пассажиров третьего класса на какой-нибудь захолустной станции». Переваривание пищи, состоявшей из гороха, бобов и чечевицы, было, как с иронией замечал Винсент, «сопряжено с некоторыми трудностями», в результате чего пациенты «проводили свой день за занятием столь же безобидным, сколь и дешевым». Коллективное расстройство желудка было, по словам Ван Гога, одним из главных развлечений, помимо шашек и игры в шары.
В конце мая, меньше чем через месяц после приезда, Винсент принял решение: «Мое место здесь». Хотя согласно изначальному плану он должен был провести в Сен-Реми максимум три месяца, теперь, когда появилась перспектива расслабленно провести лето на свежем воздухе, он и думать не хотел об отъезде. «Я здесь уже почти целый месяц, но еще ни разу меня не посещала мысль об отъезде. Разве что желание работать стало чуть сильнее», – признавался Винсент брату.
Вновь обретенная безмятежность нашла выражение и в его картинах. Винсент получил разрешение устроить мастерскую в просторном зале на первом этаже – пустующих помещений здесь было предостаточно. Зал имел отдельный вход, поэтому из него легко можно было выйти в сад и вынести картины сушиться на солнце.
Вдохновленный видом заросших тропинок в местном саду, Винсент увлеченно писал его живописные уголки, продолжая серию садовых пейзажей, начало которой было положено еще в Арле. Но теперь уже ничто не сдерживало его кисть. Ему больше не требовалось отчаянно доказывать свою вменяемость: наконец-то Винсент мог просто смотреть. Работалось легко и быстро. Большие листы бумаги один за другим заполнялись набросками – плоды долгого и пристального наблюдения за природой. Художник в мельчайших деталях фиксировал ползущий по стволу плющ, скамейку в зарослях травы, тень от оконной решетки на земле. Одинокий куст мог занять целый лист – Винсент неустанно изучал текстуру, характер, воздух и свет. Не только куст сирени был достаточно прекрасен, чтобы в одиночку заполнить все пространство большого холста, но и один-единственный ночной мотылек достоин быть увековеченным пером и кистью.
Чем дольше взгляд художника задерживался на этих сценах «природы в ее наготе», тем сильнее он погружался в воспоминания о прошлом. Он вспоминал «Прогулки по моему саду» Альфонса Карра – книгу его детства, посвятившую его в тайны цветов и садов, и работы мастеров барбизонской школы, впервые открывших ему, какое волшебство может таиться в самом ничтожном кустике. «Все эти прекрасные картины барбизонцев, – восторженно писал он, – кажется, совершенно невозможно, да и незачем пытаться их превзойти». Ван Гог призывал Тео вспомнить, как художники, вроде Добиньи и Руссо, «так трогательно и лично сумели выразить близость [природы], ее бесконечную умиротворенность и величие».
В сравнении с целым миром, что открылся Винсенту в заросшем саду лечебницы Сен-Поль, парижские битвы казались ему далекими и абсурдными. «Разумеется, мы навсегда сохраним некоторое пристрастие к импрессионизму, и все же я чувствую, что постепенно все больше возвращаюсь к тем идеям, которые были близки мне до приезда в Париж», – признавался он брату. Винсент не получал никаких известий от Гогена и Бернара, да и сам не проявлял к ним никакого интереса. Когда до Сен-Поля дошли слухи о бунтарском вернисаже, который Гоген с единомышленниками задумали устроить в «Кафе искусств» синьора Вольпини в противовес официальным мероприятиям Всемирной Парижской выставки 1889 г., Ван Гог едва мог скрыть свое равнодушие: «Склонен полагать, что организовалась еще одна новая секта, не более безгрешная, чем те, что уже существуют… Поистине буря в стакане воды». В конце ноября Винсент признается, что «целый год корпел над небольшими вещами с натуры, едва ли хоть раз вспомнив об импрессионизме или о чем-нибудь еще».
Одной из этих «небольших вещей» была картина, изображавшая клумбу с ирисами. Лиловые цветы, приткнувшиеся у большого куста сирени, едва доходили Винсенту до колен. Чтобы увидеть ирисы в виде растянувшейся вдоль холста стройной процессии из заостренных листьев и венчающих стебли цветов, ему, вероятно, пришлось лечь на землю. Минимум фона, ни уголка неба и тонкая полоска земли на переднем плане – в стройном шествии увенчанных цветами бесчисленных стеблей и глянцевитых листьев воплотилось все буйное изобилие весны. На картине мирно соседствовали импрессионистский мазок, обведенные отчетливым клуазонистским контуром плоскости цвета, выразительный контраст ирисов и растущих по соседству бархатцев – все, чем художник увлекался в прошлом. Но теперь он ничего не стремится доказать. «У меня нет никаких других идей, кроме мысли, что пшеничное поле или кипарис достойны самого пристального созерцания», – заявлял Винсент. Вместо того чтобы тратить время на размышления и споры, он предпочитал «отправиться искать спокойствия в созерцании стебля травы, еловой ветки, пшеничного колоса».
Фиолетовый цвет ирисов был цветом обретенной Винсентом безмятежности. Он словно писал картину своей жизни, и фиолетовый, который он выбрал, чтобы изобразить новую, отшельническую жизнь в стенах лечебницы Сен-Поль, был тем самым дополнительным цветом, которого требовал желтый обожженных солнцем арльских дней. Покой и умиротворение укромного уголка горной долины, переданные оттенками фиолетового, сиреневого, бледно-лилового, пурпурного, – лучшего контраста к отчаянию и смуте Желтого дома было не придумать.
Таковы были первые же картины, которые Винсент выставил на просушку в дверном проеме новой мастерской. Перенося на холст вид из окна своей спальни, художник видел лишь лавандовое небо, лавандовые холмы и поле по-весеннему зеленой пшеницы – еще один ton rompu (нечистый тон) голубого. Он писал Тео, что просторные виды и прохладные гармонии новых пейзажей идеально дополняли замкнутый в себе напряженно-яркий портрет его предыдущего жилища – арльскую картину «Спальня». Винсент радикально поменял отношение к цвету: «В лучшие свои моменты я мечтаю о полутонах куда больше, чем об ослепительных эффектах цвета». Куда бы он ни направил свой взгляд – в заросли кустарника или прямо в небо, художник видел оттенки все того же умиротворяющего смешения красного и синего. В письмах он пытался найти наиболее точное определение для каждого оттенка: «фиолетовый», «пурпурно-голубой», «лиловый», «бледно-лиловый», «нежно-лиловый», «грязно-лиловый», «просто лиловый», «серо-розовый», «желтовато-розовый», «зеленовато-розовый», «фиолетово-розовый».
Увлеченный поиском идеального баланса тончайших полутонов, Винсент обратился на десятилетия, а то и столетия назад. «Испытываю соблазн снова начать работать простыми цветами, – признавался Винсент брату, – охрой, например». Винсент вспоминал монохромные пейзажи гиганта Золотого века Яна ван Гойена и палевые оттенки живописи своего давнего любимца Жоржа Мишеля – оба они сумели использовать «нежные лиловатые тона вечернего неба» и охристые акценты, создавая полотна совершенной безмятежности. Винсент попробовал применить уроки старых мастеров, написав пейзаж с садовой тропинкой, бегущей вдоль охристого фасада лечебницы под сенью красновато-желтых листьев, и просвечивающим сквозь листву небом глубокого лилового цвета. Когда Пейрон разрешил Винсенту покидать пределы сада (но не территорию лечебницы), художник установил мольберт на огороженном поле, которое расстилалось за окном его спальни, – как раз вовремя, чтобы успеть ухватить момент, когда зеленая пшеница становится золотой. В письме к сестре он любовно описывал, как охра спелых колосьев с «теплыми оттенками хлебной корочки» выделяется на фоне «дальних пурпурных и голубоватых холмов и неба цвета незабудок».
Внимательное изучение объекта и спокойные цвета, которые отличали новые картины Винсента, произвели столь благоприятное впечатление, что в июне ему было позволено отправиться на поиск новых сюжетов за пределы лечебницы. «Поскольку я нахожу его совершенно спокойным, – сообщал Пейрон Тео, – я обещал ему, что разрешу покидать территорию и искать натуру там». На всякий случай работать Ван Гогу позволили только в дневные часы и непременно в сопровождении санитара. Но даже эта весьма ограниченная свобода подарила ему куда больше возможностей для выбора сюжетов. Прогулки по фруктовым садам и полям за стенами лечебницы позволяли глазу увидеть изрезанную линию горизонта так, как это невозможно было сделать сквозь раму окна или из больничного сада, где вид заслоняли здания.
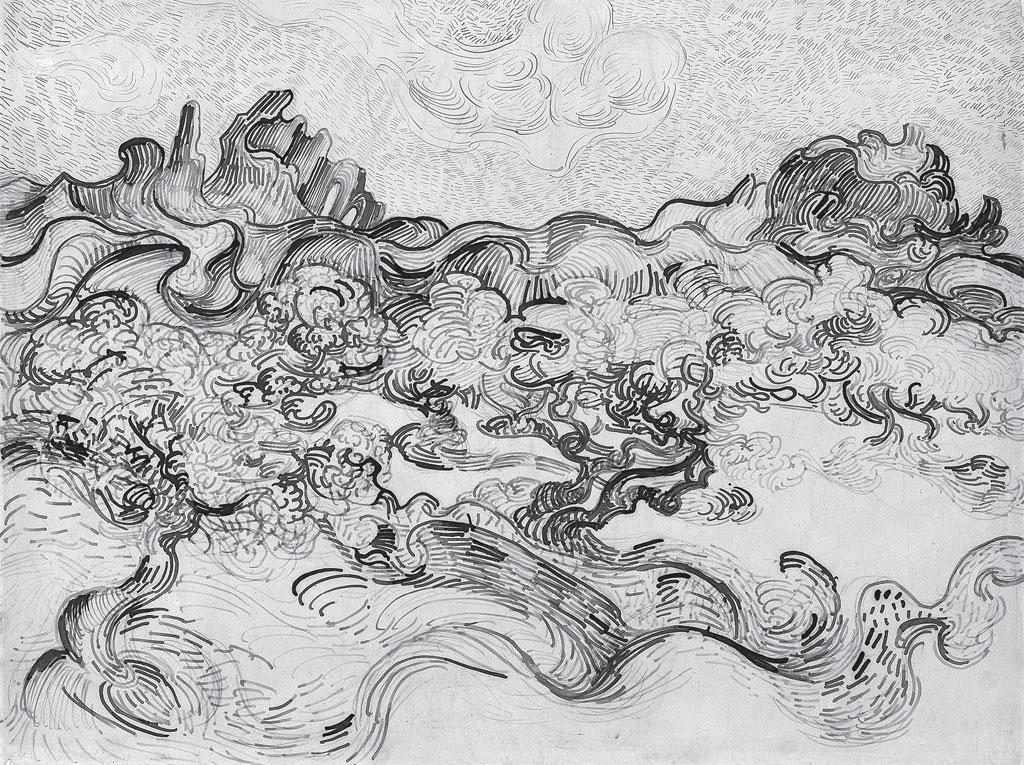
Оливковые деревья. Перо, чернила, карандаш. Июль 1889. 46 × 60 см
Очертания близких гор менялись с каждым шагом. Обрамленные зеленью скалистые известняковые откосы вздымались в небо, принимая столь причудливые формы и извивы, словно над ними была не властна сила тяготения. Земля волнами расходилась под ногами. По мере того как долина поднималась вверх, чтобы встретиться с нависшим над ней каменным бастионом, рощи и луга сменялись голыми каменистыми участками и холмистыми лощинами.
В этой уютной безмятежной долине, вдали от парижских бурь, в окружении фантастических форм и извилистых очертаний горного массива Альпий Винсент обрел новое понимание линии и формы. После одной из первых вылазок Винсент спрашивал брата: «Когда манера изображения идеально подходит изображенному объекту – не это ли отличает высококлассное произведение искусства?» По его мнению, не только цвет должен был передавать суть изображаемого предмета (землистые оттенки для нюэненских крестьян, красный и зеленый – для одиноких посетителей ночного кафе); форма тоже была призвана отразить истинную природу предмета, а не только его внешний вид. И что могло быть более созвучно этой зачарованной долине и ее сказочным горам, если не искусство гиперболизированных форм и игривых линий?
Гиперболизация, безусловно, давно уже стала обязательным элементом нового искусства, – по крайней мере, Винсент должен был сделать такой вывод на основании переписки с Бернаром после отъезда из Парижа. Но Гоген привез в Желтый дом абсолютно иное понимание моделирования изображения: он настаивал на точности линий и идеализации форм, недоступных непокорной руке Ван Гога. Теперь же в безмятежном покое своего альпийского убежища Винсент мог отложить в сторону бесполезную перспективную рамку, расслабить руку и позволить кисти самой нащупать наиболее верный образ. «На улице, снося натиск ветра и солнца или любопытство прохожих, работаешь как получится… Но вместе с тем именно здесь можно ухватить самое правдивое и самое значимое – в этом-то и состоит главная трудность».
Новое, безмятежное искусство Винсента обрело поддержку с самой неожиданной стороны: прочтя статью об экспозиции на Всемирной выставке, он сделал вывод, что древние египтяне – еще один «примитивный» народ, вроде японцев, – должны были познать тайну истинного искусства, которую сам Ван Гог открыл для себя среди холмов и долин юга. Вспоминая гранитные барельефы, виденные в Лувре, он уверял Тео, что египетские художники «руководствовались в работе инстинктом и чувством» и были способны выразить «бесконечное терпение, мудрость и душевную ясность» своих властителей «с помощью нескольких искусных кривых и безошибочного ощущения пропорций». Подобную гармонию объекта и его изображения Винсент видел в натюрмортах Шардена и шедеврах Золотого века – работах Халса, Рембрандта и Вермеера. Сумеют ли импрессионисты или кто-либо из их громогласных последователей заявить о себе столь же убедительно, вопрошал он брата все в том же письме.
Что же касается того маленького мирка, где теперь обитал Винсент, – в нем он повсюду находил гармонию, отличавшую полотна старых мастеров. Высившиеся на краю долины скалистые стены оживали на его полотнах в виде гигантских глыб, пугающих мультипликационных нагромождений камня. Изображенная крупным планом земля волновалась и переливалась рябью, точно беспокойное море; увиденная издалека, она спрессовывалась в головокружительные наслоения множественных горизонтов. Облака над головой казались скорее материальными и осязаемыми объектами, чем невесомой эфемерной субстанцией: обладая той же плотностью, что и горы внизу, облака отличались от них лишь округлыми очертаниями и способностью парить в небе. Фантастически огромный серп полумесяца ярко сиял на своей небесной делянке. На земле оливковые деревья, словно пробуждаясь к жизни, расправляли скрюченные члены, выстреливая из почвы подобно клубам дыма.
В этой зачарованной долине все было одухотворенным. Даже каменная ограда вокруг поля под окном спальни Винсента казалась такой же неотъемлемой частью пейзажа, как ограниченное ею поле. Лишенная углов и резких граней, она петляла по вздымающейся волнами земле, словно сельская дорога или живая изгородь. Винсент был убежден, что его старые товарищи Бернар и Гоген одобрили бы подобный непринужденный рисунок, не стремящийся поразить зрителя правдоподобием. «Бернар и Гоген не требуют, чтобы дерево имело достоверную форму», – утверждал художник. Но на самом деле сложно было представить себе нечто более далекое от честолюбивого стремления Гогена повторить успех Дега или от возведенного в абсолют бернаровского орнаментализма, чем безмятежный, по-детски чистый мир за гранью мира, где обитал теперь Винсент Ван Гог.
Этот мир был соткан из красочных мазков. «Какая любопытная вещь мазок, прикосновение кисти!» – писал Винсент, словно впервые удивляясь своему открытию. Меняя мазок, приводя его «в соответствие с характером предметов», Винсент обнаружил, что «у него получается нечто более гармоничное и приятное глазу, нечто, передающее царящие в душе безмятежность и счастье». Свободный от разнообразных «измов», которые так долго сковывали его руку, Ван Гог вернулся к поискам идеального сочетания предмета, линии, текстуры и настроения, начатым еще в Гааге (в рисунках и набросках в письмах он не отказывался от них никогда). Винсент ссылался на великих граверов – Феликса Бракемона и Жюля Жакмара, владевших искусством переносить масляную живопись на медную дощечку, в процессе сообщая этим произведениям новое совершенство. Ван Гог желал сделать то же самое с природой, используя характерные особенности своего выразительного средства – красочного мазка.
Идеальные объекты для практики оказались прямо перед глазами – там, куда он тысячу раз смотрел, не замечая их: кипарисы.
Они росли в долине повсюду, отдельные деревья были ровесниками римской эпохи. Они служили защитой от ветра и обозначали могилы; они высились по краям дорог и отмечали границы, росли группами или вздымались в небо, словно одинокие стражи. Когда Винсент увидел их по-настоящему, густые и плотные «бутылочно-зеленые» кроны этих деревьев и их простая коническая форма совершенно его поразили. «Своими линиями и пропорциями они прекрасны, как египетский обелиск». «Кипарисы по-прежнему чрезвычайно занимают меня, – писал он брату, – я хотел бы сделать с ними что-то вроде моих холстов с подсолнухами: меня удивляет, что до сих пор никто не изобразил их так, как вижу я».
Художника занимала не только идеальная коническая форма этих деревьев – «темных заплат на залитом солнцем пейзаже», для него кипарисы были целыми созвездиями, составленными из точных ударов кисти. Подобно астроному, наблюдающему в телескоп звездное небо, чем пристальней смотрел Винсент, тем больше он видел – и тем детальнее фиксировала увиденное его кисть. Издалека плотно прилегающие к стволу ветви все стремились к заостренной верхушке, извиваясь и трепеща, словно языки пламени. Но по мере того как наблюдатель приближался к дереву, каждая трепещущая ветвь превращалась в маленькую спираль, состоящую из цвета и движения. Одни ветви тянулись вверх, из-за чего дерево выглядело устремленным к небу, другие тянулись в стороны. Ван Гог терпеливо – ветка за веткой, спираль за спиралью – воссоздавал их на холсте, превращая древние памятники природы в величественные монументы живописи.
К концу месяца Винсент уже работал одновременно над дюжиной полотен – практически на всех были кипарисы. Еще с десяток холстов были выставлены перед дверью его импровизированной мастерской, высыхая под жарким июньским солнцем. На одном из них был изображен один-единственный кипарис, темным силуэтом выделявшийся на фоне удивительного ночного неба. «Наконец-то я закончил новую картину со звездным небом», – сообщил Винсент брату.
В поисках спокойствия и безмятежности Винсент неизбежно возвращался к этому образу. Он гордился ночным видом Роны, который написал в сентябре прошлого, 1888 г., накануне приезда Гогена. Тео тоже понравился этот пейзаж. В конце мая, через неделю после того, как брат похвалил картину, Винсент предложил представить ее на выставке журнала «Независимое обозрение» («La Revue Indépendante») в сентябре, «чтобы не показывать чего-то совсем уж безумного». Не попади он тогда в арльскую больницу (возможность выходить на улицу только днем, изоляторы без окон, запрет на краски и кисти), Винсент, без сомнения, вернулся бы к этой теме еще раньше.
Ограничения в лечебнице Сен-Поль были ничуть не менее строгими. Ван Гогу по-прежнему не разрешалось выходить с мольбертом после наступления темноты и писать, как ему хотелось бы, под звездным небом. Кисти и краски хранились в мастерской на первом этаже – художник имел доступ к ним только в дневное время. Чтобы написать звездную ночь, ему приходилось довольствоваться видом сквозь переплетения решетки окна в спальне. Винсент работал в те часы, когда огни лечебницы гасли, небо темнело и на нем появлялись звезды. Вероятно, он делал наброски, глядя на маленький квадратик неба на востоке, видимый в небольшое окно его комнаты. Наступала ночь, на небе появлялась убывающая луна и созвездие Овен, сиявшее прямо над вершинами холмов на востоке. Четыре главных звезды созвездия выстраивались в подобие арки над тусклым отблеском Млечного Пути. Перед рассветом на горизонте появлялась утренняя звезда Венера, яркая и белоснежная, – идеальная спутница раннего пробуждения или долгой бессонной ночи. А он все смотрел и смотрел на свет, исходивший от каждой звезды, или вглядывался в окружавшую его мерцающую темноту.
В дневные часы Винсент переносил свои зарисовки на холст. Чтобы сделать чуть более земным свое небесное видение, художник добавил внизу, на небольшом отдалении, спящую деревню. В июне он однажды выбирался на день в Сен-Реми, небольшой городок в полутора километрах вниз по склону. В тот раз или во время одной из своих вылазок на холмы, откуда можно было смотреть на город, Винсент сделал детальный набросок этого популярного горного курорта с его плотной сетью средневековых улочек, обрамленной широкими современными бульварами. В родном городе знаменитого астролога и провидца Нострадамуса теперь с удовольствием останавливались отдохнуть разные проезжие знаменитости, вроде Фредерика Мистраля и Эдмона де Гонкура.
Однако для своей картины Винсент превратил суетливый городок с шестью тысячами жителей – административный центр одноименного кантона – в сонную деревню, где набралось бы от силы несколько сотен обитателей, – размером, кажется, не больше Зюндерта или Хелворта. Главная высотная доминанта города, возведенная в XII в. церковь Святого Мартина, с ее устрашающе заостренной каменной колокольней, на картине Ван Гога стала простой деревенской часовней с похожим на иглу шпилем, лишь слегка возвышающимся над горизонтом. Сам город оказался перемещен из долины к северу от лечебницы на восток, раскинувшись ровно перед окном комнаты Винсента в лечебнице Сен-Поль на фоне знакомой зубчатой гряды Альпий – туда, где и горы смогли бы присутствовать при удивительном небесном действе.

Кипарисы. Перо, чернила. Июль 1889. 60 × 46 см
Когда все необходимые элементы – кипарис, вид города, горы, горизонт – были надежно закреплены в памяти Винсента, кисть его обратилась к небу. Здесь его уже не сковывала необходимость делать наброски, не ограничивала модель перед глазами, не сдерживала перспективная рамка, его глаз мог свободно и непредвзято любоваться светом – непостижимым, утешительным светом, которым для него всегда сияли ночные небеса. Он видел, как этот свет преломлялся – извивался, множился, дробился, – проливаясь сквозь призмы его прошлых увлечений: от сказок Андерсена до путешествий Жюля Верна, от поэзии символистов до астрономических открытий. Герой его юности Чарлз Диккенс писал: «Весь наш мир, со всем, что в нем есть великого и малого, умещается на одной мерцающей звезде». «Тончайшая звездная пыль рассыпалась по небосводу искристым песком», – описывал летнее небо герой его настоящего Эмиль Золя.
Из-за тысяч звезд в бесконечной глубине неба проступали все новые и новые тысячи. То был непрерывный расцвет, неугасимый очаг миров, горящий ясным огнем самоцветных камней. Уже забелел Млечный Путь, развертывая атомы солнц, столь бесчисленных и далеких, что они только опоясывают небосвод лентой света.
В прочитанном, обдуманном, увиденном Винсент уже давно искал не «настоящее» ночное небо – неподвижные крохотные точки и желтоватый свет ненавидимой им «ночной» живописи, – но нечто более близкое к идее бесконечных возможностей и неугасимого огня – абсолютной безмятежности и покоя – то, что он видел в искристой, цветущей ночи, описанной Золя.
Стремясь зафиксировать эту идею, художник задействовал свою новую палитру с оттенками фиолетового и охры, непринужденные изгибы горных вершин, завихряющиеся спирали ветвей кипариса и случайные, рассеянные мазки, с помощью которых он мог получить «нечто, передающее царящие в душе безмятежность и счастье». Подобно древнеегипетским художникам, ведомый одним лишь «инстинктом и чувством», он писал ночное небо таким, каким его никогда еще не видел мир: калейдоскоп пульсирующих маяков, вихри звезд, сияющие облака и луна, которая светит ярче любого солнца, – этот фейерверк космического света и энергии видел своим внутренним зрением один только Винсент.

Звездная ночь. Перо, чернила. Июль 1889. 46 ×60 см
В следующем веке ученые обнаружат, что латентные эпилептические припадки напоминают фейерверки электрических импульсов в мозгу больного. Американский философ и психолог Уильям Джеймс назовет их «нервными бурями» – «взрывами», аномальными нейронными разрядами, спровоцировать которые в мозгу, состоящем из миллиардов нейронов, способны всего несколько «эпилептических нейронов». Эти каскадные всплески случайных вспышек часто зарождаются в самых чувствительных областях мозга, особенно в височной доле или лимбической системе, – там же они оказывают самое сильное воздействие, – именно эти зоны ответственны за восприятие, внимание, понимание, особенности личности, выражение, способность к познанию, эмоции и память. «Бомбардировка» этих участков эпилептическим ливнем может поколебать основы сознания и личности.
Ученые выяснили, что мозг в состоянии перенести подобную бурю, но не способен полностью оправиться от ее последствий. Каждый приступ понижает порог для следующего и навсегда изменяет пострадавшие функции. Сочетание страха (перед очередным приступом) и неврологических изменений в поврежденных участках мозга создают поведенческую модель – синдром, который принято ассоциировать с так называемой «височной эпилепсией».
За приступами, как правило, следуют периоды крайней пассивности – апатичное помутнение; в такие периоды больные теряют интерес к внешнему миру и происходящему с ними. Сексуальные потребности идут на спад. Человеку, незнакомому с симптомами заболевания, да и самому больному эта пассивность может часто казаться умиротворенностью. Но постепенно апатия переходит в свою противоположность – состояние повышенной возбудимости. Жертва болезни начинает крайне чутко реагировать на внешний мир, ее захватывают сильные чувства, глубокие эмоциональные переживания (будь то эйфория и экзальтация, депрессия или паранойя), исступление нарастает. Такое обостренное восприятие реальности, особенно под влиянием алкоголя, часто приводит к космическим видениям и религиозному экстазу. По мере того как сознание возбуждается все сильнее, вновь появляются раздражительность, импульсивность и агрессия – отличительные признаки латентной эпилепсии. Любое сильное беспокойство неизбежно приводит к пароксизму – и цикл начинается заново.
Главный вопрос – что же провоцирует появление аномальных «эпилептических» нейронов в мозгу, так и остался без ответа. Еще во времена Ван Гога некоторые ученые считали, что вызвать заболевание могут травмы, опухоли мозга или врожденные пороки. Продолжали подозревать наследственную предрасположенность. Но непосредственную причину приступов – под действием чего больной мог резко перейти от апатии к эйфории, паранойе, возбуждению, жестокому припадку через год, месяц, а то и через день после предыдущего приступа – выявить так и не удалось.
Стресс, алкоголь, плохое питание, недостаток витаминов, эмоциональные потрясения – все это могло сделать мозг более уязвимым к электрическим бурям. Мощный подъем мог одновременно парализовать сознание эпилептика навязчивыми идеями – мыслями-паразитами, которые впивались в него, вытесняя все остальное, искажая восприятие и память и отчуждая окружающих до момента, когда раздражение и конфликты – предвестники припадка – становились неизбежными. Любая чрезмерная стимуляция пораженных участков мозга, то есть перебои в восприятии, работе когнитивных или эмоциональных функций, открывала дорогу разрядам нейрональной «молнии». Триггером мог стать визуальный раздражитель – луч солнца, пробивающийся сквозь листья, дрожание век, даже образы, вызванные описанием в книге. Яркие сны, неожиданные события, ссоры с близкими, резкая фраза, брошенная незнакомцем, нахлынувшие воспоминания, ощущение повышенной значимости событий – в результате размышлений религиозного или метафизического характера – все это могло спровоцировать измученный мозг на новый приступ.
Эйфорический образ закрученного в вихре безудержного космоса на картине Винсента сигнализировал о том, что защитные механизмы уже не в состоянии сдерживать болезнь.
Даже здесь, в изоляции от остального мира, Винсенту не суждено было избежать провоцирующих факторов – ни внешних, ни внутренних. Из Парижа и Голландии регулярно приходили письма с двусмысленными приветствиями от родственников. Тео с восхищением писал о картинах и художниках, к которым братья всегда испытывали особые чувства; когда же речь заходила о трудностях, переживаемых Винсентом, его тон немедленно становился участливым («Вряд ли приятно находиться рядом со всеми этими сумасшедшими людьми»). Но на Тео давили семейные заботы, к тому же его, по-видимому, тревожили дополнительные расходы на лечебницу в Сен-Реми, и письма стали приходить реже.
Тем не менее он по-прежнему относительно неплохо, хотя и без особого энтузиазма, отзывался о работах, выполненных в Арле. «Со временем они станут очень хороши, – уклончиво писал Тео, – и, без сомнения, будут когда-нибудь оценены по достоинству». Из арльских работ Тео особо отметил «Колыбельную» и портрет почтальона Рулена, которые называл «самыми занятными из всех». Когда в июне из Сен-Реми начали приходить странные, утрированные пейзажи, Тео не смог удержаться, чтобы не спросить открыто: почему в них так «искажена форма»? Но сам он, судя по всему, не сомневался в причине: «Твои последние картины дали мне обильную пищу для размышлений относительно состояния твоего сознания в момент их создания… Как же должен был мучиться твой мозг и как ты рисковал всем, доходя до предела, где головокружения уже не избежать!»
Йоханна тоже писала – иногда радостно присоединялась к письмам мужа, иногда пыталась самостоятельно нащупать подход к Винсенту. «Дражайший брат, – так начала она свое первое послание в начале мая, – пора уже твоей новой младшей сестричке самой поболтать с тобой… теперь мы поистине стали братом и сестрой». Йоханна не могла знать, какие раны она наносила брату мужа, рассказывая о себе в новой роли «мадам Ван Гог» и семейном счастье с Тео. «Мы как будто всегда были вместе», – писала она. «Он всегда приходит домой в полдень на обед и в половине восьмого – на ужин». Вечерами, по ее рассказам, к ним часто присоединялись гости, в том числе и члены семьи. По воскресеньям супруги проводили вместе целый день, только вдвоем: иногда посещали галереи, а иногда оставались дома, чтобы «развлечься по-своему». Неловкие, наивные намеки на супружескую близость («По вечерам мы обычно очень устаем и рано отправляемся в постель») сотрясали основы отношений Винсента с братом и уязвляли его мужское достоинство, точно так же как и рассказы невестки о том, как «ни дня не проходит, чтобы мы не говорили о тебе», вызывали приступы тревоги и вины.
Сестра Вил изливала на Винсента свое беспокойство с похожей беспечностью. Из всех братьев и сестер именно младшая пристальней других следила за мучительными перипетиями судьбы старшего брата. Потенциальных женихов у нее не было и не предвиделось – как и Винсент, Вил, похоже, была обречена на одинокую жизнь и бесконечное самокопание. Пребывание брата в лечебнице Сен-Поль давало ей право рассуждать в письмах о схожести их судеб. «Отчего так много людей, которые, так же как и я, пытаются найти свое место в жизни, преуспевают гораздо больше?» – допытывалась Вил. Уж не была ли она, подобно Винсенту, жертвой какой-то роковой болезни, не позволявшей ей наслаждаться обычной жизнью? Разговоры о несчастной любви и недоступном счастье неизбежно приводили к мыслям о Тео и его новой жизни в качестве мужа и отца. Как пример того, чего желалось бы ей самой, Вил прислала Винсенту экземпляр романа Эдуарда Рода «Смысл жизни» («Le sens de la vie») – сентиментальной истории заблудшего буржуа, который ищет умиротворения и смысла в объятиях «милой и исключительно самоотверженной жены и их ребенка» (как саркастически резюмировал содержание книги Винсент). Мать тоже писала Винсенту: она изображала последний триумф Тео с таким необдуманным восторгом, что это уже граничило с жестокостью.
Книги тоже таили опасность. Наука могла возлагать вину за несчастья Ван Гога на роковую наследственность, но в литературе он повсюду видел перст, указывающий именно на него как на виновника всех бед. Продолжая выражать «безграничное восхищение» произведениями поборников натурализма – Золя и братьев Гонкур, во время своего пребывания в лечебнице Сен-Поль Винсент намеренно воздерживался от чтения этих авторов, явно опасаясь, что их гиперреалистичные соблазны и обвинения, которые он принимал на свой счет, могут спровоцировать новый приступ. Вместо романов Золя он обратился к философской мелодраме Эрнеста Ренана «Жуарская настоятельница» – истории об обреченных возлюбленных, стоических страданиях и браке, заключенном из чувства долга, но без любви. Что могло потревожить его меньше, чем высокопарная пьеса о судьбе монахини-расстриги во времена революционного террора?
Но и здесь нашелся повод для раздражения. Как и Род в своей поучительной истории о буржуазных ценностях и счастливом супружестве, в «Жуарской настоятельнице» Ренан возвеличивал материнство, а одиночество изображал уделом хуже смерти. «Все это не слишком вдохновляет. Автор признает, что находит утешение в обществе жены, что, разумеется, очень тонко подмечено, но для меня лично совершенно бесполезно, поскольку мало что говорит о смысле жизни», – разочарованно резюмировал Винсент общие впечатления от книги Рода и пьесы Ренана.
Как и в Боринаже, Винсент снова искал убежища в мире Шекспира, благо этот мир был достаточно далек в силу временно́го и языкового разрыва. Он сосредоточился на исторических пьесах – единственном жанре творчества великого Барда, с которым он еще не успел как следует ознакомиться. Истории бедствий и испытаний Ричарда II, Генриха IV, Генриха V и Генриха VI, истории о дурной крови и вырождении в семье, соперничестве между братьями и сыновнем предательстве, похищенном или утраченном иным способом праве первородства и трагической гибели героев вследствие роковых ошибок наверняка доставили ему некоторое утешение.
Винсент отчаянно и резко противостоял непреднамеренным обвинениям и провокациям, заверяя брата: «Благодаря предпринимаемым мною предосторожностям теперь болезни будет уже не так легко справиться со мной, и надеюсь, ее приступы больше не повторятся». Самой главной из предосторожностей было не поддаться изнуряющему чувству вины, которое грозило поглотить его с каждым новым письмом из Парижа. В ответ на связанные с финансовыми делами опасения Тео Винсент в очередной раз обещал усердно трудиться, работать над более ходовыми сюжетами (цветами и пейзажами в особенности) и разрабатывал сложные схемы возрождения деловых отношений с Англией – посредством примирения с Александром Ридом («Кажется, я был невозможно резок с ним и обескуражил его утверждением, что было бы лучше, если бы дилеры любили художников больше, чем их живопись») – и с Голландией, чему, по мнению Винсента, должна была поспособствовать женитьба брата («Женитьба на голландке позволит рано или поздно снова наладить деловые контакты с Амстердамом и Гаагой»). Попытки Йоханны сблизиться слишком ранили его, и Винсент отклонил их, сочтя невестку милой, но поверхностной простушкой, подчеркнуто называя ее в переписке «голландская жена» Тео.
В ответ на вялые похвалы брата в адрес его искусства Винсент довольно сдержанно отзывался о Йоханне («Смею надеяться, она найдет множество способов сделать его жизнь чуть более приятной») и в письмах, адресованных супруге брата, пускался в специальные рассуждения об искусстве (о котором Йоханна мало что знала) и расхваливал Париж (в котором ей если что-то и нравилось, то только «обилие цветов») – все это должно было подчеркнуть, насколько особое место занимал он в жизни Тео, и никакая жена, тем более не «храбрая и проворная» Йоханна, не могла его заполнить. От участливой заботы сестры Винсент тоже отмахнулся – он едко высмеивал наивные читательские вкусы Вил («Добрые женщины и книги – две вещи несовместные», – иронизировал он в письме к Тео) и пророчил ей мрачное и лишенное всякой надежды будущее. «Нам придется смириться с бездушной жестокостью эпохи и с нашим одиночеством», – писал он сестре, предсказывая ей, как и себе, жизнь в «бедности, болезни, старости, безумии и вечной ссылке».
Шекспиру, с его непреодолимой силой судьбы, противостоял другой титан – Вольтер, который, по мнению Винсента, «по крайней мере, оставляет надежду на то, что жизнь, возможно, имеет хоть какой-то смысл».
Но перед убийственным приговором, который слышался ему в радостных письмах матери, Винсент был беззащитен. «Вот уже много лет, как я не получал от матери писем, в которых было бы столько внутреннего умиротворения и спокойного довольства, – признавался он Тео. – Уверен, это все из-за твоей женитьбы. Говорят, если делаешь приятно родителям, жить будешь дольше».
Призрак пасторского дома в Зюндерте вернулся к Винсенту.
К середине июня его сознание вновь заполонили опасные образы. Он зациклился на матери и ее радости по поводу очередного триумфа Тео и теперь постоянно думал о своей «Колыбельной» – воплощении материнства и свидетельнице его арльских несчастий. Лишь один шаг отделял его от возвращения к давней одержимости фигурой и портретам, а заодно от нового приступа тоски по несбывшейся мечте о «Милом друге Юга». «Ах, если бы хоть иногда я имел возможность работать с такими моделями, как… та женщина, что позировала для „Колыбельной“, я смог бы сделать нечто совсем другое». Вскоре последовали привычные уже сетования на трудности поиска моделей, подходящих для создания «излучающих свет и бесконечно утешительных» портретов, – моделей, подобных героям рисунков Домье, романов Золя или пьес Шекспира. Свои рассуждения Винсент завершал, возвращаясь к главной причине переживаний: «В том, что мать рада твоей женитьбе, тоже есть жизнь».
В скором времени все прежние обиды и несбывшиеся в прошлом чаяния выплеснулись на холст, воплотившись в изображении огороженного поля под окном спальни Винсента с одинокой фигурой жнеца, срезающего золотые колосья под ослепительным желтым небом. В письме Винсент рассуждал об этой сияющей фигуре в шекспировском духе, обнажая темные глубины своего сознания:
Разве мы, питающиеся хлебом, не напоминаем во многом пшеничные колосья, по крайней мере, не приходится ли нам покоряться и расти как колос, не подобны ли мы растению в своей неспособности передвигаться – так, как побуждает нас наше воображение, и не сжинают ли нас, когда мы созрели, как те же пшеничные колосья?
Винсент прибыл в Сен-Реми, мало интересуясь религией (свое «вероисповедание» он определял как «охвостье чего-то вроде буддизма») и с решительным желанием избежать навязчивых идей, которые так часто и с такими катастрофическими последствиями переворачивали с ног на голову его эмоциональный мир в Арле. Но и письма, и картины художника по-прежнему выдавали его стремление доказать, что существует еще что-то, помимо повседневности, некая «другая сторона жизни». Рассуждая об искусстве, Винсент все чаще стал прибегать к мессианской терминологии, напоминавшей о периоде его увлечения проповедничеством. Художники, писал он, существуют, «чтобы дарить утешение или подготовить людей к еще более утешительной живописи». Напрасно Винсент утверждал, будто подобные мысли совершенно не означают «возврат к романтическим или религиозным идеям, нет» – не только его слова, но и его искусство свидетельствовало об обратном.
После того как Тео опрометчиво похвалил рембрандтовский рисунок ангела («Хотел бы я, чтобы ты мог его увидеть, он изображает стоящую фигуру архангела Гавриила… Что это за чудо!»), Винсент стал то и дело упоминать в письмах религиозные образы, от «Пьеты» Делакруа среди гравюр, украшавших его стену, до библейских сцен Рембрандта, которые хранил в своей памяти. В опереточной мелодраме Ренана, в сентиментальной ахинее Рода, в таинственных фигурах святых у Рембрандта или в небезупречных героях Шекспира Ван Гог находил «эту щемящую нежность, проблеск сверхчеловеческой бесконечности» – и подобные находки неизбежно вели к мыслям о бренности человеческого существования и о том, что ожидает человека после смерти. Тео «оступился» и еще раз, в том же письме вскользь упомянув «Обучение Девы Марии» Делакруа, после чего Винсент тут же вспомнил о своей фаянсовой Богоматери, «Колыбельной»; тоска по семье и поиски смысла опять ввергли его в омут отчаяния, выход из которого был только один. Утешая сестру Вил, переживающую свой собственный кризис, Винсент признался, куда подобное состояние привело его самого: «По-моему, ты, сестра, очень смелая, раз не боишься этой Гефсимании». Словно пытаясь ощутить себя на этой священной земле, Винсент бродил по оливковым рощам вокруг лечебницы, снова и снова изображая на своих полотнах пустующие декорации для библейской сцены, хотя сам признавался, что рощи эти «слишком прекрасны, чтобы я дерзнул написать их или хотя бы смог помыслить об этом».
Наконец в середине июня художник отказался от опасной и невозможной идеи поместить среди олив фигуры библейских персонажей – вместо этого он поднял глаза и написал ночное звездное небо над своей головой. В противном случае, предупреждал он Тео и самого себя, следом могло прийти «головокружение», а вместе с ним «беспросветные потоки боли».
Малоубедительные оборонительные мероприятия – те «предосторожности», которыми Винсент хвастался перед Тео, едва ли были способны защитить его от угроз, таившихся в его собственных мыслях. Выстоять перед равнодушием и агрессией реального мира у них не было ни малейшего шанса. Во время первой вылазки в Сен-Реми, в начале июня, знакомый страх следовал за Винсентом по пятам, точно так же как и сопровождавший его санитар. «Один только вид людей и вещей привел меня в полуобморочное состояние, я чувствовал себя просто ужасно, – докладывал он Тео после прогулки. – Должно быть, причиной тому было какое-то чрезмерно острое переживание в моей душе, и я понятия не имею, чем оно было вызвано».
Для Пейрона и его подчиненных ужас, терзавший их пациента, оставался невидимым: все, что они видели, – то, как Винсент возился в своей мастерской на первом этаже или торопливо шагал в сторону ворот со всем своим скарбом, отправляясь на дневную прогулку в долину. Так что 6 июля, когда Ван Гог пришел к Пейрону и попросил разрешения на следующий день съездить в Арль, врач не нашел причин отказать, отпустив его с одним лишь условием: с ним должен поехать сопровождающий. Винсент сообщил, что собирается перевезти в лечебницу свою мебель и как следует обустроить свой новый дом – очевидно, в знак согласия с рекомендацией Пейрона продлить свое пребывание в стенах лечебницы Сен-Поль. «Следует выждать год, лишь после этого можно будет поверить в то, что окончательное выздоровление произошло; теперь же любой пустяк может спровоцировать новый приступ», – писал Винсент Тео.
Пейрон не знал, что роковой «пустяк» уже случился. Винсент попросил отпустить его в Арль в тот самый день, когда получил из Парижа письмо с волнующей новостью: Йоханна беременна. «Дорогой мой брат, – писала она (впервые по-французски), – я собираюсь сообщить тебе великую новость… Мы ждем ребенка, очаровательного мальчугана, которого назовем Винсентом, если ты согласишься стать ему крестным отцом».
Радостное сообщение Йоханны спровоцировало взрыв не сразу. Собравшись с духом, Винсент в тот же день написал ответ – неумеренно восторженное письмо, адресованное «дорогим брату и сестре». «Поздравляю вас, – писал он, – это такая приятная новость». Но в письме, полном заверений в полнейшем восторге от новости и сердечных поздравлений будущим родителям, Винсент жаловался на слабое здоровье, писал о мучившем его неоплатном долге и раскаянии, жаловался на непреодолимую тягу к алкоголю, нехватку дружеского общения и страх смерти. Новость Йоханны не только заставила его изменить планы – вместо краткосрочного пребывания в лечебнице, запланированного изначально, он согласился на предложение Пейрона продлить лечение как минимум на год, – но и превратила поездку в Арль из бытовой необходимости в отчаянную попытку вырваться из изоляции, на которую, как казалось, он был теперь обречен.
Однако ни времени, ни продуманного плана у Винсента не было. В конце головокружительной поездки на поезде через ущелья перед ним был Арль, где у него не осталось буквально ни одного друга. Ван Гог направился к дому пастора Саля, но там ему сообщили, что священник отбыл в продолжительный отпуск. Он отважился нанести визит в больницу, где провел столько беспокойных ночей, в надежде найти доктора Рея, но и тот, как оказалось, уехал. От кого-то Винсент услышал, что доктор сдал экзамен и отправился в Париж, но больничный привратник, который явно должен был узнать Винсента, сказал бывшему пациенту, что ничего не знает об этом. В итоге Винсент провел бо́льшую часть дня то ли в кафе, то ли в борделе в компании людей, которых он затем туманно описывал как «бывших соседей»; это означало, что и с Жину он не встретился (мебель художника так и осталась в Арле), а единственными, кто готов был общаться с ним, были проститутки и собутыльники, чьи имена художник так и не посмел назвать брату. Под присмотром сопровождающего из лечебницы ему явно оставалось только топить свое одиночество в алкоголе – ведь ему так давно хотелось вкусить запретного блаженства.
Даже не слишком внимательный Пейрон заметил, как изменился Винсент после возвращения из Арля. Возбужденное состояние больного и отчет о его вольностях во время отлучки, возможно, побудили директора урезать Ван Гогу порцию мяса и вина в попытке его успокоить. Еще более зловещими были признаки, которых Пейрон не мог заметить: на протяжении нескольких дней после возвращения Винсент изливал на бумагу потоки тоски, сожалений и самобичевания. Новость Йоханны усугубила переживания, вызванные июльским письмом матери, полным восторгов по поводу женитьбы Тео. В своих поздравлениях Винсент пытался развеять опасения невестки – она боялась, что постоянные проблемы Тео со здоровьем станут причиной слабой конституции у ребенка. Он напомнил Йоханне, что дочь Руленов Марсель (чей портрет висел в новой квартире Тео), «несмотря на опасения родителей, появилась на свет с улыбкой и очень здоровой».
Разговоры о детях и образы материнства, в особенности мадам Рулен, позировавшей для «Колыбельной», не давали Винсенту избавиться от навязчивых мыслей, связанных с тоской по материнской любви. Он сравнивал заботу о ребенке с «не слишком успокаивающими, но целебными» порывами так хорошо ему знакомого мистраля и предсказывал, что, став дядей, сможет «вновь обрести вкус к жизни». Впервые за долгие годы Винсент написал матери длинное и сердечное письмо («Не могу передать, какую радость доставило мне это письмо!» – сообщала Анна Тео), пронизанное ностальгией по родному дому и детству (не таким, каким он его прожил, но каким воображал). Погрузившись в воспоминания, Винсент писал о заросших мхом голландских крышах, дубовых зарослях, буковых изгородях и «прекрасных нюэненских березах», которые так любила Анна. Якобы пытаясь утешить мать, расстроенную из-за грядущего отъезда младшего сына Кора на золотые прииски в южноафриканский Трансвааль, Винсент обратился к самой деликатной теме – давнему отчуждению и мечте о примирении. «Печаль» от «разлуки и утраты», мучительно напоминал он матери, «помогает нам понять и вновь обрести друг друга впоследствии».
Но куда бы Винсент ни обращался, повсюду ему слышались обвинения страшного призрака Орля: в рассказах Йоханны о болезнях брата и ее страхах перед врожденными дефектами, которые Тео мог передать потомству, в еще более тяжких опасениях матери, вызванных хрупкостью конституции Тео и бременем, которое ему приходится нести на своих плечах. Винсент пытался верить в действенность панацеи Панглосса («Иногда нас исцеляет сама болезнь») и сохранять терпение и спокойствие: «Болезненное состояние – всего лишь результат стремления природы выправить себя». Но никакие слова не могли его успокоить; никакие доводы не были в состоянии его оправдать. В заботе матери о Тео Винсенту слышалось заступничество его заклятого врага Гупиля; в попытке брата стать отцом он видел окончательную победу неумолимого пастора. Когда в начале июля пришла новость о продаже картины Милле за головокружительную сумму в полмиллиона франков, Винсент воспринял ее не как торжество справедливости, но как упрек. По его собственному признанию, перед лицом бесконечной бедности и забвения эта сделка заставила его страдать от «черной нужды, которая всегда терзала Милле», не меньше, а даже больше.
Целыми днями он балансировал на грани полного самоуничижения. Обличающие голоса слышались ему даже в ночном треске цикад за окном его спальни. Они пели ему о прошлом и будущем, безвозвратно утраченных для него из-за «незначительных эмоций – великих капитанов нашей жизни, которым мы подчиняемся, сами того не ведая». Предположение, что Тео может покинуть его или умереть, разбудило всех демонов Желтого дома. В голове снова засела мысль о Монтичелли, безумном марсельском художнике, реинкарнацией которого Винсент объявил себя ранее. Случайно он узнал, что один из врачей в лечебнице был знаком с Монтичелли, но считал того лишь «чудаком», – с ума он сошел всерьез «только перед самой смертью». Это странным образом подействовало на Винсента успокаивающе: история марсельца казалась ему неизбежным сценарием его собственной судьбы. «Зная, какие страдания выпали на долю Монтичелли в последние годы, можно ли удивляться, что он не вынес столь непомерно тяжкого бремени?»
Винсент написал письмо Гогену – единственному свидетелю учиненных им бесчинств – с очередной просьбой о прощении ради возвращения к нормальной жизни. Для Тео он написал этюд сада, из тех, что так нравились брату: заросший плющом тенистый зеленый уголок в солнечных бликах – не просто аллюзию на давних любимцев из барбизонской школы, вроде Диаса де ла Пеньи, но намек на щедрую красочность и невозможную мозаику цвета безумного Монтичелли. В мастерской Винсент разобрал привезенные из Арля картины и отобрал несколько полотен для Тео, отмечая свои неудачи с безжалостностью жнеца, за которым наблюдал из окна. «Нелегко вновь обрести мужество после всех тех ошибок, которые я совершил», – признавался он в сопроводительном письме.
В конце концов, загнанный в угол всеобщим признанием его вины, Винсент разрешил Тео оставить его. В прощальном письме эмоции настолько переполняли его, что он едва был в состоянии собраться с мыслями. Винсент писал брату: «Если тебя тоже тяготят серьезные обязательства… думаю, что лучше бы нам не беспокоиться друг о друге сверх меры». Реальная жизнь художника оказалась иной, чем представлялась им в юности, и теперь Тео должен был заботиться о собственной семье. В конце своего душераздирающего послания безутешный Винсент попытался утешить себя иллюзией солидарности – живой и навязчивой, как всякая галлюцинация. Описывая Тео как подобного себе «изгнанника, чужака, бедняка», Винсент возводил в абсолют детство, проведенное вместе на пустошах («пустошах, которые по-прежнему невыразимо дороги нам»), и недолгое бесшабашное совместное пребывание в Париже. То была жизнь, существовавшая теперь лишь в воспоминаниях братьев. Прошлое осталось в прошлом. И для Тео, и для Винсента пришло время «встретить свою судьбу».
То ли через несколько дней, то ли через несколько часов после того, как Винсент написал это письмо, его поразил очередной приступ. Взрыв случился в середине июля, когда Винсент, как обычно, отправился работать на пленэре. Как и все его встречи с природой, эти прогулки таили опасность. «При соприкосновении с природой меня охватывают эмоции, от которых я едва не лишаюсь сознания», – напишет он однажды Альберу Орье. Винсенту было предупреждение: за день или два до приступа он писал скалистую горную гряду Альпий «с темнеющей среди оливковых деревьев хижиной внизу». Во время работы ему вспомнилась сцена из «Смысла жизни» Рода – горная хижина, «зачарованный приют», где герой книги обрел счастье с женой и ребенком. Не сумев избежать опасной аналогии, Винсент живо представил себе безмятежную жизнь Тео, Йоханны и будущего ребенка; то был идеал «более простого и настоящего существования», образ которого, по признанию Винсента, не переставал иногда преследовать его.
Вскоре после этого, возможно уже на следующий день, Винсент вновь отправился в опасное путешествие: он искал «дикую глушь, где мольберт приходится приваливать камнями, чтобы ветер не сбросил все на землю». Поиски привели его к старой каменоломне – заброшенной уже не один век дыре в земле, где даже в яркий солнечный день не было ни души.
Как только Винсент закрепил мольберт и начал работу, как подобный пушечному выстрелу яростный порыв ветра разметал по сторонам холст, мольберт и краски, положив конец прогулке. Винсент был потрясен символичностью случившегося, безжалостное равнодушие природы сразило его: под ногами разверзлась библейская бездна. Природа-утешительница, которая позволяла «легче ощутить соединяющие всех нас связи», вдруг оказалась холодной и жестокой, и Винсента охватило «страшное чувство одиночества». Затем у него закружилась голова. А потом настала тьма.
Назад: Глава 37 Две дороги
Дальше: Глава 40 Одинокий

