Глава 30
Расчетливое безумие
Почему же Винсент решил начать свое добровольное изгнание из Парижа в тридцати с лишним километрах от Средиземного моря, в старинном прованском городе Арль с населением двадцать тысяч человек? Если бы он отправился на легендарный юг Франции – Миди – за хорошей погодой, он бы не стал сходить с поезда и продолжил двигаться дальше. (Он даже подумывал поехать в Танжер.) Вместо этого он ступил по щиколотку в снег и в поисках комнаты стал продираться сквозь самую лютую зиму в Арле за последние десять лет.
Приедь он в поисках «изумительного южного света», обещанного Лотреком и Синьяком, вряд ли он посвятил бы свою первую картину мясной лавке в переулке в Арле – обычная городская сценка, ни неба, ни солнца. Такую можно было написать и на Монмартре. Если бы его целью были женщины, прекрасные арлезианки, воспетые Мишле, Мультатули и другими авторами, он бы выбрал Марсель – всего в восьмидесяти километрах Винсента ждал шумный портовый город, похожий на Антверпен. В таких местах можно было найти женщин на любой вкус.
Однако он сразу принялся за работу. Ни лютый холод, ни мистраль не могли отвлечь его от прерванной миссии. Покидая Париж, Винсент освободился от брата, но не от собственного представления о les frères Ван Гог. Более того, расстояние лишь усилило его приверженность общему с Тео делу, которое началось в мансарде и на улице Лепик. «Я прошу тебя только об одном, – писал он Тео в письме вскоре после прибытия в Арль. – Дело, которое ты начал в магазине на бульваре, должно продолжаться и набирать обороты». Для этой миссии не нужны были ни солнце, ни небо – лишь перо и бумага.
Сняв комнату над рестораном «Каррель», Винсент тут же развернул целую кампанию по укреплению братской солидарности. И действовал он не менее упорно, чем ветер, что свистел за окном. Винсент завалил Тео письмами на французском – языке не только искусства, но и коммерции – с советами относительно перспектив их общего дела. Приводя подчас жесткие и циничные аргументы, Винсент осуждал бездушие конкурентов, для победы над которыми предлагал хитроумные, даже макиавеллиевские схемы. Он обучал молодого управляющего тонкостям торговли, пространно рассказывая о непостоянстве вкусов публики, и призывал проявлять хитрость и безжалостность в борьбе с конкурентами.
Вообразив себя полномочным советником Тео, Винсент рассуждал о последствиях таких событий, как смерть кайзера Вильгельма, для рынка искусства. Он писал, что война с Германией, на которую уже настроился французский генерал Буланже, «может положительно сказаться на торговле живописью». В своих письмах Винсент заимствовал воинственную риторику, которой были наполнены тогдашние газеты и кафе, чтобы склонить Тео к их общей миссии. Он предупреждал, что другие дельцы будут «вставлять палки в колеса», разрабатывал «план наступления», клялся, что «вернется к делу», и уверял брата, что «победа почти неизбежна».
Всего через несколько часов после прибытия, несмотря на снег, Винсент уже отправился на поиски картин, подходящих для entresol, в первую очередь работ любимца обоих братьев – Адольфа Монтичелли. Он пообещал себе обязательно доехать до Марселя, родного города Монтичелли, до того как их опередят конкуренты. Он радовался известиям о том, что давний коллега Тео Александр Рид был крайне раздосадован упреждающим ударом Винсента по югу Франции, ликовал оттого, что увлечение Рида Монтичелли подстегнуло цены на те пять его работ, которые уже были у Тео. И чтобы помочь брату получить солидный куш с этой внезапной удачи, Винсент изо всех сил убеждал Джона Питера Рассела, с которым они вместе учились у Кормона, купить картину Монтичелли у Тео. Он сравнивал недавно ушедшего из жизни художника не с кем-нибудь, а с самим Делакруа, мастером цвета. «В [его] работах есть нечто страстное и неизменное – богатство цвета и богатство света восхитительного юга», – в своих письмах Расселу Винсент привлекал внимание и к марсельскому художнику, заодно напоминая о себе.
Помимо длинных дружеских посланий к Тео, Винсент одно за другим отправлял письма с советами и словами поддержки «товарищам», членам круга братьев Ван Гог, главным образом Эмилю Бернару. Он сообщал им о продажах работ Моне в мансарде, намекая, что мог бы помочь и им. Винсент использовал обещание Тео способствовать обмену работ брата, исходя из сложных расчетов их относительной стоимости и дальнейшего размещения. Написав письмо Лотреку, еще одному своему соученику по ателье Кормона, он вложил послание в конверт, адресованный Тео, и попросил брата доставить его лично. Благодаря этой тактике на каждом письме Винсента появлялась печать управляющего фирмы «Гупиль». Он также написал молодому другу обоих братьев, голландцу Арнольду Конингу, призывая его «рассказать всем в Голландии, что ты видел в Париже». Даже в письмах сестре Вил он рекламировал их с братом дело: «Тео изо всех сил старается помочь импрессионистам. Он совсем не такой, как другие продавцы, которым нет ни малейшего дела до художников».
Внезапно проснувшаяся в Винсенте тяга к предпринимательству все время мысленно переносила его в Гаагу, в тесную контору Х. Г. Терстеха, где он пережил столько унижений. Холод и одиночество в гостиничном номере располагали к переосмыслению прежних суждений – это вновь поглотило воображение Винсента. В порыве воодушевления он представлял, как бывшие заклятые враги падут под тройным натиском, а их с братом дело разрастется на весь континент. С помощью Терстеха они с Тео могли бы создать целую сеть торговцев-единомышленников в Англии, Голландии и во Франции, привлекая людей, которым «небезразлична судьба художника». Терстех устраивал бы «живописцам Малого бульвара» встречи в Лондоне и в Гааге, Тео выставлял бы их в мансарде, а Винсент продвигал бы дело в Марселе и «получил бы возможность устраивать выставки импрессионистов».
Винсент представлял, как художники всех направлений стремились бы принять участие в таком благородном деле и как благодаря его новому предпринимательскому проекту осуществится давняя мечта об «объединении» художников. А такие известные «живописцы Большого бульвара», как Дега и Ренуар, движимые моральным долгом, передавали бы свои работы для общего дела. Их полотна легко продаются, и так они могли бы поддержать «малых импрессионистов» – этим термином он обозначал себя и всех художников entresol. Ван Гог представлял, как Жорж Сёра пожертвует им три свои картины – по одной для каждой новой выставочной площадки, которые он планировал организовать в Лондоне, Париже и Марселе.
Но, как всегда, все зависело от согласия безжалостного управляющего с улицы Платс. Винсент продолжал настаивать: «Нужно привлечь Терстеха». Терстех мог стать незаменимым союзником в торговле новым искусством в Голландии и в Англии, и его репутация помогла бы привлечь больше людей. Винсент написал бывшему начальнику письмо, в котором изложил свои увлекательные фантазии и смелые предсказания коммерческого успеха и описал, как перехитрить Рида на английском рынке. «В Голландии [Вы] могли бы продать для нас около пятидесяти [картин], – писал он, – а все из-за низкой стоимости полотен, представляющих несомненный интерес». Он отправил письмо Тео, поручив ему добавить от себя слова поддержки, прежде чем передавать послание адресату. А когда Винсент узнал, что Терстех вскоре собирается в Париж, он стал убеждать Тео осуществить их план и провести Терстеха по мастерским художников, где тот бы «своими глазами увидел, что в следующем году все будут говорить о новой школе».
Отправив письмо, Винсент засел в холодном номере – он сгорал от нетерпения. Уже через несколько дней он пытал Тео: «Чертов Терстех так тебе и не написал?» Когда и через две недели не было никакого ответа, он стал продумывать искусную схему, которая позволит им склонить на свою сторону хитроумного управляющего. Винсент пообещал самому себе: «Если он так и не ответит, он еще о нас услышит». Он решил, что Терстеха можно переманить, если показать ему одну из своих работ. Для этого он задумал посвятить картину недавно умершему Антону Мауве и подарить ее Йет – вдове Мауве и кузине Винсента и Тео. Терстех, как близкий друг Мауве, обязательно увидит полотно, а подобный шаг даст братьям возможность посетовать на его бездействие. «Мы не заслужили того, чтобы к нам относились бы как к пустому месту», – ворчал он.
Наконец после трех недель ожидания Тео получил письмо от Терстеха, в котором не упоминался ни Винсент, ни его послание, ни его работы. Возмущенный очередным знаком пренебрежения, Винсент писал брату: «Вот увидишь, он еще мне напишет, как только увидит мои работы». Еще раз убеждая Тео в успехе своего плана, он упросил его отправить Терстеху одну из своих парижских работ – этюд, написанный прошлой весной в Аньере, – и заверил, что дальше картины будут еще лучше. «Мы должны найти свое место под солнцем, – писал он брату. – Когда я думаю об этом, я впадаю в расчетливое безумие».
В марте, когда снег растаял, а деревья покрылись почками, все это безумие выплеснулось на холсты.
Тео вновь смог зажечь деловую искру Винсента в конце февраля, предложив ему прислать несколько картин для четвертого ежегодного Салона Независимых – главной выставки авангардного искусства. Движимый чувством вины или чувством благодарности, а может, и тем и другим, Тео сделал это предложение вскоре после их внезапного расставания. Возможно, таким образом он надеялся хоть как-то компенсировать то, что сам не взял работу Винсента для выставки в мансарде в январе и феврале, где были представлены полотна других «художников Малого бульвара» – Писсарро, Гийомена и даже Гогена, который совсем недавно вошел в круг общения братьев.
Тео выполнил свое обещание: он не только вдумчиво отобрал работы Винсента для выставки, но и приватно показал их избранным клиентам своей галереи. Один из посетителей мансарды – заезжий немецкий художник – вспоминал, как Тео «рассказывал, что у него есть брат-художник, который живет в провинции… Из другой комнаты он принес несколько картин без рам [и] скромно встал в сторонке, наблюдая за тем, какой эффект они произведут». Все это вселяло надежду. Через несколько месяцев Тео получил записку от коллекционера, бывавшего в магазине Танги и желавшего посмотреть на другие работы Винсента, а возможно, даже что-то приобрести. При этом он так мало знал о новом художнике, что в записке называл его «твой зять».
Пытаясь ухватить последнюю надежду на успех, Винсент бросился на белые, еще не оттаявшие просторы, лихорадочно подбирая подходящую натуру. Но «в серости зимних дней особо ничего не напишешь, – сообщал Тео сестре Вил, – да и холод для него вреден». Когда Винсент находил наконец подходящий мотив – грязную, изрезанную колеями дорогу или очертания Арля вдалеке, – он обращался к холодной палитре и точечным мазкам Синьяка и Сёра. Практически в то же время в Париже Тео пытался установить отношения с теми же двумя художниками. В марте он навестил Синьяка, а чуть позже приобрел работу Сёра. «Поздравляю тебя, – писал Винсент, услышав о покупке. – Я пришлю тебе кое-какие работы – постарайся обменяться и с Сёра тоже».
Но в ту зиму и весну настоящей звездой мансарды был Клод Моне. Фирма «Буссо, Валадон и K°» уже снимала сливки с прошлогодних масштабных инвестиций в серию морских пейзажей с видами Бель-Иль. Подобный успех придал Тео смелости, и он решил в дальнейшем не упускать этого художника. Моне отправился на зиму в Антиб, город на Лазурном Берегу близ Ниццы, более чем в полутора сотнях километров на восток от Арля, откуда сообщал, что трудится над серией видов средиземноморского побережья, «бурлящего моря и согнутых ветром деревьев». К началу марта Тео уже готовился выкупить антибские полотна и провести в июне персональную выставку Моне в мансарде – первую для него за целое десятилетие. Винсент, безусловно, видел и с каким нетерпением Тео ждал выставки, и как восхищался талантом Моне столь искусно выбирать сюжеты и натуру для своих картин. Новости о коммерческом успехе тоже не могли обойти Винсента стороной.
После столь длинной, снежной и небывало холодной зимы весна в том году пришла в Арль стремительно. Природа зацвела и залила все вокруг новыми красками. Яблони, груши, персики, сливы в садах – все сразу покрылось цветами. Поля заросли лютиками и маргаритками. Изгороди покрылись розами, а обочины – ирисами. Такой весны Винсент еще не видел: в сравнении с медленным оживанием после зимней спячки садика пасторского дома это было настоящее буйство плодородия.
При таком изобилии все вокруг казалось Винсенту достойным кисти. Уходящие вдаль изгороди и бесконечное многообразие фруктовых деревьев как нельзя лучше подходили для создания серии полотен, раскрывающих индивидуальный стиль художника. Именно такие серии принесли успех Моне. Каждый день, когда позволяла переменчивая погода, Винсент тащил свой нелегкий скарб из города в поля, шагая по обрамленной деревьями дороге. Винсент проявлял исключительную даже для него дисциплинированность и целеустремленность: он ставил мольберт напротив каждого фруктового дерева, как будто занимался изучением садоводства в Провансе. Он писал тонкие абрикосовые деревья, усыпанные мелкими розовыми цветами, гибкие румяные сливы и осанистые груши, украшенные бело-желтыми бутонами, писал яблони и персики за широкой плетеной изгородью, защитников от жестокого мистраля – высокие кипарисы, изображал цветущие вишни и изящные ветви миндального дерева.
Для того чтобы запечатлеть все разнообразие фруктовых деревьев, Винсент перепробовал самые разнообразные живописные стили. В арльских садах можно было найти натуру для каждого из модных парижских «-измов». Помимо воздушного импрессионизма Моне и его последователей, вроде Гийомена, Винсент работал в приглушенных тонах, излюбленных Джоном Питером Расселом, с которым они вместе учились у Кормона. За год до этого, во время поездки на Сицилию, Рассел написал серию фруктовых садов, и Винсент использовал это совпадение, чтобы привлечь богатого австралийца к участию в предприятии, затеянном вместе с Тео. «[Я] работаю над серией цветущих садов, – писал он Расселу в апреле, – и невольно часто думаю о тебе – ведь ты занимался тем же самым на Сицилии. Как-нибудь я отправлю свои картины в Париж и надеюсь, что ты согласишься обменяться со мной каким-нибудь этюдом». Но ничто не могло быть дальше от нервных точек и штрихов, с помощью которых Винсент в том же месяце изобразил ряд персиковых деревьев, чем тональные поэмы Рассела. Следуя технике (если не теории) Синьяка, Писсарро и других последователей научно выверенного цвета Сёра, он прилежно осыпал небо синими, а деревья – крохотными розовыми лепестками.
Для Бернара Винсент изображал сады, словно сошедшие со средневекового витража, старательно «выкладывая» мозаику чистых цветов, разделенных темными контурами, страстно доказывая свою приверженность заветам японизма, которыми вдохновлялись те, кто придумал клуазонизм. Винсент составлял подробные описания, которыми сопровождал пояснительные иллюстрации. «Вот еще один сад, – писал он в апреле, приложив карандашный набросок с обозначением будущих цветов. – Новый плодовый сад, довольно простой по композиции: белое деревцо, зеленое деревцо, грядка зелени, лиловая земля, оранжевая крыша и бескрайнее синее небо». Подобные описания сопровождались искренними заверениями в приверженности Бернару и отречении от импрессионистских догм.
Кладу мазки без всякой системы. Разбрасываю их по холсту как попало и оставляю как есть. Густо положенные краски, куски незаписанного холста, то там, то сям вовсе не законченные части, поправки, грубости; короче, я склонен думать, что результат настолько беспокойный и вызывающий, что он не доставит удовольствия людям со сложившимися представлениями о технике.
Но как бы громко ни заявлял Винсент о своем протесте молодому бунтовщику и единомышленнику Бернару, ему все еще было важно мнение тех самых людей «со сложившимися представлениями о технике», особенно одного из них. Той весной в своих письмах к Тео он доказывал возможность продажи «фруктовых садов» и заверял в стремлении угодить публике: «Ты же знаешь, что такие картины всем нравятся». Винсент воображал, как его солнечные сады позволят «добиться успеха в Голландии» и наконец-то склонить на свою сторону упрямца Терстеха. Он постоянно ссылался на их «несусветную радостность» – это кодовое слово, обозначавшее перемены в его творчестве, к которым Тео взывал годами. Он был уверен: новая палитра унаследована от таких звезд мансарды, как Монтичелли, или корифеев импрессионизма, вроде Ренуара, надеясь, что вместе с ней он унаследует и их коммерческий успех.
Чтобы сделать свои доводы еще убедительней, он описал планы амбициозного «единого декоративного ансамбля», способного соперничать с серией Моне из Бель-Иль и с огромными полотнами Сёра, которые братья видели в феврале в его мастерской. Винсент придумал не просто рисовать отдельные картины с садами, а целые серии гармонирующих друг с другом работ. Всю жизнь неравнодушный к каталогизации и упорядочению, теперь Винсент задумал создать серию триптихов. «Я имею смелость надеяться написать еще три, тоже подходящие друг к другу», – три изображения сада: одно вертикальное полотно, а по бокам – два горизонтальных.
Убежденный в том, что такие композиции картин более декоративны и поэтому будут хорошо продаваться, Винсент принялся «дорабатывать» уже написанные картины, чтобы «придать им определенное единство». В то же самое время он думал над «окончательным ансамблем произведений большего масштаба» – серией из девяти полотен, составленной из групп по три. Обнадеженный очередным предвкушением успеха, Винсент давал небывалые обещания своему парижскому партнеру. «Эти три забери для своей коллекции, – писал он Тео в мае относительно триптиха. – Только не продавай их, ведь вскоре каждая из них будет стоить пять сотен». «Полсотни картин такого качества, – грезил Винсент, – и я смогу вздохнуть свободнее».
Но жить этим иллюзиям было суждено недолго. Не успели опасть последние лепестки с фруктовых деревьев, как Винсент отложил кисти, и тут же навалились старые беды. Южный климат не помог – здоровье продолжало ухудшаться: художника одолевали расстройства желудка, приступы лихорадки и общая слабость. Язвы во рту, зубные боли и проблемы с желудком, по собственному признанию Винсента, превратили приемы пищи «в настоящую пытку» – оставалось только голодать. Он жаловался на рассеянность и затуманенность сознания, с тревогой рассуждая в письмах о судьбах других художников, де Бракелера и Монтичелли, из-за «болезней мозга» превратившихся в «безнадежные развалины», – так братья обозначали общую для них беду – сифилис.
Поначалу Винсент винил в преследующих его «несчастьях» «чертову зиму» и «скверное парижское вино». С приходом весны он стал меньше пить и курить, уверовав, что пьянящий средиземноморский воздух избавит его от необходимости прибегать к дополнительным опьяняющим средствам. Но и это имело пагубные последствия. «Когда я бросил пить и стал меньше курить, я вновь начал размышлять, вместо того чтобы всеми силами избегать этого. Боже мой, что за тоска и подавленность навалились на меня!» На какое-то время Винсент вообще перестал вылезать из кровати в своей комнате над рестораном «Каррель» и требовал, чтобы еда, а главное – вино, которое ему приносили, были самого лучшего качества. «Я был так изможден, так болен, – писал он, – что не чувствовал в себе сил жить в одиночестве».
Винсент скучал без Тео. С того самого момента, как он сел в поезд в Париже, он сожалел о том, что оставил брата, и утешался мыслями о счастливой встрече. «В пути я думал о тебе не меньше, чем о незнакомых пейзажах этого края, которые проносились у меня перед глазами, – писал он Тео на следующий день после прибытия в Арль. – И все время говорил себе, что потом ты, возможно, и сам будешь сюда часто приезжать». Несмотря на снег у порога гостиницы, Винсент все равно расхваливал Прованс, как когда-то Дренте, и называл его лучшим местом, где человек, занятый коммерцией, мог бы «восстановить силы, успокоиться и обрести душевное равновесие». Когда сошел снег, воодушевление, которым его наполнила весна, и безумное рвение к работе не давали пустоте захватить его. Но все вернулось, как только отцвели сады. «Ах, мне все больше кажется, что человек – корень всех вещей», – с тоской писал он в апреле. Месяц спустя он добавил: «Все выглядит иначе; изменилась и природа – стала более неприветливой».
Как всегда, он искал утешения в собственном воображении. Винсент взялся читать роман Ги де Мопассана «Пьер и Жан» – историю двух братьев. Возможно, он искал легкости, которая так восхищала его в произведениях французского писателя (читая Мопассана в Париже, он уверял, «что давно так не смеялся»), а возможно, проникновенного описания братских чувств, как в «Братьях Земгано». И наверняка он был обескуражен мрачностью и несчастливым финалом «Пьера и Жана». Однако утешением для него стало предисловие к книге, где Мопассан изложил новую теорию искусства, – Мопассан так же ясно обосновывал нынешнюю ссылку Винсента, как Золя – предыдущую. Описывая свои художественные идеалы, Мопассан настаивал на праве, даже полномочии любого художника видеть мир по-своему: создавать личную «иллюзию о мире… в зависимости от своей натуры» и затем «внушать ее человечеству». Винсент восторженно пересказывал брату идеи Мопассана («Он говорит о свободе художника преувеличивать, создавать в своем романе мир более прекрасный, простой и дарующий человеку больше утешения, чем наш»), а затем использовал эти идеи, чтобы внушить Тео и всему своему бывшему кругу собственную иллюзию о мире – о мире общего бунтарства, общей жертвы и, главное, общего одиночества, но мира, дарящего утешение. «Мы все-таки чувствуем, что живем, когда вспоминаем, что у нас есть друзья, стоящие, как и мы, вне реальной жизни», – писал он в апреле.
До самого конца весны Винсент боролся с реальностью своего одиночества, упиваясь иллюзией братских отношений и воспоминаниями об идиллии улицы Лепик. Но прошло меньше месяца, и, забывшись на минуту, Винсент сознался, что понимает, насколько призрачны его иллюзии. «По-моему, лучше самообман, чем муки одиночества, – признавался он. – Полагаю, что меня охватило бы уныние, не умей я обманывать себя».
Поглощенный «расчетливым безумием» и мыслями о прежней жизни, Винсент предпочитал игнорировать происходящее вокруг. Первые месяцы он почти ничего не писал об Арле и его жителях, а как только наладилась погода, стал регулярно выезжать из города – благо гостиница была рядом с вокзалом. Временами он прятался в ресторане «Каррель» или ел, не выходя из номера. Несколько раз Ван Гог ездил смотреть бой быков на местной арене (после в письме увлеченно сообщая брату, что видел, как «тореадор всмятку расквасил мошонку, прыгая через барьер») и, конечно, наведывался в местные бордели (удачно расположенные в квартале от гостиницы). Но даже в этих редких вылазках его глаз всегда выхватывал что-нибудь, хоть как-то связанное с делом братьев и entresol. Раненый тореадор «весь в небесно-голубом и золоте» напомнил ему фигуру на одном из «наших Монтичелли»; описание борделя в письме Бернару полностью соответствовало той жизнерадостной авангардной палитре, которую он обещал найти на юге:
Полсотни или больше военных в красном и гражданских в черном; физиономии великолепно желтые и оранжевые (таков уж цвет лица у здешних жителей); женщины в небесно-голубом и алом, самых что ни на есть ярких и кричащих. Все это в желтом свете.
Мыслями Винсент оставался в Париже – он так и не смог проникнуться самобытностью нового для себя города. Со времен Александра Македонского Арль то и дело оказывался добычей самых разных захватчиков и хранил следы всех великих цивилизаций, существование и гибель которых Винсент столько раз переживал, штудируя историю или рисуя карты: греческие поселенцы, финикийские торговцы, римские легионеры, вестготские племена, византийские правители, сарацинские завоеватели и армии крестоносцев. Карфагенянин Ганнибал наверняка видел город с высоты Альпия, хребта Альп в полутора десятках километров к северу от Арля. В 46 г. до н. э. великий Юлий Цезарь называл Арль «Римом Галлии». А вскоре, согласно легенде, семья и друзья Иисуса чудесным образом высадились на побережье неподалеку, бежав от беспорядков, последовавших в Иудее после распятия Христа.
Все эти и многие другие события помнили узкие улочки Арля. Римляне, например, оставили городу свое наследие в камне. Огромная арена, где Винсент смотрел бой быков и восхищался «громадными пестрыми толпами, нависающими друг над другом с двух или даже трех галерей», была построена в I в. н. э. императором Веспасианом. Неподалеку разоренные руины римского театра отбрасывали тень древней истории на лабиринт средневековых улочек, по которым Винсент целеустремленно шагал вперед. Он шел на этюды, не удостаивая вниманием многочисленных туристов, среди которых был и Генри Джеймс, проделавший немалый путь, чтобы увидеть «самые пленительные и впечатляющие развалины» из тех, что ему довелось наблюдать.
Не будь Винсент столь поглощен своими мыслями, он, возможно, тоже сумел бы найти в истории Арля метафору, которая смогла бы его утешить. Целые тысячелетия Арль господствовал над стратегически важным местом впадения Роны в Средиземное море. Словно остров, окруженный со всех сторон топями и водой, город находился на самой оконечности огромной треугольной дельты, представляя собой ворота в один из самых богатых регионов Европы. Но копившийся веками ил заполнил каналы устья, превратил их в болота и отодвинул море за горизонт, к югу. Лишенный порта, Арль потерялся во времени и пространстве. Теперь место шумных пристаней и сияющих вод заняли старые камни, наблюдающие за широкой ленивой рекой, покачивающейся морской травой и табунами диких лошадей.
Во всем этом Винсент видел лишь разруху. «Грязный городишко, – писал он Тео. – Сплошная разруха и упадок».
Презрение Винсента к городу распространилось и на его обитателей. Во время каждого своего выезда в сельскую местность он находил жителей Прованса странными и нелюдимыми, равно как и они его. «Все [они] словно существа из другого мира», – писал он через месяц после прибытия в Арль. Как и жители шахтерского Боринажа, арлезианцы говорили на диалекте, который Винсент, привыкший к парижскому французскому, понимал с огромным трудом. И даже сами французы высмеивали местные средневековые обычаи, католический мистицизм и всепроникающие суеверия. В 1872 г. Альфонс Доде опубликовал первый комический роман из цикла о незадачливом хвастуне из Прованса по имени Тартарен. Главный герой был жителем Тараскона, действительно существующего городка, расположенного чуть более чем в пятнадцати километрах от Арля. Благодаря этому произведению уроженцы Прованса превратились в объект насмешек для всех остальных французов – их повсюду высмеивали за балагурство и хвастовство.
Как в свое время он счел путеводитель вполне достоверным источником для изучения нравов жителей Боринажа, так и теперь, надеясь свести дружбу с «простыми и бесхитростными жителями здешних мест», Винсент руководствовался пародийным романом Доде. Он пребывал в недоумении и растерянности оттого, что единственным источником художественных принадлежностей стал для него художник-любитель и по совместительству местный бакалейщик (он имел доступ к изрядным запасам яичных желтков, чтобы готовить грунт для холстов, которые продавал). После посещения местного музея Винсент с высокомерием типичного парижанина заявлял: «Кошмар и надувательство, достойное Тараскона».
Местные жители, чувствуя презрительное отношение со стороны приезжего, отвечали взаимностью. О нем отзывались как о méfiant – «подозрительном» и frileux – «нелюдимом» типе. Позже кто-то из горожан вспоминал, что Винсент «всегда выглядел так, будто спешил куда-то, и даже не думал до кого-нибудь снизойти». Как и шахтеры Боринажа, и крестьяне Нюэнена, арлезианцы не одобряли его странных манер и причудливых одеяний. Один из местных жителей затем вспоминал Винсента как «vraiment la laideur personnifiée» – «истинное воплощение уродства». Как и раньше, он, сам того не желая, все время привлекал внимание подростков, которые «выкрикивали ему вслед ругательства, когда он, сгорбив свое массивное тело, шел с трубкой в зубах и сверкая безумным взглядом», – вспоминал впоследствии один из них. С грустью Винсент вынужден был признать, что очередная попытка обрести дом обернулась провалом. «До сих пор мне не удалось вызвать симпатию у людей, – писал он тем летом. – Иногда я не разговариваю ни с кем по несколько дней, разве что заказываю кофе и ужин. И так было с самого начала».
Правда, время от времени Винсент встречал других художников, избравших для работы Прованс. Кристиан Мурье-Петерсен, двадцатидевятилетний датчанин, живший неподалеку от Арля, оказался очередной жертвой тирании Винсента. «Работы у него сухие, правильные и робкие, – сообщал он Тео. – Я много рассказывал ему об импрессионистах». Как всегда, Винсент присылал радостные истории о вечерах и пленэрах, проведенных в компании молодого утонченного компаньона. Но как только Мурье-Петерсен покинул Арль в мае того же года, восторженные рассказы, как обычно, сменились презрительностью («этот идиот»), бесконечными воспоминаниями о ссорах и запоздалыми жалобами на полную неспособность ученика размышлять.
Как раз в то время, когда Мурье-Петерсен собирался покинуть Арль, Винсент познакомился с двадцатисемилетним американским художником по имени Додж Мак-Найт, который арендовал мастерскую в близлежащей деревушке Фонвьей. Американцы никогда не нравились Винсенту – он считал их неотесанными, и во время первой же встречи Мак-Найт полностью оправдал подобное отношение. «Лучше бы он писал картины – для художественного критика его взгляды настолько ограниченны, что можно только посмеяться», – такой итог подвел Винсент их разговору. И лишь то, что Мак-Найт был другом Джона Питера Рассела (который по-прежнему оставался объектом коммерческих амбиций Винсента), заставило последнего попридержать коней и отложить неминуемый разрыв хотя бы на пару месяцев.
Сочетание неизбывной тоски по Тео и неутихающего чувства одиночества вызвали целую волну ностальгии. Винсента мучили изнуряющие приливы воспоминаний и раскаяния, особенно в те минуты, когда он изнывал от безделья – из-за отсутствия ли материала или же тем для новых полотен. По мере того как фруктовые сады теряли былую красочность, художник все чаще жаловался на глубокие страдания и обещал самому себе «обязательно найти новый сюжет для картины». Воспоминания о былом заполнили душевную пустоту, заняв все помыслы и завладев пером и кистью Винсента.
Окрестности Арля все время напоминали ему о детстве и родных краях: о каналах, сетью покрывших болотистую местность, о мельницах, осушавших эти болота. Обрамленные деревьями дороги уходили за горизонт; бескрайние поля тянулись до самого моря. Даже небо, дугой нависавшее над цветными лоскутами рощиц, заливных лугов и скошенных полей, воскрешало в памяти великие полотна Золотого века – произведения Рейсдала и Филипса Конинка. На берегах Роны или Темзы воображение Винсента легко перемещалось в прошлое. Действительно, как и Лондон, Прованс со всеми сходствами и различиями напоминал ему о Голландии.
Времена года там сменялись так же и так же светило солнце, и этого было достаточно, чтобы перенести Винсента в долину реки Маас. «Я все время думаю о Голландии, – писал он в июле, – теперь, когда я еще дальше и времени прошло еще больше, воспоминания эти становятся все надрывней».
В апреле произошли тревожные перемены: Винсент отложил ящик с красками и взялся за перо и карандаш (свои первые художественные инструменты) – как будто и не было всех этих парижских экспериментов. Он отправил Тео два рисунка, выполненные «в технике, которую я опробовал когда-то в Голландии». Вместо того чтобы исследовать окружавшие его руины близлежащих альпийских вершин, Винсент все время обращался к сценам, которые он видел и рисовал сотни раз: ивы со срезанными верхушками; ферма, одиноко стоящая посреди пшеничного поля; одинокий путник на уходящей в бесконечность, обрамленной деревьями дороге. Наводя свою громоздкую перспективную рамку на чужие, но такие знакомые пейзажи, художник сначала делал подробный карандашный рисунок, а потом, уже у себя в комнате, раз за разом дорабатывал его пером.

Дорога на Тараскон. Перо, чернила, карандаш. Июль 1888. 25 × 33 см
Винсент использовал жесткие тростниковые стебли, которые срезал на берегах каналов и обочинах дорог. Отсекая верхушки под тем же углом, что и «у гусиного пера», он добился поразительного количества вариантов оставляемых ими следов – тонкие штрихи, точки, плотные линии, густые, как от кисти, мазки и строгие черные контуры – и научился тщательнейшим образом вырисовывать каждую ветку и лист. На некоторых рисунках Винсент поднимал горизонт почти к верхнему краю листа, сосредотачиваясь не на средиземноморском небе, а на мельчайших изменениях травянистой текстуры дикого луга. Похожие сюжеты он изображал вместе с Раппардом на болотах Пассиварт близ Эттена; их же Тео ценил куда больше бессчетных ткачей и крестьян; они же вернули здоровье матери Винсента в Нюэнене. И только эти рисунки удостоились похвалы его сурового отца.
К одному мотиву Винсент возвращался снова и снова.
В марте, когда растаял снег, Винсент совершил одну из первых вылазок за пределы Арля и приметил знакомый вид – это был разводной мост. Сооруженный из огромных брусьев, выгоревший добела на солнце, он служил переправой на канале, соединяющем Рону и Пор-де-Бук в полусотне километров на юго-восток от Арля. На родине Винсента подобные скелетообразные приспособления можно было встретить повсюду. Более того, около десятка мостов через тот же канал было построено голландскими инженерами по голландскому образцу. Именуемое в технике двукрылым раскрывающимся мостом, такое сооружение имело устройство не сложнее, чем у детской игрушки. Обшитые деревом фермы, словно ворота с каждой стороны канала, поддерживали конструкции из тяжелых балок, соединенных цепями с крыльями моста, с одной стороны и противовесами – с другой. Вес был так точно сбалансирован, что небольшого усилия хватало, чтобы привести в движение огромный деревянный механизм и открыть путь судам. С громким скрипом мост раскрывался, и по мере того, как противовесы опускались на землю, половины его поднимались, каждая перпендикулярно своему берегу.
Особенно Винсента привлек мост Режинель, соединявший дорогу из Арля в порт Сен-Луи на побережье, хотя добраться до него из гостиницы «Каррель» было не так-то просто. Впервые он заприметил этот мост в середине марта, как раз когда потеплело и местные женщины стали стирать белье на берегу поросшего водорослями канала. Эта сцена отсылала Винсента в прошлое: не только мост, но и фигуры прачек напоминали ему собственное творчество до отъезда в Париж. Дикий тростник и заросшие берега приводили на память образы полей и прудов Нюэнена, но никак не Аньера, излюбленного парижанами места отдыха. На фоне ярко-синего неба неровными тонами охры и желто-коричневого Винсент набросал мост с его каменными опорами – образ, отсылавший к пасторскому саду и отцовской Библии. Для самого моста он выбрал не яркие цветовые плоскости японизма, а скрупулезную детальную прорисовку, напоминающую о станках нюэненских ткачей. Впервые с отъезда из Парижа он обратился к своей громоздкой перспективной рамке и подробно перерисовал каждую деталь непростого механизма: опоры, канаты и подъемные блоки, тяговые цепи. Крылья моста, стоящие на массивных опорах и возвышающиеся над иссушенными берегами канала, толпящиеся крестьянки, движение беспокойных вод – все это стало частью знакомого пейзажа, такой же неотъемлемой, как старая башня над церковным кладбищем, где упокоился отец Винсента.
В течение целого месяца, не страшась тягот и неудобств, с перспективной рамкой и карандашом Винсент вновь и вновь возвращался к этой вехе своей памяти. Мост он рисовал с обоих берегов канала: на северном берегу располагался перед домом Ланглуа, смотрителя моста (по его имени местные жители называли и сам мост), а на более крутом южном берегу становился там, где тропинка шла вдоль береговой линии. Винсент рисовал мост с запада, обращаясь в сторону моря, и с востока, глядя на закат; сбоку и прямо – в сильном перспективном сокращении. Винсент, словно школьник, прорисовывал механизм моста до мельчайших деталей при помощи карандаша и линейки. В марте Винсент отправил набросок Бернару, в описании намекнув на долгие часы, проведенные в тени моста: «Матросы со своими подружками возвращаются в город… проходя на фоне причудливого силуэта подъемного моста».
С каждой поездкой, с каждым взглядом на мост прошлое все четче проявлялось и в мыслях Винсента, и на его полотнах. Уже в конце марта одной газетной статьи, посвященной памяти Мауве, присланной сестрой Вил, было достаточно, чтобы вызвать у Винсента слезы раскаяния и сожаления. «Меня охватило… что-то, чего я и сам не знаю, – сообщал он. – И это что-то подкатило комок к горлу». Со смерти кузена, о которой Винсент знал, прошло два месяца. И всего месяц назад он расчетливо задумал отправить безутешной вдове Мауве одну из своих картин только для того, чтобы привлечь внимание Терстеха. Но несколько проведенных в одиночестве недель и навязчивое стремление к мосту разбередили старые раны. В мае, в преддверии своего тридцать первого дня рождения, Тео задумал отправиться в Голландию и навестить мать и сестер, что вызвало у Винсента очередной приступ болезненных воспоминаний. Обратившись к давней семейной традиции, он написал картину в подарок ко дню рождения брата: фруктовый сад, выполненный в «доведенной до безумия пастозной технике». Винсент все время терзал себя, представляя, как в Голландии брат «в тот самый день увидит те самые деревья в цвету».
Винсент задумывал новый отчаянный план реабилитации и тем самым боролся с потоком охвативших его мыслей.
Он подолгу глядел на картины и рисунки, висевшие на стенах его номера, и постепенно стал представлять, как справится с призраками Голландии и положит конец своей бессрочной ссылке: один-единственный образ, который станет венцом их с братом дела в мансарде, скрепит дружбу с другими представителями новой школы и наконец убедит Терстеха, что он – истинный «импрессионист Малого бульвара».
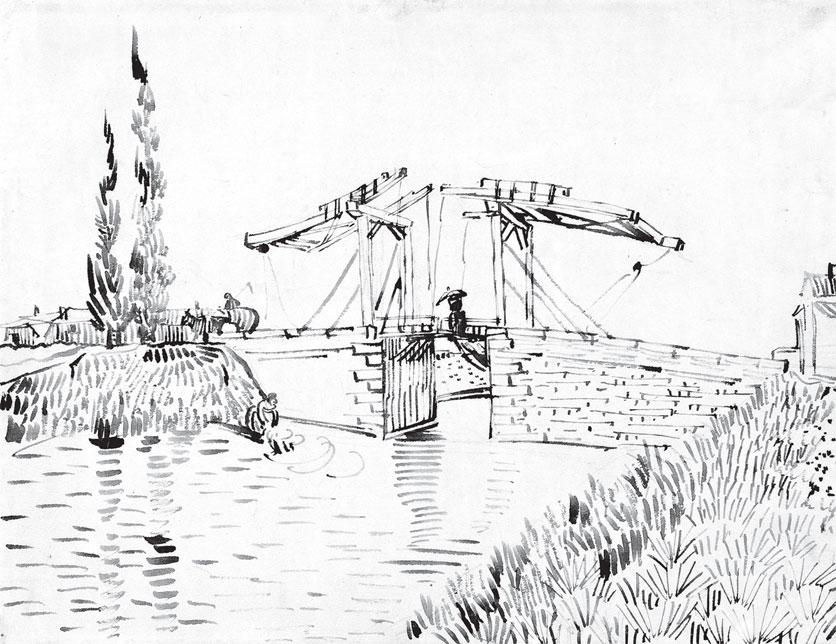
Женщина с зонтиком на разводном мосту. Перо, чернила, пастель. Май 1888. 61 × 31 см
Этим образом был мост Ланглуа.
Пылая решимостью, Винсент вернулся на столь знакомый берег канала. Оберегая большой холст от весеннего мистраля, он накладывал краски – будто ставил на место исполинские детали детской головоломки. «Я старался подобрать краски так, чтобы было похоже на витраж», – вторил Ван Гог клуазонистским взглядам Бернара. Он изобразил белую песчаную тропинку, пересекающую по диагонали весь холст, инкрустированную яркими фигурами прохожих. Прямоугольник голубого неба накрывал два огромных сиреневых основания, мерцающие в треугольнике изумрудной воды. Над ними, словно каллиграфическая композиция из деревянных элементов, высился мост. На горизонте огромное золотое солнце наполняло все вокруг стилизованными волнами белых и желтых лучей.
Только художник успел все скомпоновать и подготовить набросок для Бернара, как ветер пригнал дожди. Винсенту пришлось переместиться в свой номер, где, как он жаловался Тео, «окончательно испортил» свою картину, пытаясь работать по памяти. Неудача его не сломила, Винсент пробовал снова и снова. Когда и в апреле погода оказалась против него, он засел в номере и стал работать над копией самой первой из написанных им композиций с мостом Ланглуа. Но теперь художник заполнил уже знакомые очертания яркими призматическими цветами, которые освоил еще на улице Лепик. Холст буквально пылал от контрастов: охру Винсент заменил на красно-коричневый. Неровные берега канала из темно-коричневых с вкраплениями нежно-зеленого стали ярко-зелеными, тропическими. Подернутая рябью вода из небесно-голубой сделалась ультрамариновой; каменные основания из серых превратились в лавандовые, а сам мост поражал немыслимым ярко-желтым цветом.
Итог работы оказался невероятен: Винсент создал образ, наконец-то соединивший его новое искусство с неиссякаемым источником его вдохновения – прошлым. С самого начала Винсент знал, что создал что-то новое и исключительное – «нечто примечательное, – как он сам отзывался о картине, – непохожее на то, что я обычно делаю».
Безудержное желание взять реванш, которое когда-то довело его до края в Англии и почти до самоубийства в Антверпене, подстегнуло меркантильные планы художника. Он решил прибегнуть к фантастической схеме, которая позволила бы ему наводнить своими работами дома родственников и единомышленников в Голландии: одну он планировал сделать для сестры Вил, одну – для старого товарища Георга Хендрика Брейтнера, две – для музея Гааги, одну – для непреклонного Терстеха. «У него будет моя картина», – обещал Винсент самому себе. И этой картиной должен был стать «Мост Ланглуа». «Терстех не откажется от нее, – продолжал он убеждать самого себя. – Я уже все решил». Только эта работа стала бы достойной местью неприступному управляющему за все предыдущие отказы. Только эта картина могла исправить прошлое.
В приступе оптимизма он упаковал картину в ящик и отправил Тео. «Ей только нужна рама синяя с золотом, специально для нее сделанная». Он требовал к ней столь же особого отношения, как когда-то к «Едокам картофеля». «Теперь в нашем успехе можно не сомневаться».
И хотя его искусство стало более цельным, а амбиции выросли, жизнь Винсента продолжала разваливаться. Каким бы расчетливым дельцом он себя ни воображал, на самом деле практически ничего не изменилось. Его тщательно продуманные схемы так и не привели к продаже хотя бы одной картины. Рассел не купил ни одно из двух навязываемых ему полотен (одно – Монтичелли, одно – Гогена). Когда Тео отправлял в Гаагу произведения «новой школы» в ответ на просьбу Терстеха прислать «только те работы, которые вы сами считаете лучшими», среди них не оказалось ни Бернара, ни Рассела, несмотря на настойчивые советы Винсента.
С собственными работами Винсента дела обстояли не лучше. Старания Тео так ни к чему и не привели. Единственный коллекционер, выказавший интерес к работам его брата, так ничего и не купил. Картина, которую Тео отправлял Терстеху в апреле, вернулась непроданной в июне. Не было вестей и от лондонского торговца об отправленном ему автопортрете. Три работы, выставлявшиеся в рамках Салона Независимых в марте и апреле (два вида Монмартра и натюрморт «Парижские романы»), чуть было не оказались среди мусора: когда выставка закончилась, Тео был в отъезде и не мог их забрать. Ему пришлось срочно просить молодого голландца Конинга (поселившегося в квартире на улице Лепик) забрать картины, пока их не увезли. Винсент даже не мог уговорить кого-либо из художников обменяться с ним работами. Сёра, Писсарро, Рассел, Гоген, Бернар, даже бесталанный Конинг – никто из них не воспользовался этой возможностью, несмотря на настойчивые предложения Винсента.
Если в этом темном царстве и был луч света, то он еле брезжил. Только один обозреватель выставки Независимых Гюстав Кан заметил пейзажи и натюрморт «м. Ван Гога». Так работы Винсента впервые обратили на себя внимание критика. О пейзажах Кан написал, что художник «не проявляет достаточного интереса к значению и точности используемых тонов». А «Парижские романы» описал как «полихромное нагромождение книг» и пренебрежительно счел «отличной идеей для этюда, но недостаточной для картины».
Месяцы шли, а успех не приходил ни к делу братьев, ни к творчеству Винсента. И это снова вернуло ему тяжесть вины, заставившей его покинуть Париж. На пыльных улицах Арля деньги Тео испарялись так же быстро и необъяснимо, как и в болотах Дренте. Несмотря на все обещания Винсента, переезд в Прованс к экономии не привел. «Что за невезенье! – писал он вскоре после прибытия. – Тратить здесь меньше, чем в Париже, не получается». Тео не только отправлял ему 150 франков ежемесячно (во времена, когда учитель в месяц получал 75), но и обеспечивал немалый запас красок и холстов и брал на себя прочие траты Винсента, когда тот жаловался, что оказался sans le sou.
Очень скоро Винсент опять принялся за старое, то есть начал выдумывать оправдания чрезмерным тратам, сопровождая их щедрыми обещаниями неизбежного успеха, как делал это раньше, на родных просторах. «Я должен достичь того уровня, когда картины будут покрывать расходы, – заявлял он в апреле, – и даже больше, если учесть прошлые траты. Но это придет. Пусть не все получается, я это признаю́, но я над этим работаю». Привычка без конца просить и обещать подрывала его уверенность в себе. После нескольких недель активной работы во фруктовых садах Винсент признался, что он сам «не слишком высокого мнения о своих картинах», и предложил переместиться из Арля в Марсель, чтобы больше заниматься торговлей, нежели живописью. В ожидании переезда он даже купил новые ботинки и одежду и стал увещевать Тео: «Ради успеха задуманного мною предприятия я должен производить хорошее впечатление».
В то же время идея переезда пролила свет на возрастающую напряженность в отношениях Винсента с соседями. Более того, взаимная настороженность перешла в открытое противостояние. Одержимый паранойей, Ван Гог постоянно обвинял арлезианцев в попытках мешать ему и тянуть из него деньги при любой возможности: «Они просто считают себя обязанными выжимать из чужаков все соки». Винсент обвинял продавцов в том, что те берут с него слишком много, поваров – что делают все ему назло, служащих – что обманывают, а чиновников – в том, что намеренно вводят его в заблуждение. Если он пытался возражать («С моей стороны было бы проявлением слабости позволить на себе наживаться»), то обнаруживал, что они совершенно не реагируют на его жалобы. «Безразличие и разгильдяйство этих людей не вписываются ни в какие рамки», – негодовал он. Естественно, ничто так не раздражало Винсента, как пренебрежение, хотя он и признавал, что в пылу спора, бывало, мог выпалить что-нибудь со зла или по глупости. В своих письмах к Тео он крайне презрительно и язвительно отзывался о местных жителях, называя их «занудами», «лодырями», «дармоедами» и «свиньями». Даже арлезианские проститутки потеряли свою привлекательность в глазах Винсента, и это грозило тем, что он может лишиться самого верного и доступного источника общения и утешения, после алкоголя. Он называл их «потасканными» и «отупевшими» и, как и сам город, «упадочными». Каждый раз отдавая проституткам или лавочникам хоть одно су, он горько жаловался на то, что «деньги уплывают в руки людей, которые ему противны».
К концу весны отцвели последние деревья, а жизнь Винсента превратилась в череду ожесточенных стычек. Он ссорился и с книготорговцами, и с хозяевами борделей, и с бакалейщиком, что снабжал его красками и холстами, и с почтовыми служащими из-за нестандартных посылок в Париж и взимаемых сборов. Он ругался с рестораторами, когда они отказывались готовить еду для его слабого желудка, и с местной ребятней, что постоянно дразнила его.
Но больше всего Винсент ссорился со своим домовладельцем. Каждый раз на новом месте он начинал с хозяином войну: кто быстрее сдастся. В Арле он обрушил все свое бешенство на Альбера Карреля, владельца гостиницы, где снимал комнату. Винсент постоянно жаловался на отвратительную еду и на «неизменную отраву», которой вместо вина потчевал ресторан на первом этаже, на холод и на «рассадник микробов» в туалете наверху. Он обвинял Карреля в том, что тот все время пытался над ним как-нибудь гадко «подшутить». «Гостиничные дрязги губительны и ужасно на мне сказываются», – писал он Тео. Несмотря на постоянные ссоры с постояльцем, Каррель организовал для Винсента закрытую террасу, где бы тот мог сушить картины и использовать ее в качестве мастерской в плохую погоду. Но когда хозяин гостиницы попытался взять с Ван Гога дополнительную плату за новое помещение, последний стал возражать и счел это дополнительной причиной для поиска нового жилья.
Чувствуя себя отвергнутым и со всех сторон окруженным врагами, Винсент начинал чувствовать, как его большое южное приключение превращается в очередную неудачу спустя всего два месяца после старта. «Я вижу, какими трудностями грозит будущее, и подчас задаюсь вопросом: под силу ли мне все это?» Как и прежде, Винсент постоянно размышлял над своими неудачами. Он смотрел на себя в зеркало и писал теряющего молодость тридцатипятилетнего человека, с морщинами и тусклыми волосами, «безразличного и одеревенелого… опустившегося и несчастного». Взволнованный перепиской с Бернаром о христианских сюжетах, расстроенный новостями из Парижа об очередной болезни Тео и обеспокоенный отказами Терстеха, Винсент обратил свои мысли к самым мрачным темам – «смерти и бессмертию».
Это была прямая дорога к меланхолии. «Одиночество, тревоги, трудности, неудовлетворенная потребность в дружбе и симпатии – все это трудно вынести», – изливал он Тео свое отчаяние в попытке приободрить страдающего от болезни брата. «Снедающая душу печаль или разочарование даже больше, чем распущенность, подтачивают нас, счастливых обладателей надорванных сердец».
Винсенту, давно отрекшемуся от «заразной глупости» религии, оставалось лишь одно утешение. Он ухватился за возможность перерождения – искупления, которое сулило искусство. Винсент и раньше часто прибегал к этому средству, особенно в моменты кризиса. По его словам, только искусство «помогает нам создавать более возвышенный и более умиротворяющий образ природы». Вдохновляясь рассуждениями Золя в романе «Творчество» и собственными ранними попытками прикоснуться к возвышенному «оно», Винсент пришел к новому ви́дению будущего искусства – ви́дению, которое, как христианство, обещало превратить его беды в добровольную жертву, а страдания в мученичество. Всех, с кем он состоял в переписке, он уверял в грядущей «революции» в искусстве и объявлял себя и других художников мансарды ее авангардом. «Раз мы верим в новое искусство и художников будущего», – писал он Тео, —
наша вера нас не обманет. За несколько дней до смерти старина Коро сказал: «Ночью мне снились пейзажи, где все небо розовое». Но разве в пейзажах импрессионистов небо не стало розовым и даже желтым и зеленым? Это доказывает, что порой наши предчувствия сбываются.
Винсент придумал модель искупления и возрождения, которая совмещала в себе утешительные перспективы старой веры и волнующие обещания нового искусства, – концепцию полного перерождения в духе Мишле, возвышающую «художников Малого бульвара» и оправдывающую болезненную тоску по потерянному эдему в искусстве и в собственной жизни. Прошлое должно было вернуться, но вернуться очищенным и доведенным до совершенства новым пониманием цвета и более глубоким видением истины.
В конце апреля 1888 г. произошли два события, которые побудили Винсента превратить его отчаянную иллюзию в реальность – «внушить ее человечеству», как писал Мопассан. Первым стало письмо от Бернара, в котором он хвастался покупкой дома в Сен-Бриаке на побережье Бретани. И практически в то же время очередная ссора с хозяином привела его к необходимости спешно искать новое жилье в недружелюбном городе, хотя прежде он и подумывал о переезде в Марсель. Всего в нескольких кварталах к северу от гостиницы «Каррель», в дальней части городского парка, который он часто проходил мимо, направляясь за город, он увидел обветшалый дом – «заколоченный и давно пустующий». Стены дома были выкрашены желтой краской.
Глава 31
Le Paradou
Четыре комнаты, которые Винсент снял, вряд ли были воплощением его мечты. Они занимали два этажа в доме в северо-восточном углу площади Ламартин, у треугольного парка в северной части Арля, между старой городской стеной и вокзалом. Дом давно уже никто не снимал, даже несмотря на привлекательную цену в пятнадцать франков в месяц. Годы запустения отбелили его желтую штукатурку до кремовой, а зеленые ставни превратились в эвкалиптово-серые.
Это был даже не дом, а странный фрагмент здания, втиснутый в трапециевидный участок на углу. Два одинаковых фронтона, выходящие на парк, маскировали неодинаковые части строения: широкую и просторную слева – там располагалась продуктовая лавка, и узкую и тесную справа – ее и арендовал Винсент. И именно правая часть принимала на себя шум и пыль оживленной авеню Монмажур, на которую выходил восточный фасад дома. Планировка помещений была запутанной: на первом этаже размещалась только одна большая комната и примыкающая к ней кухня, на втором этаже – две крошечные спальни, туда вели общая лестница и общий коридор. Окна всех помещений, кроме кухни, выходили на юг, и ни в одной из них не было сквозной вентиляции – залог мучительной жары летом, особенно на втором этаже, и невыносимой духоты зимой. Ни в одной из комнат не было ни отопления, ни газа, ни электричества. Ванной тоже не было. Ближайшие удобства – грязный общественный туалет в соседней гостинице.
Район не располагал к прогулкам ни в какое время суток. Примыкающая гостиница и круглосуточное кафе по соседству постоянно наполняли улицы гуляками, пьяницами и бродягами. Вокзал принимал и отправлял поезда, которые, гремя и визжа, проходили по эстакаде в каких-то тридцати метрах от дома. Возле дома росли лишь несколько хилых деревьев – они были слабой защитой от палящего солнца и никак не спасали от удушающей пыли. По ночам темные фигуры шуршали ветками и стонали в кустах – здесь утоляли свой сексуальный голод многочисленные посетители квартала борделей, что располагался с другой стороны парка. Сочетание непривлекательных помещений, уличного шума и подозрительной славы, которой пользовался район, долгое время отпугивало разумных арендаторов. Для местных жителей, приходящих сюда, чтобы отправить письмо, купить продуктов или поблудить ночью в парке, угловая квартира в доме номер 2 на площади Ламартин уже не существовала – она пала жертвой запустения и вандализма, обреченная на разрушение, которое постигло ее пятьюдесятью годами позже, когда бомба союзников сровняла ее с землей.
Однако Винсенту его новое жилище казалось райским местом. Там, где другие видели лишь отваливавшуюся штукатурку, грубый кирпичный пол и непригодные для жизни комнаты, он разглядел спокойное, словно церковь, место. «Здесь я могу жить и дышать, думать и рисовать», – писал он. Неприятный район виделся ему Эдемским садом, где зелень всегда сочна, а небо над головой «пронзительно-голубое». Пыльный парк он счел «восхитительным преимуществом новой студии» и хвастался сестре Вил, что его окна «выходят на прекрасный городской сад, где по утрам можно наблюдать рассвет». Он не замечал ни упадка, ни разврата, а видел лишь карикатуры Домье, сцены из романов Флобера, пейзажи Моне и «совершеннейшего Золя» в завсегдатаях круглосуточного кафе.
Там, где остальные видели уродливую развалюху, он нашел дом. «Чувствую, что сумею сделать из него нечто долговечное, такое, чем смогут воспользоваться и другие», – писал он Тео об охватившем его предвкушении. «Теперь я чувствую твердую почву под своими ногами, а потому – вперед!» Гоген позже отметил, что Винсент нашел «дом своей мечты».
Не дожидаясь одобрения Тео, Винсент подписал договор аренды и приступил к дорогостоящему проекту возвращения заброшенного дома к жизни. Он отремонтировал внутреннюю часть и перекрасил внешнюю. «Желтый, как свежее масло, с ослепительно-зелеными ставнями», – сообщал он Вил в сентябрьском письме. Винсент починил двери, провел газ – другими словами, немало потратился, чтобы вновь сделать дом обитаемым, при этом постоянно жалуясь брату на бедность. (Тео он сказал, что хозяин согласился взять на себя расходы на ремонт.) Стремясь переехать как можно скорее, он перенес свою мастерскую из гостиницы «Каррель» в комнату на первом этаже.

Желтый дом, Арль
Но когда Винсент потребовал соответствующего снижения арендной платы в гостинице, Альбер Каррель стал возражать, что привело к бурной ссоре. («Я обманут!» – возмущался Винсент.) Постоялец был вынужден выкупить оставшиеся у Карреля вещи (тот забрал их, когда Винсент отказался оплачивать счет) и снять комнату над ночным кафе неподалеку. Спор с хозяином гостиницы Винсент перенес в местный магистрат, задав тем самым враждебный тон, который впоследствии испортит отношения и с новыми соседями.
Но никакие злоключения не могли погасить маяк, которым стал для художника Желтый дом. Перспектива постоянной мастерской оживила самую старую и самую главную мечту – об артистическом товариществе. Для Винсента дом всегда означал конец одиночества. Еще в ноябре 1881 г. он звал Антона ван Раппарда приехать в Эттен, чтобы разделить его патриотический пыл и присоединиться к охоте за «брабантскими типами». «Я иду в определенном направлении и не довольствуюсь этим, но хочу, чтобы и другие следовали за мной!» В Гааге Винсент строил планы по превращению мастерской на Схенквег в «дом иллюстраторов», где к нему присоединились бы другие художники-графики (и достаточное количество моделей), как это было в лучшие времена газеты «The Graphic». В Дренте он мечтал создать мастерскую на пустоши, где «могла бы расцвести колония художников». В Нюэнене утешался мыслями о том, что мастерская на улице Керкстрат станет «pied-à-terre» – оплотом для учеников Милле, увлеченных изображением крестьян. О том, чтобы «основать мастерскую», где он мог бы работать совместно с другими художниками, Винсент подумывал даже во время краткого, но насыщенного пребывания в Антверпене. В Париже он предложил «разделить кров и мастерскую, пока я ими располагаю», своему соученику по Антверпенской академии Орасу Ливенсу, которого едва знал.

Площадь Ламартин, Арль
С той же идеей создания художнической семьи Винсент прибыл в Арль. Разлученный с братом и с другими «художниками Малого бульвара», он еще больше жаждал найти компанию, но вечно терпел неудачу. «Мне хочется обзавестись убежищем, – писал он Тео после прибытия, – где несчастные парижские клячи – вроде тебя и некоторых наших друзей, бедных импрессионистов, – могли бы попастись, когда окончательно изнемогут».
Всю весну, страдая от одиночества, отчужденности и изнуряющих приступов ностальгии, Винсент в мыслях возвращался к идее семейственности. Он с удовольствием перебирал в памяти пережитые моменты («Мы с Раппардом частенько прогуливались вместе») и размышлял о былых неудачах («Я долго твердил себе: „В Гааге и Нюэнене ты уже снимал мастерскую и кончилось это плохо“»). И в один прекрасный день в середине апреля все обиды прошлого и устремления будущего сошлись в четырех комнатах в доме номер 2 на площади Ламартин.
«Я вполне мог бы с кем-нибудь разделить новую мастерскую, – объявил он в тот же день, когда подписал договор аренды. – И я бы этого хотел. Может, Гоген приедет на юг?»
Поль Гоген не был номером один в списке потенциальных компаньонов Винсента. Когда стало понятно, что из-за болезни брат не сможет к нему присоединиться, Винсент сначала обратился к девятнадцатилетнему Эмилю Бернару, самому сговорчивому из товарищей по улице Лепик. По-видимому, Винсент пригласил молодого живописца, еще будучи в Париже, и теперь снабжал его красноречивыми описаниями очарования арлезианок, местных красот и благотворного влияния жизни на юге. («Переселение на юг принесло бы, вероятно, ощутимую пользу многим художникам, влюбленным в солнце и цвет».) Он подчеркивал преимущества юга перед Бретанью, где Бернар снова планировал провести лето. («Я не тоскую по серому Северному морю», – едко парировал Винсент.)
Чтобы заманить друга-японофила, Винсент представил пыльные пейзажи Прованса в виде японских гравюр, сверкающих «пятнами чудесного изумруда, богатого синего в пейзажах» и «ослепительным желтым солнцем». Он отправлял рисунки и описания своих живописных полотен, которые откровенно рекламировали клуазонистскую природу Прованса. «Этот край прекрасен, как Япония, своей прозрачностью воздуха и радостным сочетанием красок».
Когда Бернар отказался (ссылаясь на свой военный долг в Северной Африке, который он так никогда и не исполнил), Винсент стал искать кого-то поближе к дому. С немногочисленными французскими художниками, работавшими в то время в Арле, отношения у него не сложились – то ли они его сторонились, то ли он сам их избегал. Какое-то время Винсент собирался пригласить датчанина Мурье-Петерсена, несмотря на «бесхребетное» искусство последнего и нежелание участвовать в частых походах Винсента в район борделей (или «на улицу добрых женщин», как тот ее называл). В марте, когда Мурье-Петерсен объявил о возвращении домой, Винсент обратил свои устремления на Доджа Мак-Найта, неотесанного американца, друга Рассела. Мак-Найт жил по соседству, в деревушке Фонвьей. «Он янки, – охарактеризовал его Винсент, – и возможно, рисует лучше большинства американцев, но янки все равно одинаковые».
Даже еще не видя работ Мак-Найта, Винсент уже подумывал о «некоем соглашении» с молодым человеком и о переселении того в Желтый дом. «Готовить тогда можно будет дома, – представлял он. – Я думаю, это будет хорошо для обоих». Однако, когда через неделю Винсент преодолел восемь километров и дошел до мастерской Мак-Найта в Фонвьей, эта перспектива (как и многие до нее) рассеялась, сменившись недовольством. Все лето Винсент называл своего американского соседа «сухарем», «простаком» и «халтурщиком», «бессердечным», «скучным» и «бесполезным». Из уважения к общему другу Джону Питеру Расселу они продолжали наносить друг другу визиты вежливости, во время которых Винсент был вынужден выслушивать критические замечания в адрес своих работ, которые затем уныло перечислял в письмах к Тео и сестре Вил: «Производит слишком странное впечатление», «полный провал», «просто отвратительно». В ответ Винсент высказал еще более резкое суждение об американском художнике: «[Мак-Найт] скоро будет писать пейзажи с овечками для конфетных коробок».
Союз с Полем Гогеном едва ли сулил что-то большее. В марте Винсент обвинял Гогена в том, что последнему «не хватает характера, который закалялся в трудностях», ставя под сомнение мужской и художественный темперамент коллеги. Комментарий относился к письму, внезапно полученному от Гогена, находившегося на тот момент в Понт-Авене, маленьком городке на побережье Бретани; Гоген сообщал, что болен и нуждается в деньгах. «Он пишет, что сидит без гроша, – передавал Винсент содержание письма Тео. – Хочет знать, не продал ли ты что-нибудь из его работ, а сам не может тебе написать – боится тебя побеспокоить». Винсент «глубоко сожалел о трудностях Гогена» и призывал Тео и Рассела приобрести что-нибудь из его работ. Винсент также отправил весьма участливый ответ в Понт-Авен (это было его первое письмо Гогену), в котором сокрушался о болезнях, преследовавших всех художников, словно проклятие («Черт побери, когда же наконец народится поколение художников, достаточно крепких физически?»), но при этом упорно не приглашал Гогена к себе, на благодатный юг. В свои сорок с лишним лет этот француз имел репутацию человека вспыльчивого, неприветливого и эгоистичного и не шел ни в какое сравнение с молодым и предупредительным Бернаром, общества которого так желал Винсент. Равно как и искусство Гогена, куда более зрелое, с его экзотическими сюжетами, не было столь привлекательным, сколь новая и пылкая доктрина цвета и простоты молодого художника, особенно после того, как в марте журнал «La Revue Indépendante» провозгласил клуазонизм венцом нового искусства.
Винсент пристально и ревностно следил за успехами Гогена в мансарде. Только в декабре и январе Тео купил работ Гогена почти на тысячу франков, в том числе написанное на Мартинике полотно «Негритянки», которое гордо висело над диваном в квартире на улице Лепик. Однако художники едва поддерживали связь после того, как в начале февраля Гоген покинул Париж. И когда он, заболев, отправлял письмо в Париж, он не знал, что Винсент переехал в Арль. Всего через неделю Гоген прислал еще одно горькое послание. «Жалуется на плохую погоду, пишет, что все еще болен, – передавал содержание Винсент. – И что из всех напастей, обрушивающихся на человечество, ни одна не бесит его больше, чем бедность, на которую он обречен пожизненно». Винсент переслал письмо Тео, вскользь посоветовав предложить Терстеху какую-нибудь работу Гогена, но не утруждал себя ответным посланием художнику на протяжении целого месяца.
Но когда Винсент наконец написал ответ, все радикально переменилось. Мурье-Петерсен сообщил о своем отъезде; отношения с Мак-Найтом двигались к неминуемой ссоре; Каррель, хозяин гостиницы, изъял все вещи Винсента. Бернар проигнорировал настойчивые увещевания и снял дом в Бретани, куда пригласил Гогена. Тео вернулся из поездки в Голландию и, хотя его здоровье было хуже некуда, сразу же запланировал визит к Моне в Живерни, где собирался предложить его импрессионистской светлости самую вкусную сделку в истории мансарды. «Ты там увидишь чудесные вещи, – писал отчаявшийся Винсент, – и будешь думать, что картины, которые я присылаю, сильно проигрывают в сравнении с ними».
В то же время солнце выжгло землю Прованса, летний мистраль засыпал все пылью. Мухи и комары превращали каждую поездку в пытку. Поля теряли цвет, сам Винсент – здоровье, а его кисть – уверенность. (Наступил май, а он так и не отправил ни одной работы в Париж.) Желтый дом остался единственным «лучом надежды» на мрачном горизонте. Увы, в попытке воплотить в реальность свои мечты о рае для художников Винсент загнал себя в ужасные долги, не сказав ни слова об этом Тео.
К середине мая 1888 г. Винсент убедил самого себя в том, что есть всего один человек, способный прервать эту череду неудач: нужно было, чтобы Поль Гоген приехал в Арль, – только это могло спасти мечту о доме для художников. «Может, мы как-то исправим прошлые ошибки, – грезил он. – И у меня будет свой тихий дом».
Винсент предпринял небывалые усилия, чтобы воплотить мечту в реальность. Как только дом на площади Ламартин засиял яркими красками, в его голове зародился куда более грандиозный план. На строительство величайшего воздушного замка в своей жизни Винсент потратил месяцы практически ежедневных уговоров. В начале лета 1888 г. он приступил к реализации своего замысла, соединив тщательные подсчеты (как в письмах в защиту Син и мастерской на Схенквег), отчаянные мольбы с призывами приехать (как те, что доносились из Дренте) и миссионерское красноречие (подобное тому, что он обрел на пустошах Нюэнена в период поклонения Милле), он все поставил на карту ради своего высокого идеала, личной и художественной утопии – рая искупления и перерождения, который сиял ярче, чем оштукатуренное и свежевыкрашенное материальное его воплощение.
Ван Гог отчаянно доказывал брату, что приезд Гогена будет коммерчески выгодным предприятием. Представляя свой план «простым деловым соглашением», Винсент составил проект бюджета, в котором учел свои домыслы, будто вдвоем жить будет дешевле и что такие работы Гогена, как «Негритянки», подорожают втрое или вчетверо. Если бы Тео погасил долги Гогена в Понт-Авене, оплатил его дорогу в Арль, добавил сто франков к ежемесячно высылаемому содержанию и потребовал у Поля присылать по работе в месяц, он, по мнению Винсента, мог не только вернуть затраченные деньги, но и «даже получить какую-то прибыль».
Он обещал Тео, что подобная схема окупится еще и за счет того, что союз с Гогеном привлечет других авангардных художников, благодаря чему дело братьев «укрепит позиции и репутацию». На волне успеха Гогена начнут продаваться и работы самого Винсента, как он считал, по крайней мере одна или две в месяц, а может быть, даже и четыре, по сто франков за штуку. «Рано или поздно труд возместит все расходы», – уверял он Тео, предсказывая скорый конец длительной и утомительной для всех зависимости. Винсенту даже представлялось, что приезд Гогена мог бы помочь заручиться наконец-то поддержкой вечного скептика Терстеха. «С ним [Гогеном], – предсказывал он, – во всяком случае, не пропадешь».
В конце мая он отослал приглашение:
Дружище Гоген,хочу сообщить тебе, что я только что снял здесь, в Арле, дом из четырех комнат. И мне кажется, если я найду еще одного художника, который имел бы желание работать на юге и, подобно мне, был бы настолько поглощен творчеством, что ограничил бы себя, подобно монаху, во всем, кроме посещения борделя пару раз в месяц… тогда все устроилось бы превосходно… мой брат сумел бы выкроить 250 фр. в месяц, которые мы бы поделили… Ты должен был бы отсылать ему по картине в месяц.
В дополнение к намекам на бордели с прекрасными арлезианками Винсент подсластил свое предложение комплиментами («Мы с братом высоко ценим твою живопись»), обещаниями солнечной погоды («Почти круглый год можно работать на воздухе») и оздоровления («Я приехал сюда больным, но сейчас чувствую себя гораздо лучше»), однако настаивал на том, что «дело прежде всего». «Брат не имеет возможности одновременно посылать деньги тебе в Бретань и поддерживать меня здесь, в Провансе» – таков был прямой ответ на мольбы Гогена о финансовой помощи. «[Но] если мы обоснуемся вдвоем, у нас хватит на жизнь. Я уверен». Наконец, Ван Гог предостерегал хитрого бывшего банкира от обращения напрямую к Тео в попытке выторговать условия получше. «Мы все тщательно взвесили, – подчеркивал он, – и единственное средство оказать тебе реальную помощь – объединиться».
Винсент отправил черновик письма в Париж, по всей видимости для одобрения Тео, что было проявлением невиданного смирения. Но, не дожидаясь ответа, он продолжал приводить доводы направо и налево. Захваченный своими мечтами, просвечивавшими сквозь сухую деловую логику, он представлял, как приезд Гогена станет не только коммерческой удачей, но и благом для творчества обоих художников. Он утверждал, что на юге «чувства обостряются, рука становится легче, глаз острее, а ум яснее». Он говорил о юге как об идеальном месте для всех настоящих «импрессионистов»: крае призматических цветов и прозрачного света, присущего японскому искусству; воплощению мечты любого современного художника; крае, который только и ждет, когда его перенесет на холст живописец, обладающий верой, амбициями и отвагой. С нарастающей горячностью Винсент, подобно Золя в «Творчестве», превратил свое приглашение в вызов всем художникам, ценящим японизм и признающим его влияние: «Почему бы всем не отправиться в Японию, вернее сказать, в места, подобные Японии, – на юг». Ощутив, как в юности, проповеднический пыл, Ван Гог уже видел рождение новой религии юга: «Есть искусство будущего, и оно будет таким прекрасным, таким юным… Я чувствую это так остро». Свои провидческие мечты художник облек в революционную риторику, призывая к жертвам во имя общего блага и утопического триумфа.
Винсент заверял Тео, что скоро художники из «грядущего поколения» «появятся в этом прекрасном крае и сделают для него то, что сделали для своей страны японцы». И эти художники поведут за собой революцию, для которой, по его собственному мнению, Винсент лишь «расчищал путь». «Я вовсе не горю жаждой славы настолько, чтобы все поставить ради этого на кон», – уверял он, но обещал, что подобный смельчак обязательно появится. И этого мессию нового искусства Винсент называл «Милым другом Юга» – «похожим на Ги де Мопассана, только в живописи», который «весело и беззаботно изобразил бы прекрасных жителей этих мест и красоты здешней природы». Он смог бы состязаться с Монтичелли в умении передать цвет, с Моне в искусстве писать пейзажи и с Роденом в скульптуре (все эти художники были звездами entresol). Винсент особенно подчеркивал, что этот художник будет «невиданным доселе колористом».
Он не называл будущего спасителя, но сравнение с мопассановским Жоржем Дюруа, хитрым, умным, сексуальным хищником, похожим на Октава Муре у Золя, было скрытым кодом для Тео. Подобное сравнение не только отсылало к великим французским писателям-реалистам, которые совершили переворот в литературе, но и тешило воображение отрадными картинами, сулящими коммерческий успех мансарде… а заодно эротические чудеса прекрасным арлезианкам. А еще оно совершенно безошибочно указывало на искушенного, амбициозного и хищного художника, который томился сейчас в Понт-Авене, больной и без гроша в кармане.
Как и все утопические замыслы Винсента, этот проект был связан и с прошлым, и с будущим. Вместе с Гогеном они должны были последовать примеру художественных «братств» прошлого: от средневековых гильдий художников, члены которых «любили друг друга как братья», до голландцев Золотого века, «хваливших и ободрявших друг друга»; от авторов и художников газеты «The Graphic», работавших плечом к плечу в своих мастерских, создавая «нечто священное, нечто благородное, нечто возвышенное», до барбизонцев, устроивших не просто колонию художников, но благородное сообщество родственных душ, готовых поделиться друг с другом «своим теплом, своим пылом и своим энтузиазмом».
На мечту Винсента о потерянном рае наложился модный в то время миф о братстве японских монахов-буддистов, известных как бонзы. Винсент читал об этих экзотических религиозных братствах как в серьезных источниках (в «Японском искусстве» Гонза), так и в модных книжках вроде «Мадам Хризантемы» Пьера Лоти – обильно сдобренного фантазией повествования о путешествии в Японию. Теперь Винсент представлял сближение с Гогеном как союз жрецов высшей идеи, отрекшихся от себя, готовых «любить и поддерживать друг друга», живущих в «братском единстве, где царит гармония». Сравнивая мистический Союз бонз с Союзом братства общинной жизни, колонии которого процветали на голландских пустошах, Винсент призывал Гогена к монашеской жизни с «холодной водой, свежим воздухом, простой и здоровой пищей, скромной одеждой, крепким сном» – такую жизнь более десяти лет назад они вели с Гарри Глэдвеллом в мансарде на Монмартре.
Винсент мечтал о том, чтобы в будущем привлечь в Желтый дом не только Гогена, но и всех бедствующих художников авангарда – всех «бедняг, чей дом – дешевые кафе и гостиницы, изо дня в день перебивающихся с хлеба на воду». От имени всех художников, «что влачат жалкое существование, подобно бездомным псам», Винсент вещал о смысле новой миссии. Если Тео действительно поддерживал «смелые начинания импрессионистов», он был обязан, по мнению старшего брата, позаботиться, «чтобы у художников были крыша над головой и хлеб насущный». Воскрешая в памяти фантазию о столовой для бедных в его квартире на Схенквег, Винсент представлял, как сможет помочь всем бездомным «ломовым лошадям» Парижа, которые, как и он сам, страдали за искусство.
Мы платим высокую цену за то, чтобы быть звеном в цепи художников; и мы платим своим здоровьем, молодостью и свободой, которой мы наслаждаемся не в большей степени, чем извозчичья кляча, везущая людей за город наслаждаться весной… Сознавая, что ты и есть та извозчичья кляча, которой придется впрягаться в ту же старую повозку. А ты хочешь жить на залитом солнцем лугу, у реки, вместе с другими, такими же свободными, как ты, лошадями, быть, как они, свободным и плодовитым.
Разумеется, такое представление о «пастбище» для отвергнутых художников полностью соответствовало давнему стремлению Винсента создать союз творцов, где успешное меньшинство будет поддерживать обделенное большинство. Почему художники должны быть «привязаны к необходимости зарабатывать на хлеб», вопрошал он, распространяя собственное ощущение неволи на всех «художников Малого бульвара», ведь это «означает, что на самом деле никакой свободы и нет». Он призывал Тео вступить в борьбу с этой вопиющей несправедливостью и возглавить новое общество художников – объединение, где «торговец протягивает руку художнику, берет на себя повседневные заботы, обеспечивает мастерской, едой, красками и т. д., а художник посвящает себя творчеству». Уговаривая брата взять на себя заботу о страдающих товарищах, Винсент обретал столь необходимый ему покой. Превращая свою долгую зависимость от Тео в моральное право всех страдающих художников, а годы поддержки, получаемой от брата, – в утопическую обязанность всех успешных торговцев (и художников тоже), Винсент сам избавлялся от глубинного чувства вины, трансформировал его в райское видение о Желтом доме.
Надежда на искупление была столь сильной, что возможность неудачи вела к размышлениям о самом страшном: болезни, помешательстве и даже смерти – предвестию будущего, которое Винсент не мог бы пожелать. Но на тот момент лихорадочное ожидание приезда Гогена уносило Винсента в будущее радужное, не омраченное никакими сомнениями. «Мечты, ах эти мечты! – вспоминал позднее Бернар полные фантазий письма Ван Гога (он тоже получал их весной 1888 г.). – Гигантские выставки, филантропические фаланстеры художников, основание колоний на юге».
В июне все эти мечты выплеснулись на холст. Пытаясь придать весомость своим доводам, Винсент вступил в самую продуктивную, самую убедительную и самую важную творческую стадию. Настойчивые приглашения в Дренте он сопровождал журнальными иллюстрациями на тему жизни в краю болот. В Нюэнене он защищал свой крестьянский быт, твердя, словно заклинание, имена Милле и Израэлса. В Провансе после двух лет работы с новым цветом и в новой живописной манере он отстаивал свои планы на Желтый дом при помощи картин, составивших впоследствии славу западного искусства.
Соленые брызги Средиземного моря били прямо в лицо. Винсент закончил рисунок четырех рыбацких лодок на берегу, у самой кромки воды. Он приехал в старинный городок Сент-Мари-де-ла-Мер в конце мая, преодолев почти полсотни километров в дилижансе с большими колесами, «просто чтобы посмотреть на синее море и синее небо». «Наконец-то я увидел Средиземное море», – ликовал он. Борясь с яростными ветрами из самой Африки, Винсент пытался запечатлеть, как утлые лодчонки преодолевают волны. Но в итоге почти все пять дней в Сент-Мари он провел, бродя по ослепительно-белой деревушке, зарисовывая аккуратные ряды местных домиков – cabanes, «выбеленных сверху донизу, даже с белой крышей».
Мысли легко переносили Винсента в прошлое. Море напоминало о дяде Яне – адмирале, дюны – о Схевенингене, а домики – о лачугах в Дренте. Те же призраки былого отвлекали его внимание от зубчатых стен собора, притягивавшего толпы паломников и давшего имя городку. Согласно провансальской легенде, после чудесного путешествия именно сюда прибыли из Святой земли три Марии, в том числе Мария Магдалина. Каждый год в конце мая сотни паломников проделывали непростой путь по соленым топям Камарга, чтобы принять участие в праздновании Дня святой Сары, служанки, сопровождавшей Марий на их чудесном корабле. В основном съезжались цыгане, которые сделали темнокожую Сару своей покровительницей. И скорее всего, Винсент отправился в Сент-Мари вместо Марселя, в котором обещал побывать, под впечатлением от разноцветных повозок пылких цыган, собравшихся здесь на ежегодное празднование всего несколькими днями ранее.
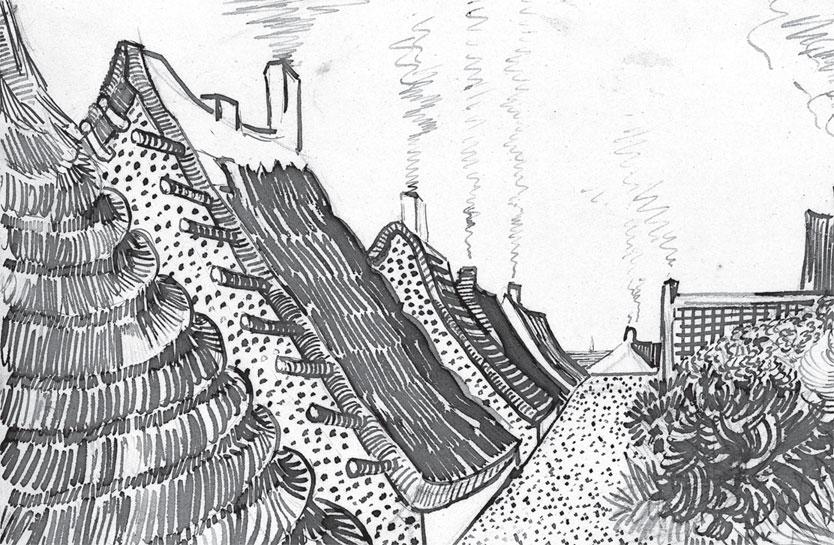
Улица в Сент-Мари. Перо, чернила. Июнь 1888. 30,5 × 47 см
Но после прибытия в Сент-Мари Винсент не мог отвести взгляда от лодок на пляже. Каждое утро он шел на берег и смотрел на них: «Маленькие лодки, зеленые, красные, синие, очаровательные по форме и цвету, похожие на цветы». Но каждый раз они выходили в море еще до того, как он успевал приступить к работе. «Они спешат уйти, пока не поднялся ветер, – объяснял он Бернару, – и возвращаются, когда он уже слишком сильный». На пятое утро Винсент встал рано и бросился на пляж, прихватив с собой лишь блокнот и перо. Он застал несколько лодок, которые еще отдыхали на песке в ожидании новой битвы с волнами – так же спокойно и покорно, как парижские ломовые лошади. Работая без перспективной рамки, он зарисовал их одинокую величавость: одна на переднем плане, остальные три выстроились в неровный ряд следом за первой; их мачты топорщились в разные стороны, как ветви подстриженных берез в Нюэнене, а части такелажа перекрещивались под самыми невероятными углами. Еще до того, как к ним вернулись хозяева, Винсент успел сделать пометки о цветах прямо на наброске.
В тот же день художник уехал, неожиданно прервав пребывание на побережье после непонятного визита кюре и местного жандарма. (Можно предположить, что Винсент обратился с просьбой позировать к местным жителям – или даже жительницам, которых он сравнивал с произведениями «Чимабуэ и Джотто: тонкие, прямые фигуры, немного печальные и мистические», что обеспокоило местных жителей и побудило обратиться к представителям власти.) Он вернулся домой через дебри Камарга, оставив в Сент-Мари все три написанных там полотна: как он объяснял Тео, «они еще не подсохли настолько, чтобы выдержать пять часов тряски в экипаже». За ними он так и не вернулся.
Зато рисунки Винсент забрал. Возвратившись в Желтый дом, он отправил Тео целую пачку, а оставшиеся, в том числе «Лодки на берегу», отнес в мастерскую, где принялся превращать их в живописные полотна. Для начала художник поработал с отмеченными в блокноте цветами, опробовав их в акварели того же размера, что и набросок (39,5 × 53,5 см). Винсент целиком и полностью пренебрег всеми уроками Мауве, некогда преподававшего ему науку рисования в цвете, и жирно обвел тростниковым пером контуры лодок. Пространство между линиями заполнил ровными мазками светлых, прозрачных цветов: дополнительных красного и зеленого для лодок, оранжевого для песка и синего для всего остального пейзажа. И наконец он перенес свои храбрые лодочки на левую часть холста большего размера (65 × 81 см), оставив справа и сверху место для моря и неба. Винсент составил изображение из плоскостей чистых и ярких цветов: бордово-кобальтовый корпус с серо-зеленым бортиком, темно-зеленый нос с оранжевым бортиком, зеленая, цвета авокадо, скамья и белые ребра, желтая мачта, лазоревый руль, бледно-голубые весла, и целая радуга разноцветных снастей.
Но к тому моменту, когда Винсент закончил писать небо и море, его восприятие полностью изменилось. Вместо того чтобы поместить свои самоцветные лодки на контрастирующий синий и оранжевый фон, он перенес их в мягкий и мечтательный мир – мир сверкающего неба и серебристого света, который непременно узнали бы Мауве и Моне. Белые облака растворялись в мазках нежно-голубых и зеленых оттенков, простираясь сияющим небосводом над острыми мачтами. Цвет пляжа переходил от насыщенного бежево-золотого на переднем плане, там, где отдыхают лодки, в ярко-бронзовый вдалеке. Волны с белыми «барашками» окрашивали мокрый песок в лиловый цвет. На горизонте небо сливалось с морем в синем объятии, переливающемся тонами бледно-голубого и морской волны. Изображенные на фоне этого мягкого утреннего света лодки, сиявшие контрастами чистых цветов, готовы были, казалось, вырваться из плоскости полотна.
Винсент утверждал, что «Рыбацкие лодки на пляже» и другие картины, написанные по наброскам из Сент-Мари, – яркие книжки-раскраски – были доказательством того, что он обрел на юге Франции свою «настоящую Японию». «Я все время говорю самому себе, что здесь я в настоящей Японии, – восклицал он. – Достаточно лишь открыть глаза и писать то, что я вижу прямо перед собой». Ван Гог писал Бернару и Гогену, нахваливая побережье и его «занятные мотивы», «наивные пейзажи» и «примитивный колорит». Он заявлял о приверженности новой доктрине клуазонизма, которую определял как «упрощение в духе японцев», которого они добиваются, «располагая плоские пятна одно рядом с другим и схематично намечая движение и формы характерными линиями».
Винсент с восторгом рассказывал Тео о том, как легко будет продать «Лодки» и другие подобные работы, сравнивая их с японскими гравюрами и считая столь же привлекательными для «украшения домов буржуа». В выражениях, подобных тем, что когда-то использовал Моне, рекламируя свою антибскую серию (ее как раз в это время выставляли в мансарде), Винсент утверждал, будто короткое время, проведенное им на юге, позволило ему обрести новое видение. «Теперь я вижу вещи на японский манер, – писал он, – иначе чувствую цвет». И действительно, разве сам Моне не написал картину с четырьмя яркими лодками на берегу? Винсент приводил эти и прочие доводы, чтобы брат убедил других торговцев «тоже отправлять художников, чтобы они работали здесь. Мне кажется, в таком случае Гоген точно приедет».
Винсент отправил похожие воззвания Бернару и Гогену, невзирая на возражения первого и нерешительность последнего. «Осознаешь ли ты, что мы – Гоген, ты и я – поступили очень глупо, не поехав вместе в одно и то же место?» – упрекал он Бернара в середине июня. Чуть позже в очередном письме он пытался донести до своих друзей ту же мысль, зашифровав ее в наброске четырех лодок. «Жизнь проносится так быстро, что мы не успеваем ни разговаривать, ни работать. Потому, пока мы так разобщены, мы словно носимся по неизведанным водам нашего времени в своих утлых лодчонках».
Но главное приглашение всегда было адресовано Тео. «Мне бы очень хотелось, чтобы и ты немного пожил здесь», – писал Винсент брату после возвращения из Сент-Мари. «Мне кажется, что тебе стоит снова как можно глубже погрузиться в природу и мир художников». Как во времена жизни в Дренте, Винсент уговаривал Тео бросить работу в «Гупиле» или, по крайней мере, потребовать «отпуск на год (с полным сохранением жалованья)», чтобы он мог поправить здоровье и «раствориться» в спокойствии юга. «Куда бы я ни шел, я все время думаю о тебе, Гогене и Бернаре, – писал он. – Здесь так красиво, и мне всех вас очень не хватает».
Охваченный мечтами, Винсент вернулся к холсту и крупными буквами написал на одной из лодок: «AMITIÉ» («Дружба»). Затем на пустующей глади синих волн он написал четыре маленькие лодочки, дружно устремившиеся в бескрайнее море; ветер раздувал их паруса, а впереди их ожидала глянцевая морская гладь.
Всего неделю спустя Винсент отправился на север, к Тараскону, родине Тартарена, легендарного шута из произведения Доде. Дорога пролегала вблизи знаменитых руин церкви аббатства Монмажур, циклопического сооружения из известняка, вознесшегося на сорок пять метров над дельтой Роны. Бо́льшую часть своей истории аббатство Монмажур высилось словно неприступный скалистый остров, омываемый водами Средиземного моря. В VI в. христиане укрылись здесь от опасности и в знак благодарности за спасение высекли на вершине холма первый суровый храм из скальной породы. Последующие поколения монахов за годы служения постепенно превратили его в византийскую капеллу, ее – в средневековую крепость, крепость – в ренессансный монастырь, а в XVIII в. – в укрепленный дворец с садами. После революции все здесь пришло в запустение.
Разведав наименее крутую дорогу, к середине лета 1888 г. Винсент не раз посетил скалистую вершину холма с руинами аббатства Монмажур. Проведя всю жизнь на равнинах, он восхищался великолепным видом, который открывался с башни аббатства на юг, в сторону Арля и равнины Ла-Кро. Здесь, у подножия гор, Рона оставляла самую плодородную почву, унося соляные отложения к югу, в Камарг. В начале XIX в. проект осушения на голландский манер позволил возделывать землю Ла-Кро, каменистую, но пригодную для сельского хозяйства, особенно для виноградников. Результатом стал живописнейший вид: известняковые островки и крошечные деревушки, затерявшиеся среди полей и утопающие в зелени. В середине мая, когда Тео предложил Винсенту прислать несколько работ для выставки в Амстердаме, тот сразу же подумал об этом открывавшемся с высоты виде. За неделю Винсент сделал семь тщательных рисунков фиолетовыми чернилами, в том числе четыре широкие панорамы Ла-Кро. Но уже спустя несколько дней увлечение этими видами сменилось жаждой «японских» цветов, которая и увлекла художника в Сент-Мари в конце мая.
Но к моменту возвращения в середине июня спор о Желтом доме изменил свое направление, и нетерпеливый взгляд Винсента обратился в другую сторону. Прибыв в Сент-Мари, он узнал, что его однокурсника по студии Кормона Луи Анкетена журнал «La Revue Indépendante» назвал «лидером нового направления, в котором отчетливо проявилось влияние японского искусства». А вскоре после этого Винсент услышал о еще более завидном достижении: Анкетен продал картину. Покупателем стал Джордж Томас, который давно являлся объектом коммерческих интересов Винсента, а проданной работой был этюд «Крестьянин».
Хотя Винсент и подвергал сомнению лидерство Анкетена (он считал, что его молодой протеже Бернар «в подражании японцам заходит, пожалуй, подальше, чем Анкетен»), с продажей картины было не поспорить – этим ни он, ни Бернар похвастать не могли. Теперь Анкетен, как новопровозглашенный лидер движения, задавал тон. Через несколько недель Гоген сообщил Тео, что работает над картиной «с тремя маленькими девочками, танцующими бретонский гавот». До конца лета Бернар должен был приехать к Гогену в Понт-Авен, тоже намереваясь писать жителей этой скалистой и необычной провинции ровно на другом конце Франции. Примерно в то же время Тео вернулся из Живерни с восхищенными рассказами об увиденных им в мастерской Моне великолепных пейзажах, передающих эффект ускользающего света и уходящего лета в окрестностях Иль-де-Франс.
Тогда же, в июне, Винсент прочитал отзыв о выставке антибской серии Моне в галерее Тео. Критик не скупился на похвалы, восхищаясь «близостью» Моне к природе, и хвалил его за умелую и легкую передачу естественной красоты южного побережья Франции в Антибе, которое он сумел воспеть в своих полотнах так же, как прежде северное побережье в Бель-Иль. Объявив Моне «поэтом и историком юга», а также преемником Милле и Коро в возвращении сельской жизни на должное место в искусстве, он призывал соотечественников принять поэтичность своей страны. Зачем обращаться к тихоокеанским островам или древним цивилизациям для поиска «примитивных» образов, когда в самой Франции все еще есть нетронутые райские уголки?
Пока Винсент был в Сент-Мари, автор этого отзыва Гюстав Жеффруа написал письмо Тео, в котором выразил заинтересованность в покупке одной из работ Винсента.
В статье и в предложении Жеффруа, в выборе темы полотна Анкетеном и в сообщениях о новых образах из Парижа, Понт-Авена и Живерни Винсент увидел новые возможности реализовать свою мечту о Желтом доме. Его письма и работы изобиловали доводами в свою пользу: никто, по уверениям Винсента, лучше его не понимал природу «во всех ее тонкостях» и не любил так сильно сельскую жизнь; никто не знал так хорошо простую жизнь крестьян и их глубинную связь с землей; Арль же был лучшим местом для художников, чтобы воссоединиться с чистой поэзией природы. «Я смотрю вокруг и вижу в природе так много, что просто не остается времени думать о чем-нибудь другом». Внезапно отменив свой повторный визит в Сент-Мари, Ван Гог упаковал художественные принадлежности и отправился навстречу обжигающему солнцу и бурному мистралю Ла-Кро.
За последующие две недели он написал почти десяток картин в поддержку своих пасторальных воззваний. Снова и снова Винсент рисовал виды золотистых пшеничных полей Ла-Кро и каждый раз поднимал горизонт все выше и выше, чтобы сосредоточиться на летнем буйстве красок. «Пшеница переливается всеми оттенками золотого, – писал он, комментируя свою работу, – старое золото, медь, золотисто-зеленый, красно-зеленый, золотисто-желтый, зеленый, красный и бронзово-желтый». Он изменил освещение: из ослепительного полуденного желтого сделал красно-коричневые оттенки заката, чтобы пшеница «поблескивала в сумерках». Небо из кобальтового переходило в лиловый, в бирюзовый и даже в желтый, такой же насыщенный, как само солнце, «раскаленное в полдень, словно печь». Он писал нескошенные поля, колышущиеся от ветра и ждущие косы; молотильщика, неспешно пробирающегося через высокие колосья и оставляющего за собой след из снопов скошенной пшеницы; растрепанные стога, заполнявшие гумно и служившие импровизированными постелями для усталых жнецов.
Возбужденный собственными доводами и преследуемый невыносимой жарой и свирепыми ветрами, Винсент заканчивал одну картину и тут же начинал другую, иногда делая по две в день, – так он пытался угнаться за собственным ви́дением «художественного рая» в Провансе. «Я сделал семь этюдов с пшеничными полями, – хвастал он Бернару, – сделал быстро-быстро-быстро, в спешке, как жнец, что работает молча под палящим солнцем, думая лишь о жатве».
Одна из таких работ особенно хорошо отражала новый взгляд Винсента на манящую сельскую утопию, такую знакомую и одновременно экзотическую, зовущую всех настоящих художников на юг. На возвышенности к востоку от Арля Ваг Гог установил перспективную рамку лицом на север, в сторону Альпия, и принялся рисовать великолепную панораму золотой долины Кро. «Я работаю над новой темой, – сообщал он Тео, – поля, зеленые и желтые, до самого горизонта». На холсте больше чем 70 × 90 см – на таких он в Арле еще не писал – воображение Винсента превращало каменистые, зажаренные солнцем, похожие на клетки шахматной доски поля в роскошную Шангри-Ла. Солнечный свет мягко и ровно падал, не оставляя ни малейшей тени, оглаживал свежескошенные поля и насыщал цветом каждый уголок мозаичной равнины: белые песчаные дорожки, лиловые тростниковые ограды, оранжевые черепичные крыши, поля разных оттенков желтого и зеленого, перемежающиеся с мятно-зелеными островками новой поросли. Рощи, кустарники и заросли насыщенно-зеленого цвета уходили далеко, до самых пурпурных скал Монмажура, а на горизонте возвышался сиреневый Альпий под безоблачным голубым небом.
Настоящая победа клуазонизма над видимой реальностью, затуманенным дымкой и выжженным солнцем ландшафтом, абсолютная прозрачность во всем – от невысокого частокола на переднем плане до неровной полоски гор вдалеке. Всё – от маленькой синей повозки с сеном в центре полотна до белых руин Монмажура почти на самом горизонте – изображено одинаково четко, ни один контур не размыт в этом мире несуществующей воздушной перспективы. В пространстве бескрайнего пейзажа различимы маленькие фигурки крестьян за работой, каждый из которых – словно наглядное воплощение какого-то аспекта сельской жизни и сельского труда: жнец заканчивает работу в поле; по кромке другого луга еле движется повозка, запряженная лошадью; вдалеке пара бредет домой, а рядом с ними в телеге стоит фермер и забрасывает пшеницу на сеновал. На переднем плане – старые символы сбора урожая: лестницы, приставленные к стогам, пустая синяя телега и пара ярко-красных запасных колес.
Проработав под палящим солнцем и завершив картину всего за один день, Винсент вернулся домой с еще большей уверенностью в собственном искусстве («Перед последней картиной все остальные меркнут») и с новыми доводами в защиту своей миссии на юге. «Я двигаюсь в правильном направлении», – восклицал он. «Если бы Гоген согласился перебраться ко мне… мы сразу бы стали первооткрывателями юга». Мечтая о возвращении к истокам, Ван Гог вновь клялся в солидарности с крестьянами Нюэнена. «Во время жатвы работа моя была не легче, чем у крестьян-жнецов», – заявлял он. «Надеюсь со временем стать настоящим сельским жителем».
Защищая примитивистскую честность своих новых работ, Винсент приводил в пример самые известные деревенские образы Милле и «невинных и кротких созданий», населявших романы Золя. Следуя нативистским наставлениям Жеффруа, Винсент сравнивал свои простые полотна не с японскими гравюрами, а с «наивными картинками в старых-престарых сельских календарях, где мороз, снег, дождь, хорошая погода изображены в совсем примитивной манере». Ван Гог утверждал, будто его вдохновила картина сбора урожая прославившегося теперь Анкетена, виденная им в Париже, и рассуждал о новоприобретенном сходстве с Полем Сезанном, которым восхищались и Гоген, и Бернар и который был крестным отцом клуазонизма – объединяющего направления для всех трех художников. Так же как и Сезанн, ставший «неотъемлемой частью местности», которую он так часто писал в окрестностях Экса (расположенного в восьмидесяти километрах отсюда), Винсент ощущал неизъяснимую связь с Ла-Кро. «Когда я приношу холст домой, я говорю самому себе: „Гляди-ка, я, кажется, попал в тона папаши Сезанна“», – писал он. «Работаю даже в полдень, на самом солнцепеке, на пшеничных полях без намека на тень и наслаждаюсь зноем, как цикада».
В письмах к Тео Винсент апеллировал к любимым художникам обоих братьев и к лидерам продаж в фирме «Гупиль»: от Филипса Конинка и Жоржа Мишеля с их небесными видами до барбизонских пасторалей Милле и Дюпре и пейзажей Монтичелли. Но чаще всего встречались отсылки к тогдашней звезде мансарды. У заката над Ла-Кро «тот же великолепный эффект, что у Клода Моне, – заключал Винсент. – Выглядит отменно». В то время как Моне писал Средиземное море в Антибе, у Винсента была долина Кро, «простирающаяся до самого горизонта», «прекрасная и бескрайняя, как море». Жеффруа утверждал, что виды побережья Моне способны убаюкивать чувства и вводить в состояние, подобное сну. Винсент же говорил, что его райская панорама может успокоить усталую душу созерцанием бесконечности. «В этом плоском пейзаже, – писал он, – нет ничего, кроме вечности».
Стремясь подкрепить свою идею, в июле художник вернулся на холмы Монмажура, чтобы запечатлеть любимую долину с еще более высокой точки. Если бы не долгая дорога и не сильный ветер на вершине холма, он наверняка написал бы захватывающий вид, открывавшийся с руин аббатства. Но даже при помощи пера и бумаги ему удалось передать видение рая. На двух больших листах (49 × 61 см) Винсент нарисовал вид долины с высоты птичьего полета. «На первый взгляд похоже на карту», – писал он.
Ван Гог тщательно запечатлел местность, раскинувшуюся внизу, – с известняковыми уступами Мон-де-Корд на востоке, берегами Роны на западе, с деревнями, амбарами, фермами, с паутиной заборов, дорог и даже железнодорожных путей. Затем с силой и изобретательностью, удивительными даже для него, Винсент мелко заштриховал пером все внутреннее пространство между контурами. От его одержимого пера не ускользнула ни одна деталь – ни борозда, ни кол в заборе, ни пучок травы, ни малейшее изменение текстуры, как бы далеко оно ни было. Каждая точка и черточка, штрих и линия, завиток и загогулина были призваны подтвердить красоту и величие Ла-Кро. Похожий на карту пейзаж превратился в нечто волшебное. Завершив работу, Винсент тут же отправил брату два рисунка в качестве отчета, приглашения и просьбы. «Освежи свой взгляд видом просторов Кро, – требовал он. – Мне очень хочется дать тебе верное представление о простоте здешней природы».
Но и в работах Винсента, и в его описаниях юга кое-чего не хватало. Как и в прошлый раз, он уехал в провинцию в поисках моделей. Целых два года в Париже художник мучился от дороговизны и недостатка натурных штудий в своей мастерской. В Арль же он прибыл специально, чтобы подыскать моделей для многофигурных полотен и портретов, – регион был известен привлекательностью своих жителей. «Здесь довольно много красивых людей», – сообщал он Вил. Каждый раз на прогулке, по его словам, он видел «женщин, как у Фрагонара или Ренуара», «девушек, напоминавших о Чимабуэ и Джотто», «не уступающих красотой моделям Гойи или Веласкеса». Но за исключением одной пожилой арлезианки, которую он написал вскоре после прибытия, ему все так же не везло, как и в Париже.
В мае Винсент переехал в Желтый дом, и после тесного гостиничного номера у него наконец появилось место, куда можно было приглашать моделей. Поездка в Сент-Мари, где он надеялся найти купальщиков, которые согласились бы позировать, вызвала очередной приступ воодушевления: «Хочу писать фигуры, фигуры и еще раз фигуры». «Я начну стремительную атаку на моделей, – заявлял он, – вот моя настоящая цель». Как и когда-то в Антверпене, Ван Гог принялся разглагольствовать о том, как будет заманивать женщин к себе в мастерскую, обещая сделать портрет. «Я уверен, они проглотят наживку», – радостно писал он.

Долина Ла-Кро. Вид с Монмажура. Перо, чернила, мел. Июль 1888. 49 × 61 см
Но не тут-то было. В Сент-Мари он прибыл слишком рано – купальный сезон еще не начался, а в Арле все модели ушли собирать урожай. Уговорить подозрительных крестьян замереть во время сбора колосьев или сбрасывания сена в стог на некоторое время, чтобы он успел зарисовать их в движении, не получалось. В результате Винсент писал картину за картиной, а героев сельской жизни на них почти не было видно. В отличие от знаменитых крестьянских работ Милле фигуры на полотнах Винсента мелкие и едва прорисованные, их почти невозможно заметить в этом буйстве солнца и пшеницы. В июне в отсутствие модели он испортил немало картин, пытаясь нарисовать фигуру по памяти. «Мне все еще крайне нужны мои модели, – писал он сестре, вспоминая послушных де Гротов из Нюэнена, – те, что будто созданы для меня, которых я обожаю; вот бы они были здесь».
Наконец Винсент в отчаянии принялся умолять Вил вернуть несколько гравюр, спасенных из мастерской на Керкстрат. Если уж приходится работать с бумажными, а не с живыми моделями, надо выбирать лучшие. Винсент начал бояться, что неудачи с моделями, особенно женского пола, поставят под угрозу весь его художественный проект, как это уже бывало раньше. «Работа над портретами – это куда серьезнее, – настаивал он, – это то, что позволяет мне развивать все, что есть во мне самого лучшего». Эта навязчивая идея переносилась на его представление о Желтом доме, и Винсент загадочно предрекал, что будущий художественный мессия, «Милый друг Юга», «станет в изображении фигуры тем, чем стал Клод Моне в пейзаже». Как герой Мопассана, Винсент представлял, что чувственный конкистадор и покоритель темнокожих дикарок Гоген приедет в Прованс и привлечет легендарных красавиц Арля в их общую с Винсентом мастерскую.
Мечты об эротических и художественных победах лишь усилились после того, как Винсент услышал, что Гоген приступил к написанию картины с танцующими крестьянками – райской фантазии в духе Жюля Бретона. В то же самое время двадцатидвухлетний Бернар мучил Винсента пикантными историями о посещениях парижских борделей, рисунками проституток и стихами, побуждающими к эротическим похождениям. Боясь поражения на этом поприще, Винсент, как и в Антверпене, прочесывал бордели и переулки Арля в поисках «публичных женщин», согласных ему позировать. Возможно, именно таким образом он нашел «грязную девчонку», которая тем же летом стала моделью для единственного портрета, а затем исчезла. Он хвастался своей находкой, «уличной девчонкой, напоминающей головы на картинах Монтичелли», своим друзьям, таким как Рассел, которые разделяли его вкус к проституткам и, как надеялся Винсент, могли поддержать великие планы по покорению юга. (Правда, брату он о ней не упоминал, утверждая, будто избегает женщин из страха перед очередным «кризисом по женской части».)
Собственно, главным подтверждением «сексуальной притягательности» Арля, которое Винсент смог найти и которым мог поделиться со всеми, была совсем не женщина. Это был мужчина. В середине июня, когда сбор урожая был прерван ливнями, некто удивительный вошел в Желтый дом и уселся прямо перед мольбертом Винсента. На мужчине была алая блуза без рукавов и с расшитым воротником, отделанная крупными золотыми завитками. Голову его украшала красная феска, лихо сдвинутая набекрень; сбоку болталась большая черная кисточка. Он уселся верхом на стул, широко раздвинув ноги, будто и правда оседлал лошадь, положил руки на бедра и прижал локти к поясу. Он пристально смотрел на Винсента темными, глубоко посаженными глазами и нетерпеливо жевал трубку.
«Я наконец обзавелся моделью, – торжествовал Винсент, – это зуав».
Когда-то призванные во французскую армию из алжирского племени зуауа, зуавы заняли в европейском сознании особое место, границы которого выходили далеко за пределы населенной берберами возвышенности в Северной Африке. Веками никому не удавалось их покорить – ни османским беям, ни французам, вплоть до 1870-х гг. Зуавы стали символом безжалостности в бою и необузданной сексуальной энергии. Однако к тому моменту, когда Винсент столкнулся с ними в борделях Арля, слава зуавов привлекла в их ряды стольких французов, что африканского в них почти ничего не осталось, кроме экзотических нарядов и ореола сверхъестественной мужественности. На самом деле Винсент, скорее всего, познакомился с молодым натурщиком через Поля Эжена Милье, лейтенанта Третьего зуавского полка, расквартированного неподалеку от района борделей. Брошенный сын буржуа, пошедший в наемники, Милье прибыл в Арль на побывку после длительной службы во французском Индокитае. Ночи он проводил в борделях, а днем развлекал себя рисованием. Винсент разделял оба увлечения лейтенанта и даже предложил подучить его в последнем.
Но Милье обладал приятной внешностью и тонкими чертами, что совсем не вписывалось в образ дикости и чувственности, который Винсент хотел отправить товарищам в Париж и Бретань. А вот его модель, напротив, могла похвастаться «бычьей шеей и глазами, как у тигра» – как Винсент описывал его Тео, и это полностью соответствовало репутации зуавов в бою и в сексе. Может быть, на спор, а может, в результате совместных возлияний (как позже признавался Винсент) молодой солдат по меньшей мере дважды наведывался в Желтый дом и задумчиво позировал для увлеченного Винсента.
Чтобы передать животную сексуальность своего персонажа, Винсент накладывал жирные мазки насыщенных цветов в самых необычных сочетаниях: красная феска на фоне зеленой двери и оранжевых кирпичей сбоку, декоративные золотые завитки на куртке, оттеняемые широким синим (а не красным, как в действительности) кушаком. Когда зуав явился второй раз, на нем были широкие красные шаровары. Винсент усадил его у беленой стены с широко раздвинутыми ногами так, что на рыжем плиточном полу образовался огромный ярко-красный треугольник. Зуав сидел на скамье в напряженной позе, сверля угольно-черными глазами пространство перед собой, а его смуглая кожа казалась еще более темной на фоне белой стены. Одна крупная рука нервно елозит по колену, другую он положил на кроваво-красный парус шаровар, привлекая внимание зрителя к тому, что они скрывают.
В посланиях Тео и друзьям Винсент описывал оба подчеркнуто смелых по колориту портрета, еще больше сгущая краски: «Бронзовая от загара, по-кошачьи хищная голова в феске цвета краплака на фоне зеленой двери и оранжевых кирпичей, такое дикое сочетание несочетаемых цветов нелегко передать». Ван Гог утверждал, что вдохновлялся работами Делакруа, известного своими изображениями диких кошек и так же яростно обращавшегося с красками, как его хищники с добычей. Винсент хвастался «уродливостью», «вульгарностью» и «жуткой грубостью» созданного им образа и обещал в дальнейшем работать так же, ведь подобный подход мог «облегчить работу в будущем». Идея, которую Винсент пытался донести до своих товарищей, была предельно ясна. Только на юге, только в Арле, только в Желтом доме они могли обрести ту примитивную чувственность и дикость образов, в которой так нуждалось их искусство. А что касается моделей: разве такой великолепный хищник, как его зуав, станет охотиться где попало и на кого попало?
Наконец в июле Винсент смог показать долгожданную добычу. Каким-то образом он сумел убедить молодую арлезианку позировать для него, а может, и заплатил ей. Красавицей она не была, но моделью работала не впервые. Судя по ее портрету, написанному в начале того же года Мурье-Петерсеном, у женщины было вытянутое лицо, черные волосы, узкие губы и пронзительный взгляд, лет ей было около двадцати. Но Винсент рисовал совсем не это. Охваченный стремлением заманить товарищей на площадь Ламартин, он видел совсем иной образ.
Под воздействием собственных желаний Винсент в своем воображении превратил задумчивую модель Мурье-Петерсена в мусме – идеал чувственных наслаждений всех французских мужчин того времени. В своем вымышленном рассказе о путешествии по Японии «Мадам Хризантема» Пьер Лоти описывал удивительные подробности знакомства с экзотической сексуальной особью – невинной девочкой-подростком, стесняющейся своей только что распустившейся женственности, которую жители самой экзотической в мире страны предложили белому иностранцу, чтобы ублажить его – проституткой, любовницей, девочкой-невестой, сексуальной игрушкой, созданной, чтобы дарить наслаждение. «Знаешь ли ты, кто такие „мусме“? – спрашивал он Тео, который, как и все в их кругу, восхищался недавно опубликованной фантазией Лоти. – Так вот, я написал одну такую особу. Это отняло у меня целую неделю – ничем иным я заниматься не мог».

Сидящий зуав. Перо, чернила, карандаш. Июнь 1888. 52 × 66 см
Всю неделю Винсент не покладая рук писал (и переписывал) портрет провансальской девушки, прорабатывая образ столь же тщательно, как некогда трудился над образами своих «Едоков картофеля». Ее глаза он сделал поуже, брови – потемнее, изменил форму рта, чтобы подогнать изображение под описания Лоти. Особенно он старался превратить худое лицо своей модели в приятное и кроткое «пухленькое личико», которое так очаровало Лоти. Ван Гог накладывал краску слой за слоем на руки и лицо, пытаясь найти точное сочетание розового и желтого – по-японски экзотическое и одновременно универсальное для всех женщин, – которое так смущало Лоти. Винсент одел модель в яркий провинциальный наряд, имевший мало общего с Арлем, с Японией, даже с фантазией Лоти о Японии и, скорее, отвечавший представлениям клуазонистов об узорах и орнаментах: красно-фиолетовый полосатый корсаж с ярко-золотыми пуговицами и пышная синяя юбка в ярко-оранжевый горошек. Он усадил ее на вычурно изогнутый венский стул на светло-зелено-голубом фоне – такой оттенок называется «селадон» и характерен для особой разновидности китайского фарфора; этот цвет оттенял красные полоски на корсаже и красный бант в волосах девушки, одновременно подчиняясь благородному синему тону юбки.
В руки модели Винсент вложил веточку олеандра – это растение было для Ван Гога символом соблазна и волнующей опасности, связанной с физической близостью. Бледно-розовые цветы олеандра ядовиты, а его листья могут вызвать раздражение на нежной коже. Даже пленительный аромат этого растения порой оказывается губительным, если вдохнуть его слишком глубоко. Как и зуав, девушка положила руку с двусмысленным букетом на колени, на пышную яркую юбку, намекая на то, что под ней.
«Мусме» стала заключительной частью истории на тему первобытной страсти, начатой в портрете зуава: она воплощала удовольствие и предназначалась для удовлетворения дикого аппетита героя первой картины. Для затравки Винсент разослал тщательно выполненные рисунки с обоих полотен своим друзьям, пытаясь заманить всех, особенно Гогена, в край экзотического эротизма, в край, изобилующий кроткими и покорными женщинами с «крепкой и упругой грудью» – совсем как в Японии Лоти или на Мартинике Гогена; в край сексуальных приключений и малолетних невест, предоставляемых в распоряжение мужчин; в край без ограничений – сексуальных и художественных; в эротическую нирвану примитивного секса и первобытного искусства, не уступающего книжным романам или байкам моряков. Такие обещания должны были заманить на юг даже Милого друга.
Пребывая в плену утопических замыслов, Винсент в нетерпении ожидал ответа из Понт-Авена. В июле и августе он часто выезжал на пленэр, чаще всего – на Монмажур, свое любимое место, в компании лейтенанта зуавов Поля Милье. Вместе они исследовали скалистую вершину и лабиринты руин. Как раз во время одной из этих совместных вылазок Винсент обнаружил старый сад аббатства, за которым сто лет уже никто не ухаживал и где под щедрым южным солнцем образовались настоящие заросли. «Мы обследовали старый сад и нарвали там украдкой великолепных смокв, – описывал Винсент этот укромный уголок Тео, – высокий тростник, виноградные лозы, плющ, смоковницы, оливы, гранатовые деревья с мясистыми ярко-оранжевыми цветами… и там и сям, среди листвы, рухнувшие стены».
Рассказывая об этом райском месте, скрытом среди руин Монмажура, Винсент привычно обращался к образам, почерпнутым в литературе. Нетронутый сад аббатства напомнил ему о знаменитом, окруженном стеной саде в романе Золя «Проступок аббата Муре». У Золя сад был чудом природы и заброшенности, и именно там герой романа находит нетронутое изобилие и чувственную энергию Эдемского сада. Сам Золя описывал его как «кусочек рая», где природа «резвилась привольно и без помех», «услаждая себя диковинными букетами, которые не срывала ничья рука», «накидывала сети цветов на аллеи», «брала приступом груды щебня» и «словно водружала знамя мятежа». Золя назвал этот мистический, на столетие забытый сад «Le Paradou».
Как и Серж, страдающий амнезией герой Золя, влюбившийся в единственную обитательницу Параду, светловолосую девушку Альбину, Винсент увидел в заброшенном саду аббатства обещание счастья. Готовясь к долгожданному приезду еще одного Поля из Понт-Авена, он бродил между столетними деревьями сада, меж покрытых лишайником камней и расточительных плодовых растений в веселой компании молодого солдата Милье. «Он симпатичный малый, беззаботный и добродушно-веселый, – писал Винсент, – и очень мил со мной».
Винсент написал дорогу к Монмажуру с ее необычными деревьями, цепляющимися за голые камни (тем самым возвращаясь к излюбленной теме чудесного возрождения жизни из былого упадка), и сделал несколько подробных рисунков башни аббатства и прекрасного вида, который с нее открывался. Но сильнейшие порывы мистраля вынудили завершить рисование в саду, где они с Милье прекрасно проводили время. Чтобы поместить тонкие намеки на счастье на холст или бумагу, он бродил по переулкам и окраинам Арля в поисках картин природного изобилия, которые можно было бы использовать для создания образа сада Параду.
В каждой новой картине или рисунке Винсент не жалел красок и чернил на изображение буйно цветущего сада. Эти образы свободной природы были столь щедры и плодовиты, что богатая зелень почти полностью отодвигала горизонт и преодолевала пытавшиеся усмирить ее ограды. Даже на песчаном островке, образованном изгибом дорожки, ведущей к общественной уборной, Винсент видел образ освобожденной природы: «взрыв пышных ярко-оранжевых цветов» – зацветающих олеандров.

Сбор урожая в Арле. Перо, чернила. 1888. 31 × 24 см
Но у Поля Гогена были свои представления о рае. И по большей части они были связаны с деньгами. Бывшему биржевому маклеру надо было содержать семью из шести человек и усмирять строгую жену; с художественной карьерой он связывал серьезные финансовые планы и поэтому не мог позволить себе утопические фантазии в духе Винсента. В ответ на приглашение в Арль (которое он назвал «трогательным») Гоген предложил собственное ви́дение товарищества художников, и этот образ совершенно потряс Винсента: «Он рассказывает, что, когда матросы поднимают тяжелый груз или выбирают якорь, они начинают петь, – это задает ритм и прибавляет сил. Вот чего не хватает художникам!»
Но вместе с этими заманчивыми фантазиями возникла и необычайно смелая схема, рядом с которой меркли все грандиозные планы Винсента относительно общего дела братьев в мансарде. Гоген предложил, чтобы Тео собрал невероятную сумму – шестьсот тысяч франков – и «организовал торговлю картинами импрессионистов». Винсент был настолько поражен суммой, что не стал даже обсуждать гогеновский план с братом. Он объявил проект фантазией, миражом и списал его на подорванное здоровье Гогена. «Чем сильнее человек страдает от одиночества и бедности, особенно если он еще и болен, – писал Винсент без тени иронии, – тем больше он верит в такие невозможные вещи. В его плане я вижу лишь доказательство того, что он сломлен и что самое главное сейчас – поскорее помочь ему сдвинуться с места».
Неожиданный ответ омрачил радужные надежды Винсента на Желтый дом. В приступе ярости, смешанной с раздражением, возмущением и соперничеством, он объявил встречное предложение Гогена «полным сумасбродством» и потребовал его немедленного отзыва. Он всячески предостерегал Тео от уговоров француза и настаивал на том, что Гогену не стоит лезть в их с братом дела. «Самое ценное, что есть у Гогена, – это его живопись, – писал Винсент. – И лучший бизнес для него – это его картины». И действительно, он превратил биржевое прошлое Гогена в повод для мрачных подозрений о возможном заговоре с «еврейскими банкирами» с целью погубить братьев. В приступе раздражения Винсент угрожал отозвать свое приглашение, найти другого, более благодарного художника и разделить с ним мастерскую на юге. В отчаянии Гоген наконец-то отказался от придуманной им схемы и отослал Тео «категорическое согласие на предложение относительно Арля».
Настроение Винсента заметно улучшилось. «Из твоего письма я узнал важную новость, – радовался он, – Гоген одобрил наш план. Разумеется, будет лучше всего, если он немедля явится сюда». Но душевный подъем продолжался всего неделю: Гоген в очередной раз отложил отъезд, ссылаясь на еще большие финансовые затруднения (ему нужны были деньги на дорогу), усугубление проблем со здоровьем; письма стали приходить реже, а это вызывало беспокойство. В середине июля Винсент вновь почувствовал необходимость убедить Тео в том, что союз с Гогеном финансово обоснован. Вопреки здравому смыслу, Винсент стал еще сильнее подталкивать Рассела к покупке картины Гогена; он отправил свои рисунки Монмажура торговцу Томасу и предложил вырученные деньги передать на расходы Гогена; он придумал устроить выставку Гогена в Марселе. И тут Тео вдруг начал подумывать об уходе из «Гупиля», Винсент не только умолял его остаться, боясь, что подобное изменение поставит под угрозу их план, связанный с Гогеном, но и предложил самому вернуться к работе у Гупиля. В итоге он совершил невиданный прежде жест: вернул часть денег, которые ему присылал Тео.
К 22 июля Винсент почувствовал, что вынужден вернуться к предложению, высказанному еще в конце июня, когда переговоры зашли в тупик. Оставив мечты о Желтом доме и мастерской на юге, он предложил, что сам отправится в Понт-Авен. «Если Гоген не может оплатить ни долги, ни дорогу, – писал он Тео, – почему бы мне не отправиться к нему, если мы хотим ему помочь?.. Я готов пожертвовать своими предпочтениями, юг или север – все равно. Какие бы мы ни строили планы, всегда найдется какое-нибудь препятствие». Всего несколько дней спустя настроение Винсента вновь улучшилось – из Понт-Авена пришло письмо с сообщением, что здоровье Гогена пошло на поправку; завершалось оно на оптимистической ноте: «В ожидании воссоединения я протягиваю вам руку». Винсент немедленно отправил ответ, приложив к нему набросок последнего аргумента в пользу переезда на юг – Мусме. Шли недели – Винсент не получил в ответ ни строчки (пытка молчанием была ему хорошо знакома) и снова пал духом.
Все шло без изменений. Каждый всплеск надежды сопровождался новыми препятствиями по мере того, как Гоген рассматривал варианты и пытался использовать все доступные средства, чтобы выжать как можно больше из предложения братьев. Винсенту он жаловался на одинокую жизнь в Бретани. «Местные хамы держат меня за сумасшедшего, – писал он, напоминая Винсенту о собственной демонстративной отчужденности, – а я только рад, ведь это подтверждает, что я таковым не являюсь». В письмах к Тео (в обращении к которому он всегда неправильно писал его имя – «Monsieur van Gog» вместо «Monsieur van Gogh») он сокрушался о «надоедливых кредиторах», сыпал обещаниями о непременных продажах и заявлял о своей готовности отправиться в Арль: «Я готов чем-то жертвовать».
К противоречивым сообщениям из Понт-Авена добавились сомнения в Париже. Винсент слал нервные увещевательные письма, а послания Гогена, напротив, были спокойными и продуманными, и Тео заподозрил неладное. Пылкие письма и щедрые посулы Винсента уже и так насторожили француза. Что, если у брата слишком радужные ожидания? А вдруг художники не уживутся? Сможет ли его напористый и самонадеянный Винсент найти общий язык с хитрым карьеристом Гогеном?
Когда сомнения дошли до Арля, Винсент полностью поменял тактику. После месяцев «расчетливого безумия» он решительно отказался от всяких надежд на коммерческий успех союза с Гогеном и перешел к нелепым нравоучениям о тщете амбиций и опасности славы. «Вероломная публика» никогда не почувствует вкус к «чистому таланту» таких художников, как Гоген и он сам, писал Винсент, «ведь она любит лишь все легковесное и слащавое». Он признавал, что ожидать от его искусства что-нибудь, кроме «вечной бедности», «презрения общества» и «постоянных неудач», означало бы обрекать себя на страдания. «Я не придаю никакого значения личному успеху и процветанию, – уверял он Тео, отрекаясь от радости, испытанной художником в тот момент, когда Жеффруа заинтересовался его работой. – Мне важно лишь, чтобы смелые начинания импрессионистов оказались долговечными».
В середине августа Винсенту начало казаться, что его худшие страхи становятся реальностью: никогда не упускающий выгоды Гоген дал понять, что, возможно, отправится в Париж вместо юга. «Гоген надеется на успех. Ему не обойтись без Парижа, – в отчаянии писал Винсент. – Здесь, по его представлениям, делать нечего». Всего несколько дней спустя пришло письмо от Бернара, в котором тот рассказывал о поездке к Гогену в Понт-Авен. В послании «не было ни слова о том, что Гоген собирается ко мне, – с болью сообщал Винсент, – и ни слова о том, что он ждет меня там».
Резкие изменения в сложившемся треугольнике вызывали у Винсента чувство мучительной тревоги. С каждой отсрочкой из Понт-Авена, с каждым возражением из Парижа мечта о Параду становилась все менее достижимой. Винсент всегда был готов увидеть заговор там, где имела место обыкновенная неуверенность, это злило его и погружало в депрессию, которую лишь усугубляли молчание Рассела, демонстративное пренебрежение со стороны Мак-Найта, расстройство из-за отсутствия моделей и очередные приступы чувства вины из-за расходов, напоминания о старых парижских долгах и чтение беспросветно гнетущего «Грозного года» Гюго, посвященного Парижской коммуне. Винсент пытался заглушить свои страхи: проводил длинные, изнурительные дни под палящим летним солнцем, поглощал одну чашку кофе за другой, иногда разбавляя его ромом, ночи коротал за абсентом – в Арле даже более популярном, чем в Париже. «Если бы я стал задумываться, если бы я стал рассуждать обо всех возможных неприятностях, я вообще не смог бы ничего делать, – признавался он брату, – но я с головой ухожу в работу… а уж если буря в душе ревет слишком сильно, я выпиваю лишний стаканчик и оглушаю себя». Винсент корил себя, что снова трудится не щадя сил, иногда забывая даже поесть. Он подстриг бороду и побрился наголо.
Месяцы неопределенности нарушили его сон, расстроили желудок и расшатали и без того слабые нервы. «Все это не лучшим образом сказалось на моем организме, – забывшись на мгновение, признавался он Тео, – и рассудок мой пострадал». Лейтенант Милье, единственный, хоть и непостоянный, компаньон Ван Гога, вспоминал, что Винсент был подвержен резким, как мистраль, сменам настроения: то был охвачен безудержным гневом («в моменты злости он казался сумасшедшим») и тут же проявлял «невероятную чувствительность» («иногда он реагировал, как женщина»). В письмах восторг сменялся злостью, а злость покорностью. Винсент по-прежнему ожесточенно оспаривал каждое возражение и каждую возникающую сложность, но уверенность его тонула в приступах обреченности. «Все надежды своим трудом обрести независимость, стать авторитетом для других пошли прахом!» – восклицал он в письме сестре, написанном в конце июня. Винсент безрадостно подсчитал общую сумму, присланную братом Тео за все эти годы, – «15 000 франков!» – и стал мрачно шутить, что лучше было бы на эти деньги купить работы других художников. В минуту раздражения в своем бедственном положении он винил не Гогена, а «неблагодарную планету» – «прогнившие академические традиции», из-за которых на художников новой школы, «одиноких и нищих, смотрят как на сумасшедших».
В порыве оптимизма он развесил тридцать своих картин в Желтом доме, устроив таким образом самому себе выставку собственных работ, пока они подсыхали и ждали отправки в Париж. «Мы слишком далеко зашли, чтобы сейчас все бросить, – писал Винсент, предпринимая жалкую попытку подбодрить брата. – Я клянусь, что моя живопись станет лучше. У меня ведь, кроме нее, ничего нет». Когда настроение Винсента становилось мрачнее, он во всем начинал видеть неотвратимый перст судьбы – «Возможно, надежда на то, что со временем начнешь работать лучше, тоже призрачна» – и признавал высокую цену попыток его избежать. «Мне кажется, что у меня не хватит сил долго продолжать в том же духе… Я неизбежно сломаюсь и покончу с собой». Перспектива очередной неудачи душила его. «Видишь ли, я нашел свое дело», – писал Винсент своей сестре и наперснице Вил, —
и больше ничего не нашел для жизни. А будущее? Либо мне станет вовсе безразлично все, что не относится к живописи, либо… Я даже боюсь вдаваться в это.
Но как Винсент ни старался, мысли его становились все мрачнее. Он все чаще называл себя «безумцем», «выжившим из ума» и «сумасшедшим» – иногда с горькой иронией, а иногда вполне серьезно. Винсент многозначительно заявлял, что, если к нему будут относиться как к безумцу, он «действительно станет таковым». Обрив голову, он смотрел в зеркало и видел ввалившиеся щеки и «изумленное» выражение лица «Гуго ван дер Гуса, сумасшедшего художника», которого Эмиль Ваутерс изобразил взлохмаченным, с безумным взглядом. Образ человека искусства, мучимого душевной болезнью, преследовал Винсента с того момента, как он решил стать художником.
Демоны в сознании Винсента уже вырвались на волю, когда в конце июля он получил известие о смерти дяди Сента. Почтенный торговец скончался в возрасте шестидесяти восьми лет, несмотря на долгие годы недомоганий пережив всех своих братьев, кроме одного. Хотя Винсент давно был готов к неизбежной кончине дяди, полученные новости стали для него сокрушительным ударом. Все призраки, мучившие его еще со времен Голландии, с новой силой навалились на Винсента в момент, когда ситуация с Гогеном зашла в тупик. В письмах на смену рассуждениям о прошлых ошибках, упущенных возможностях и неминуемых поражениях пришли пространные размышления о смерти и смертности.
Винсент страшно разозлился, узнав от Вил, что несгибаемый Сент скончался «в мире и покое», и заявил, что дядина (и отцовская) уверенность в загробной жизни – ничтожные измышления, достойные лишь старух. Однако возможность безжалостной пустоты страшила его. Чтобы заполнить ее, Винсент ухватился за шаткую доктрину, допускающую существование других «невидимых» миров. Он соединил призывы к возрождению современного искусства и собственную неудовлетворенную потребность в личном искуплении, которое смерть дяди Сента делала еще более недостижимым, и принялся размышлять о существовании «другого полушария» жизни, где художники получали признание за заслуги, а не за продажи, где не было мучительного чувства вины, а прошлые грехи были прощены. «Это было бы так просто, – представлял он, – и это было бы вознаграждением за те ужасы, что поражают и ранят нас».
Винсент подолгу гулял по ночам, глядел на небо и обдумывал последние сообщения о дальних планетах и невиданных мирах, представляя себе тот рай, который ему не удалось создать в реальном мире. «Я странник, – писал Винсент, – который идет в неизвестном направлении к неведомой цели. Но если я скажу себе, что в моих странствиях и устремлениях никакой цели нет, то мне будет трудно с этим спорить и я, пожалуй, соглашусь, что так и есть». Винсент сравнивал жизнь с «поездкой на поезде в один конец»: «Едешь быстро и не видишь ни того, что рядом, ни – главное – локомотива…»
Почему, спрашиваю я себя, светлые точки на небосклоне должны быть менее доступны для нас, чем черные точки на карте Франции? Точно так же, как мы садимся в поезд, чтобы отправиться в Руан или Тараскон, мы умираем, чтобы отправиться к звездам. Лишь одно в этом рассуждении бесспорно: пока мы живем, мы не можем отправиться к звездам, равно как, умерев, не можем сесть в поезд.
Оказавшись в водовороте мрачных дум, Винсент ухватился за единственное утешение. На большом холсте он набросал знакомую фигуру, успокаивающую его куда больше, чем любые обещания райского блаженства, – сеятеля. Идея пришла к нему, еще когда он рисовал сбор урожая в Ла-Кро, но не в виде законченной композиции, а как образ. В июне на полях шла жатва – сеять должны были начать только осенью. Как и виды моста Ланглуа, образ родился из глубокой, жгучей ностальгии. «Отголоски прошлого по-прежнему чаруют меня, – писал он, задумывая картину, – и меня охватывает стремление к бесконечному, символами которого являются сеятель и всходы».
Позировать было некому, поэтому пришлось полагаться на воспоминания о знаменитой картине Милле на ту же тему – ее Винсент видел лишь в виде гравюры, а потом – мельком – в варианте пастелью. Но это было не важно. Гордая фигура, шагающая с мешком семян наперевес, выбрасывая вперед руку, – этот образ вселял надежду в художника еще с темных времен Боринажа. Шли годы, и в Эттене, Гааге, Дренте и Нюэнене Ван Гог вновь и вновь пытался выразить надежду на искупление, обретаемое тяжким трудом; этому учил отец, именно это сумел воплотить Милле, об этом свидетельствовали кумиры его воображения – от Золя до Элиот. Но все попытки оказывались неудачными. «Я так давно мечтал написать сеятеля, – жаловался он, наблюдая за тем, как сбор урожая в Арле подходит к концу. – Но так этого и не сделал. Я попросту боюсь».
Он снова приступал к мучившему его образу и вновь бросал его, процесс превратился в настоящую борьбу, столь же неистовую и безумную, как и параллельный бой с Гогеном и Тео за будущее Желтого дома. Винсент то обретал уверенность в себе, то терял ее, и все это отразилось на холсте. Как и в случае с «Лодками в Сент-Мари», работа была задумана как манифест клуазонизма. В письме Бернару Ван Гог описывает ее следующим образом: на переднем плане «откровенно фиолетовым» написана вспаханная земля; на горизонте – полоска зрелой пшеницы, «желтой охры с чуточкой кармина»; огромное солнце в небе цвета «желтого хрома, почти такого же светлого, как само солнце»; одинокий сеятель в «синей блузе и белых штанах». Всего неделю спустя Винсент признался, что «полностью переработал» этот, казалось продуманный до мельчайших деталей, образ. Вспоминая более ранние и дополняющие друг друга взгляды Блана и Шеврёля, а также их пророка Делакруа, он представлял себе, что изобразит своего сеятеля так же, как Делакруа написал «Христа на море Галилейском»: образ спокойствия в бурю, безмятежности в отверженности и возрождения через страдания. «Я ищу чего-то особенно душераздирающего и потому особенно рвущего душу», – пытался объяснить художник.
Винсент все глубже погружался в создаваемый образ с мыслью о Христе как о «великом художнике», который разливает светлое искусство искупления, как бредущий по полю сеятель разбрасывает семена возрождения. «Какой сеятель! – восклицал он в письме Бернару. – Какой урожай!» В то же время Ван Гог написал странный, невозможный автопортрет, на котором изобразил себя, уверенно идущим «по залитой солнцем дороге в Тараскон» – по дороге в вечность – и несущим за спиной альбомы, холсты, перья и кисти – семена новой веры. «Я считаю, что работа над этюдами сродни севу, – однажды сказал он, – а я мечтаю о времени жатвы».
Движимый метафизическими устремлениями, Винсент все время переделывал простой образ, который описывал Бернару. Художник пытался отразить все разочарования настоящего и надежды на будущее и постоянно менял позу одинокого сеятеля, стараясь приблизить ее к воспоминаниям о фигуре с картины Милле. Он добавлял новые тона: примешивая зеленый к желтому небу, чтобы сделать солнце ярче и подчеркнуть его лучи; оранжевый в фиолетовое поле, накладывая густые мазки в подражание живописной манере импрессионистов. Винсент утверждал, что причиной всех этих мучительных переделок, равно как основанием мучительных мечтаний о Желтом доме служат предсмертные призывы Коро к поиску сокровенной истины. «Мне совершенно безразлично, какие цвета в реальности», – хвастался он Бернару, главное – они должны были соответствовать «стремлению к вечности».

Сеятель на закате. Тростниковое перо, чернила. Август 1888. 24,5 × 32 см
Но образ все не поддавался. Результаты упорного труда Винсент обозвал всего лишь «раздутым этюдом», «попыткой композиции» – это было еще одно так и не взошедшее семя. Винсент отставил холст в сторонку в мастерской, «едва смея думать о нем». Но, по собственному признанию, «Сеятель» продолжал его «беспокоить», заставляя думать, не должен ли он всерьез приняться за этот сюжет «и сделать потрясающую картину. Господи, мне этого так хочется. Но я все время спрашиваю себя, хватит ли у меня сил». В письмах к Тео он высмеивал собственную трусость: «Можно ли написать „Сеятеля“ в цвете… Можно или нельзя? Конечно можно. Ну так вперед!» В конце концов, горько разочаровавшись, он приговорил этот образ к той же неопределенной судьбе, что и свою мечту о Желтом доме. «На этот великолепный сюжет, несомненно, можно сделать картину; надеюсь, что когда-нибудь она будет написана – или мною, или кем-то другим».
В середине августа огласили завещание дяди Сента. Как и ожидалось, старик ничего не оставил бедствовавшему племяннику. Более того, он не упустил возможности последний раз уколоть своего никчемного тезку. Выделив щедрые суммы слугам и дальним родственникам, он сумел лишить Винсента наследства дважды. И не просто «забыв» упомянуть его имя. «Заявляю, что, согласно моей воле, Винсент Виллем Ван Гог, старший сын моего брата Теодоруса Ван Гога, исключается из списка наследников». Сент продолжал отчитывать племянника даже из могилы. А чуть ниже он исключил из списка «и его потомков» – вся семья по-прежнему подозревала: Винсент был отцом маленького сына Син.
Но дядя Сент отдельно оговорил суммы, предназначавшиеся Тео и его матери, а также завещал более четверти своего значительного состояния детям Доруса после смерти своей жены Корнелии. Двойное наследство освобождало Тео от текущих и будущих финансовых проблем. Но вся эта ситуация заставляла его испытывать вину перед братом. «Мне очень жаль», – писал он матери. (Анна осталась непреклонна.) Через несколько дней он написал Винсенту и Гогену, обещая использовать наследство Сента на то, чтобы «поддержать проект партнерства». Он предложил Гогену те же благоприятные условия, которые он на протяжении долгого времени обеспечивал брату: ежемесячное содержание в размере ста пятидесяти франков в обмен на двенадцать картин в год. Также он согласился оплатить Гогену долги и дорогу. И еще через несколько дней в Арль пришло письмо. «Получил известие от Гогена, – радостно сообщал Винсент. – Он готов перебраться на юг, как только представится возможность».
Так, в результате запутанных и не всегда понятных внутрисемейных отношений безжалостный дядя Сент подарил Винсенту самый невероятный шанс реабилитироваться за неудачи и практически исполнил его мечту о Параду.
Назад: Глава 28 Братья Земгано
Дальше: Глава 32 Подсолнух и олеандр

