* * *
В Доме правительства идеологические разногласия исчезли вместе с открытой оппозицией. Жильцы, которые сидели в тюрьме, были виновны независимо от их взглядов. Жильцы, которые оставались в Доме, не доверяли себе и друг другу. Бывшие оппозиционеры были виновны в бывшей оппозиционности. За арестом Смилги последовали аресты тех, кто его преследовал. Григорий Мороз, который занимался «отсечением» левых, пока не оказался правым, был арестован 3 июля 1937 года на даче в Серебряном Бору. По воспоминаниям его сына Самуила, которому тогда было семнадцать лет, на прощание он сказал, что произошло недоразумение и его скоро отпустят. Через два месяца его жена, Фанни Львовна Крейндель, была арестована, а двое младших сыновей, четырнадцатилетний Владимир и восьмилетний Александр, отправлены в детский дом. Самуила переселили из квартиры 39 в квартиру 402, где жил девятнадцатилетний Коля Демченко, сын наркома зерновых и животноводческих совхозов и бывшего первого секретаря Киевского и Харьковского обкомов Николая Нестеровича Демченко (арестованного 23 июля). Одиннадцатилетнего брата Коли, Феликса, забрали в детский дом. Коля и его жена Татьяна проводили в своей комнате медовый месяц, вызывая «смертельную зависть» Самуила. 28 января 1938 года и Коля, и Самуил были арестованы.

Григорий Мороз с сыном Самуилом
Десятью днями ранее Борис Шумяцкий, который помогал Морозу разгонять демонстрацию Смилги, а с 1930 года руководил советской кинематографией, был арестован вместе с женой, Лией Исаевной. В описи имущества, сделанной сотрудниками НКВД, упоминались восьмицилиндровый «форд» 1936 года, пианино «Шредер», холодильник «Дженерал электрик», пишущая машинка «Ройал» с латинским шрифтом, пишущая машинка «Мерседес» с русским шрифтом, 1040 книг и портреты Маркса и Ленина. Десятью днями ранее был расстрелян Яков Агранов, который руководил допросами как левых, так и правых оппозиционеров.
Аресты в Доме приняли массовый характер во время июньского пленума 1937 года. 17 июня Сергей Миронов написал Ежову с просьбой о создании специальных троек и предоставлении ему права вынесения смертных приговоров «в упрощенном порядке». 22 июня Ежов поддержал инициативу Миронова в письме Сталину. 23 июня он открыл пленум сообщением о засоренности советских учреждений террористами и шпионами. Через три дня был арестован заместитель наркома земледелия Арон Гайстер. По свидетельству его секретарши, он был вызван в кабинет наркома Михаила Чернова (кв. 190) и бесследно исчез. Жена Гайстера, Рахиль Каплан, находилась на работе в наркомате тяжелой промышленности, когда ей позвонили и сказали, что в квартире идет обыск. Ночью два сотрудника НКВД приехали на дачу Гайстеров на Николиной горе. Рахиль была с ними. Одиннадцатилетняя Инна проснулась, когда два человека в военной форме вошли в спальню и начали взламывать письменный стол. Через несколько дней и дача, и квартира были опечатаны. Рахиль переехала в четырехкомнатную квартиру на четвертом этаже четвертого подъезда, где жили жена и трое детей недавно арестованного члена Комитета советского контроля Виктора Карпова. Дети Гайстеров – Инна, семилетняя Наталья (Наталка) и годовалая Валя (Валюшка) уехали к бабушке на дачу. 30 августа они вернулись в Москву к началу учебного года. С ними приехала их няня Наташа. В тот день Инне исполнилось двенадцать.

Инна, Валерия (Валюшка) и Наталья (Наталка) Гайстер после ареста родителей (фотография сделана для отправки матери в лагерь). Предоставлено Инной Гайстер

Рахиль Каплан. Тюремные фотографии
Ночью пришли за мамой. Я тут же проснулась. Проснулись Наташа и Валюшка. А Наталка спала. Мама ходила по комнатам, а я за ней в ночной рубашке. А за мной Наташа с Валюшкой на руках. И вот так цугом мы ходили по квартире. Маме понадобилось в уборную. У Карповых дверь в уборную имела застекленную фрамугу с занавеской. Мама вошла в уборную, а энкаведешник велел ей отдернуть занавеску в сторону и наблюдал за ней. Мама вышла, и вот таким цугом мы продолжали ходить по комнатам за мамой.Я ревела все время, а мама повторяла: «Доченька, ты не волнуйся, мы ни в чем не виноваты. Мы с папой ни в чем не виноваты. Я скоро вернусь». Часов в пять утра маму увели. Я еще помню, что все время слышны были какие-то шумы, кто-то ходил по лестнице. Наверное, в эту ночь в нашем подъезде забирали не только мою маму.
Тогда же в Москву вернулась подруга Инны Светлана Халатова. Ее отца, бывшего председателя правления Госиздата и ОГИЗа, а в последнее время председателя Всесоюзного общества изобретателей, арестовали в один день с Гайстером. Вскоре арестовали и его жену (мать Светланы). Светлана была в пионерском лагере в Артеке. Когда она вернулась в Москву, бабушка сказала ей, что родители уехали в Ленинград, но во дворе Дома правительства Инна Гайстер подбежала к ней со словами: «А у вас случилось то же самое, что у нас». Светлану с бабушкой переселили в трехкомнатную квартиру, где жили семьи замнаркома тяжелой промышленности Ивана Павлуновского и начальника Гайстера Михаила Чернова (арестованного 7 ноября). До направления в Наркомтяжмаш Павлуновский был полномочным представителем ВЧК/ОГПУ в Сибири и Закавказье. В Сибири он раскрыл повстанческую организацию, состоявшую из кулаков, эсеров и белых офицеров. Успех Павлуновского послужил примером для Сергея Миронова, который нашел такую же организацию под эгидой Русского общевоинского союза. Успех Миронова послужил примером для Ежова, который переправил записку Миронова Сталину 22 июня, за пять дней до ареста Павлуновского.
* * *
В день ареста Гайстера и Халатова Аросев вернулся в Москву из Ленинграда. «Время, в которое мы живем, – записал он в дневнике 13 августа 1936 года, – исключительно жуткое. Никто никому не верит, и даже самый принцип необходимости доверия пошатнулся. Доверие пытаются заменить деляческой ловкостью. Все друг друга боятся, все смотрят исподлобья. О главном не говорят». Последней надеждой была апелляция к Истории через ее отдельных представителей. Он написал Сталину: «Душевное состояние мое тяжелое вследствие холодности и даже недоверия, какие дают себя чувствовать. Если я что-нибудь сделал не так, то есть два способа поступить со мной: или научить, поднять, нагрузить ответственностью и воодушевлением широкой работы, или отбросить и предоставить самому искать путей жизни среди мира дальнего» (то есть в литературе). Он написал Ворошилову: «С твоей стороны, и только с твоей, я встречал всегда глубокое понимание и, что главное, разумную человеческую доброту. Это не только мое личное впечатление, а всех тех, кто прямо, да даже и тех, кто косвенно соприкасался с тобой. Поэтому привязанность к тебе народа и моя проникнута особой глубокой личной симпатией». Он пытался дозвониться Молотову, биографию которого писал, и Ежову, который уже один раз (8 мая 1935 года) его принял.
Совершенно замученный человек. Взлохмаченный, бледный, лихорадочный блеск в глазах, на тонких руках большие набухшие жилы. Видно, что его работа – больше его сил. Гимнастерка защитного цвета полурасстегнута. Секретарша зовет его Колей. Она полная, озорная, жизнерадостная стареющая женщина.Ежов смотрел на меня острыми глазами. Я доложил о «беспризорности» ВОКСа. Он понял. Об американском институте – понял и принял к действию. О поездке жены за границу. Немедленно согласился. Обещал посодействовать и в отношении квартиры.
Аросев знал, что всеобщее недоверие обоснованно. Последняя часть его тетралогии («Зима») была посвящена «отпадению элементов, фактически чуждых нам, интересующихся больше процессом революции, чем ее результатами. Троцкисты, зиновьевцы и пр.». 22 августа 1936 года он записал в дневнике:
19, 20, 21 и сегодня все время под впечатлением дела Каменева, Зиновьева и других. В русском революционном движении наряду с чистейшими идеалистами были всегда бесы. Дегаев – бес, Нечаев – бес, Малиновский – бес, Богров – бес. Каменев, Зиновьев, Троцкий – бесы. У них больная мораль. У них дыра как раз в том месте, где должен быть моральный стержень.Политика не есть этика. Но каждый политик имеет и должен иметь моральные принципы. У «бесов» их нет, у них одни лишь политические.Третьего дня отправил письмо Кагановичу – о доверии, о помощи выехать за границу.
В письме Кагановичу он просил разрешения провести полтора месяца за границей для поправки здоровья. «Все это я написал тебе с максимальной откровенностью и предаю на твое суждение, – писал он в заключение. – Если найдешь возможным и целесообразным, помоги. Искренне уважающий тебя и преданный». Каганович (оставшийся у руля на время отпуска Сталина) был занят определением степени искренности Бухарина. Определить, бес ли Аросев, он не мог. Разрешение получено не было.
Шестого ноября курьер Аросева приехал в Народный комиссариат иностранных дел за билетами на парад на Красной площади, но билетов не нашел. Аросев письменно напомнил Литвинову и Ежову, что он был одним из руководителей октябрьского вооруженного восстания в Москве, и попросил узнать о причине отказа. (Парад он посмотрел с балкона Дома правительства.) 19 декабря «Правда» напечатала заметку «Реклама врагу» о недавно опубликованных воспоминаниях Аросева (написанных в 1920 году). Автор заметки спрашивал, почему Аросев счел нужным закончить текст упоминанием о Томском. «Откуда такое трогательное «внимание» к человеку, боровшемуся против партии в рядах ее отъявленных врагов?» В ответе, опубликованном в «Правде» десять дней спустя (возможно, благодаря Молотову, которого он попросил о помощи), Аросев признал, что упоминание Томского было ошибкой, но настаивал на истинности и достоверности воспоминаний.
Он был уверен, что за ним следят. По свидетельству дочери Воронского, «отец в эти месяцы встретился на улице со своим старым другом А. Аросевым… и тот показал ему на человека, стоящего недалеко от них. Аросев и отец были старые большевики-подпольщики и прекрасно умели разбираться в шпиках. Отец сказал, что это, вероятно, наблюдают за ним. Аросев возразил: он давно заметил наблюдение за собой, уже не первый день». Он записал об этом в дневнике. 20 декабря: «Утром гулял. За мной гуляли шпики. Их много на всех углах». 21 декабря: «Гулял утром. Шпики гонялись по пятам. Им, поди, странно, что, дескать, человек гуляет». Он написал в Политбюро, что чувствует себя «под ударами чего-то несправедливого или ошибочного». Узнав о смерти Орджоникидзе, он написал Сталину:
Может быть, оттого я потрясен был этим и оттого Вам именно хочется сказать это, что только с Серго Орджоникидзе я беседовал два раза в переломные и кризисные моменты и встретил такое глубокое и, главное, теплое понимание с его стороны, какое присуще было только ему и остается присуще в громадной степени Вам, дорогой Иосиф Виссарионович.Больна и остра утрата. Она во мне и обращает взоры к Вам. Для меня, для всех нас Серго был пример и удивление, а для Вас – боевой друг крепче брата.Примите же, Иосиф Виссарионович, эти строки как звук сердца, как не слова, а спазм дыхания.Ваш Александр Аросев
Сталин остался один. Ворошилов, Ежов и Каганович были слишком заняты, а возможно, и неспособны на глубокое и теплое понимание. Молотов все больше отдалялся. Мир товарищества превратился в борьбу за выживание. «Я уже отвык от того, чтобы кто-нибудь о другом сказал хорошее или просто неплохое. Когда один говорит о ком-нибудь, кажется, что он его кусает и жует истерзанное тело. Даже движения рта при таких разговорах отвратительны, они грызущие». Аросева обвиняли в «вельможном отношении» и призывали к большевистской самокритике. 21 марта он выступал на встрече районного актива и записал свои впечатления в дневнике.
Кричали враждебно. Щелкали зубами. Хулигански ставили вопросы. Распоясались. Будто бы рады бить старого большевика.Я отвечал на каждую реплику. Ничуть не каялся. (Разве только в том признал себя виновным, что в ВОКСе были обнаружены троцкисты.) Закончил тем, что считаю долгом говорить правду, нравится она или не нравится.Ни одного хлопка. Присутствовали Стасова и зам. Ягоды Прокофьев. Сошел с трибуны под гробовое молчание. Сразу стало холодно, будто я в классово чуждом обществе. Вспомнил слова Есенина: «В своей земле я будто иностранец».

Аросев, Гертруда и их сын Митя. Весна 1937 г.
Дочери Аросева не любили его жену Геру, а она не любила Аросева и его дочерей. «Жена заперлась в своей квартире, сказала, что хочет остаться без меня. А ведь мы стоим перед более важными трагедиями, чем семейные дела. Надо ли из-за них лишаться обоюдной возможности хоть беседовать друг с другом, тогда легче было бы перенести сознание надвигающейся трагической катастрофы». 15 апреля он складывал вещи перед отъездом в Ленинград.
Гера не хотела в течение всех последних дней говорить со мной и приходила в мою квартиру к обеду, как в ресторан. Вчера утром я сам с ней заговорил. Она проявила полное безразличие. Сказала, что теперь здорова, чувствует себя хорошо и ей совершенно безразлично, что я буду думать и что буду делать. Говорила короткими фразами. На меня смотрела, как на старую ненужную мебель…Когда я спросил: «Так, значит, конец, значит, мы свободны?», она ответила: «А чего же ты другого ожидал? Конечно, свободны…»Перед самым отъездом явилась Гера. Как всегда, злая, холодная. Без приветствий. Глаза – льдинки. Сразу в комнате стала Арктика.Она пришла только в поисках ключа от своей квартиры. Найдя его, скрылась, не вышла даже проводить меня. Я сам зашел в ее квартиру попрощаться. С улыбкой, какие бывают у некоторых мертвецов, пожала мне руку своей сухой. И я уехал.
В июне 1937 года Аросев, Гера, их двухлетний сын Митя и четырнадцатилетняя дочь Аросева Лена поехали в Сестрорецк на Финском заливе (семнадцатилетняя Наташа жила с матерью, а одиннадцатилетняя Ольга была в пионерском лагере). По дороге они остановились в Ленинграде, и Аросев оставил свой дневник у сестры Августы, которая спрятала его на дне корзины с дровами. Воспоминания Лены о тех днях начинаются 26 июня, за день до ареста Гайстера и Халатова.
В один из вечеров к нам постучались. Вошли двое молодых людей, оба военные, один из них моряк. Объявили, что приехали за Гертрудой, так как она арестована. Гера заплакала, отец, наоборот, разозлился, сказал, что не отпустит ее, что поедет с ней. Они запретили это, тогда он сказал, что им придется подождать, и вызвал из Ленинграда, из филиала ВОКСа, машину.Как ни странно, они на это согласились. Воцарилась какая-то странная, неестественная пауза. Было такое ощущение, что остановилась жизнь, вернее, из нее вырвали кусок, как из киноленты ножницами. Это длилось довольно долго. Раздался гудок машины, надо было ехать. Отец с Герой стали прощаться. Они стояли, прижавшись друг к другу, не обнимались, а просто стояли без движения. Может быть, они что-то говорили друг другу без слов, может быть, обещали… Не знаю. Они прощались. Гера встрепенулась и направилась в спальню попрощаться с сыном. Остановилась, обернулась… Я увидела ее лицо. Я запомнила это лицо на всю жизнь. Неописуемая мука. Она тихо по-немецки сказала: «Нет, я не могу. Господи, зачем ты даешь такие испытания?!» Те двое подошли к ней с двух сторон и увели ее уже как арестованную. Отец поехал за ними. Я осталась одна…
На следующее утро Аросев, Лена и Митя уехали в Москву. По приезде они отправились в Дом правительства.
Папа долго ходил по комнатам, что-то обдумывая, а потом мне сказал: «Они будут звонить, ты не открывай им дверь». Я удивилась: «Как же так? Они все равно взломают». – «Да, конечно, но мы выиграем время». Я не знаю, что он имел в виду, не могла догадаться ни тогда, ни сейчас…Отец все ходил по комнате и даже пытался шутить: «Вот, Лена, – говорил он, – сколько раз я убегал из ссылок и тюрем, а отсюда не убежишь. Зачем я взял квартиру на десятом этаже, я даже в окно не могу выпрыгнуть, очень высоко». Папа пытался дозвониться до Молотова, тот бросал трубку или молча дышал. Папа просил его: «Вяча, ты же меня слышишь, я чувствую, как ты дышишь, скажи мне хоть что-нибудь, скажи, что мне делать?» Наконец, после очередного звонка, Молотов прохрипел: «Устраивай детей», – и повесил трубку. Отец сказал: «Это все». После этого он отвез нас с Митей и няней на нашу дачу на Николину гору. Там после обеда он прилег на диванчик на маленькой терраске, снял пиджак, накрыл им голову и грудь. Я сидела рядом и не могла отойти. Может быть, я чувствовала, что вижу его в последний раз. Потом он встал и собрался уезжать. Мы попрощались, он поцеловал меня и сказал: «Аленушка, не волнуйся, я приеду утром. Будь хозяюшкой, береги Митю».
По свидетельству секретарши Аросева, он вызвал из ВОКСа машину, поехал к Ежову на Лубянку и не вернулся. Он был приговорен к расстрелу дважды: 1 ноября Молотовым, Сталиным, Ворошиловым, Кагановичем и Ждановым (в списке из 292 имен) и 22 ноября Сталиным и Молотовым. Военная коллегия под председательством Ульриха вынесла официальный приговор 8 февраля 1938 года. Спустя два дня его расстреляли. Геру расстреляли двумя месяцами ранее.
* * *
Командир Аросева во время октябрьского восстания в Москве, Аркадий Розенгольц, разучился ходить сквозь стены. Его арестовали 7 октября 1937 года; его жену – две недели спустя. Их дочерей, четырех и шести лет, взяла к себе бабушка со стороны матери.
Другой участник Московского восстания, Осип Пятницкий, узнал о потере доверия партии на июньском пленуме. Его ближайшие соратники по Коминтерну Вильгельм Кнорин (кв. 61) и Бела Кун были арестованы во время пленума и вскоре начали давать на него показания. Пятницкий ходил взад и вперед по своему кабинету в Доме правительства. Его жена Юлия вела дневник. «Очень хотелось умереть. Я ему это предложила (вместе), зная, что не следует. Он категорически отказался, заявив, что он перед партией так же чист, как только что выпавший в поле снег, что он попытается снять с себя вину, только после снятия с него обвинения он уедет». Он несколько раз звонил Ежову, просил об очной ставке. Ночью 2 июля его вызвали в кабинет Фриновского. «Я волновалась за его страдания, легла в кабинете у него и ждала… Наконец он вошел в 3 часа утра… Это был совершенно измученный и несчастный человек. Он сказал только: «Очень скверно, Юля». Попросил воды, и я его оставила». Они переехали на дачу в Серебряный Бор. 6 июля долго гуляли вдоль реки. «Был серый дождливый день». Она сказала, что даже в случае оправдания его жизнь как большевика кончена. «Он просил меня не говорить так – очень серьезно и значительно, он сказал: «От таких слов, Юля, мне действительно лучше было бы застрелиться, но что нельзя теперь». Они зашли к дачному соседу, директору завода Особого технического бюро РККА Илье (Илько) Цивцивадзе.

Осип Пятницкий

Юлия Пятницкая

Пятницкий с сыном Владимиром (в первом ряду слева) и соседями по даче
Мы застали Илько синегубого, зеленого, со слезами на глазах.Дрожащим и тихим голосом он сказал: «Вчера меня исключили из партии» (на парткоме). Он сказал, как это произошло.Нужно было видеть Пятницкого – он о себе забыл, а был только товарищ, он убеждал Илько не волноваться так сильно, он успокаивал, он давал советы. И простились они замечательно. Илько, потрясенный и несчастный, дает ему руку. Пятница говорит: «Чего, Илько, мы не делали, не переживали ради партии. Если для партии нужна жертва, какова бы ни была тяжесть ее, я с радостью все перенесу».Сказал ли он для бодрости Илько или сам хотел освятить себе свой последний тяжелый путь… этого я не знаю, только слезы душили меня, и не было для меня святее и прекраснее человека…
Утром Юлия поехала на работу (она работала инженером в проектном бюро). Вечером шофер привез ее обратно и сказал, что на следующий день машины не будет. «Тут я поняла, что арест состоится очень скоро. Пятницкому об этом не сказала, обедали в тягостном молчании. От Пятницкого осталась только тень, он похудел наполовину. Никаких сентиментальностей не проявляла я по отношению к нему, для меня он был все эти дни какой-то особенный нездешний. Об обычном мы с ним вообще никогда не говорили (о житейских делах и обычных чувствах)». С ними был их шестнадцатилетний сын Игорь. Двенадцатилетний Владимир был в Артеке (вместе со Светланой Халатовой, среди прочих).

Машина в Первом дворе
В ту ночь за Пятницким пришли. «Не успела я встать, как в комнату вбежал высокий, бледный, злой человек, и когда я встала с постели, чтобы набросить на себя халат, висевший в шкафу, он больно взял меня за плечо и толкнул от шкафа к постели. Он дал мне халат и вытолкнул в столовую. Я сказала: «Приехали черные вороны, сволочи», повторила «сволочи» несколько раз». Второй военный сказал ей, что советские граждане «с представителями власти так не обращаются». Она дрожала всем телом. «Были минуты или секунды, я не знаю, когда я ничего не видела, что было в эфире, но потом возвращалась… Одно сознание, что больше его никогда не увижу, и страшное сознание бессилия и праведности его жизни, беспрестанное служение делу рабочего класса, и эти люди – молодые, грубые, толкавшие меня…»
Пятницкий пришел и сказал: «Юля, мне пришлось извиниться перед ними за твое поведение, я прошу тебя быть разумной». Я сразу решила не огорчать его и попросила прощения у этого «человека», он протянул мне руку, но я на него не смотрела. Я взяла две руки Пятницкого и ничего не сказала ему. Так мы простились. Мне хотелось целовать след его ног…Я решила дождаться… крепиться. Игоря все не было.Пришел Игорь, он сразу догадался. Я сказала, папа увезен, просила его лечь в папиной комнате, но он ушел к себе наверх. Ночь я не спала. Не знаю, кто спал. Было очень нужно умереть.
Семье – Игорю, Юлии и ее отцу (бывшему священнику, которого все называли дедушкой) с женой и дочерью – велели вернуться в Москву и переехать в бывшую квартиру Радека. Было очень жарко. Через открытые окна слышался непрекращающийся стук насоса (перестраивали Большой Каменный мост).
Я выяснила, что горе имеет какой-то запах, от меня и от Игоря одинаково пахнет, хотя я ванну принимаю каждый день, от волос и от тела. Вчера я даже подушила комнату, но пришла бабушка с папиросой гладить рваные наволочки для дедушки, который принимал ванну. Игорь гладил ему простыни.
* * *
Третьего июля, в день ареста Аросева и очной ставки Пятницкого, Политбюро распространило программу «изъятия» на кулаков и уголовников. Под ударом оказались не только «ответственные квартиросъемщики» и их семьи, но и домработницы, полотеры, маляры, прачки, вахтеры и уборщицы подъездов. Немецкая и польская операции, начавшиеся 25 июля и 11 августа, добавили новых потенциальных врагов. Среди них был бывший представитель Компартии Польши при исполкоме Коминтерна Вацлав Богуцкий (кв. 342), чья реакция на известие об убийстве Кирова произвела такое сильное впечатление на его сына Владимира. Богуцкий был арестован 2 сентября. Владимира отправили в детский дом.
Пятнадцатого августа Ежов издал приказ № 00486 о репрессировании «жен осужденных изменников родины и тех их детей старше 15-ти летнего возраста, которые являются социально опасными и способными к совершению антисоветских действий». Женщины подлежали заключению в лагеря сроком на пять или восемь лет; «социально опасные дети» – отправке в лагеря, исправительно-трудовые колонии или детские дома особого режима («в зависимости от их возраста, степени опасности и возможностей исправления»). Дети, не представлявшие опасности, направлялись на работу, на учебу или в обычные детские дома. «В том случае, если оставшихся сирот пожелают взять другие родственники (не репрессируемые) на свое полное иждивение – этому не препятствовать».
Большинство жен арестованных квартиросъемщиков – Мороза, Трифонова, Гайстера, Халатова, Воронского, Шумяцкого, Пятницкого и Богуцкого – были арестованы в соответствии с этим законом. Анну Ларину в июне сослали в Астрахань, а в сентябре приговорили в восьми годам лагерей. Ее сына отправили в детский дом; первую жену Бухарина, Надежду Лукину, арестовали в Доме правительства 30 апреля 1938 года и расстреляли два года спустя. В Астрахани Ларина встретилась с женами и детьми Тухачевского и Якира. С женой Радека, Розой Маврикиевной, она разговаривать отказалась. Когда спустя месяц их обеих арестовали, Ларина получила от нее записку: «Знай, что с Н. И. все будет то же самое – процесс и лживые признания». В лагере Ларина подружилась с Софьей Михайловной Авербах (сестрой Свердлова, матерью Леопольда Авербаха и тещей Генриха Ягоды), которая получила два письма от восьмилетнего внука Гарика из детского дома. В первом (согласно Лариной) он писал: «Дорогая бабушка, миленькая бабушка! Опять я не умер! Ты у меня осталась одна на свете, и я у тебя один. Если я не умру, когда вырасту большой, а ты станешь совсем старенькая, я буду работать и тебя кормить. Твой Гарик». Второе было короче: «Дорогая бабушка, опять я не умер. Это не в тот раз, про который я тебе уже писал. Я умираю много раз. Твой внук».
В конце 1938 года Ларину перевели на Лубянку. Одной из ее сокамерниц была стенограф ЦК и начальник политуправления Главсевморпути Валентина Остроумова (из кв. 436), другой – Наталия Сац, которая «походила на щупленькую девочку… с седой головой» и все время повторяла: «Где мой Вейцер, неужто погиб мой Вейцер?»
Наталия Сац провела лето 1937 года в совнаркомовском санатории в Барвихе; много гуляла, каталась на лодке, дружила с Рубеном Симоновым из вахтанговского театра, а по вечерам слушала, как Станиславский читает главы из книги «Работа актера над собой». 21 августа ее вызвали к новому заместителю председателя Комитета по делам искусств, Науму Рабичеву. Вейцер прислал за ней машину (у нее была своя, но его была лучше). В приемной Рабичева сидел какой-то «скромный шатен», но первой вызвали ее.
Вхожу. Он встречает меня, кивком головы приглашая сесть напротив него. Товарищ Рабичев маленького роста. Он почти тонет в большом, не по росту, кресле. Разговор начинается сугубо официально: начальник просит меня доложить репертуарный план театра. Отвечаю охотно: наши планы продуманны и, как мне кажется, интересны.Перед начальником – блокнот. В правой руке – карандаш. Но он ничего не записывает. Смотрит как-то мимо меня. Безразличным голосом «цедит» еще один-два вопроса.И вдруг я замечаю его левую руку. Она лежит на столе поодаль от правой, маленькая, и на ней… шесть пальцев. Меня вдруг охватывает страх. Не может быть. Да! Раз, два, три, четыре, пять, шесть! Шесть! Так не бывает. Не иначе, волнение сбило меня с ног и поставило на голову.Начальник больше ничего не спрашивает, прощается:– Продолжайте дальше ваш отпуск…
В приемной скромный шатен сказал, что необходимо прояснить некое недоразумение, и отвез ее на Лубянку. Вейцера арестовали два месяца спустя. Наталию Сац приговорили к пяти годам в лагере для членов семей изменников родины.

Наум Рабичев
Прошло пять лет с тех пор, как Рабичев опубликовал статью о контрреволюционных подонках, три недели со дня ареста его ближайшего друга, начальника Военно-политической академии Бориса Иппо, и несколько дней после отъезда его сына Владимира в Иркутское авиационное училище (а не на истфак МГУ, как хотел Владимир, потому что Рабичев считал, что сын избалован и нуждается в дисциплине). Главной заботой Рабичева – как зампредседателя Комитета по делам искусств и директора Музея Ленина – была подготовка к празднованию двадцатилетней годовщины революции и достойное изображение Ленина на сцене и на экране. 15 января 1938 года председатель Комитета Платон Керженцев был уволен и, по неподтвердившимся слухам, арестован (в частности из-за эпизода с участием Сталина в спектакле «Человек с ружьем» в Театре Вахтангова). 21 января Рабичев выступил с речью по случаю тринадцатой годовщины со дня смерти Ленина. 24 января он застрелился в своем кабинете в Доме правительства. Его жена и теща были дома.
Наталью Рыкову, как и Анну Ларину, сначала отправили в ссылку (в Томск), а потом арестовали. Она выехала из Дома 27 сентября, через четыре дня после ареста Ивана Кучмина, прототипа Алексея Курилова из «Дороги на Океан» Леонида Леонова. Семью Кучмина – жену, сестру жены и двух детей – сослали в Ярославль, где они ночевали в подъездах, пока жена Кучмина, Стефания Архиповна, не нашла работу в отделе народного образования. Начальник Кучмина, глава Центрального управления железнодорожного строительства СССР и бывший директор Березниковского химкомбината Михаил Грановский, был арестован несколькими часами ранее (вскоре после возвращения из Сочи). По воспоминаниям его сына Анатолия, которому в 1937 году исполнилось пятнадцать лет:
5 ноября 1937 года отец вернулся с работы около одиннадцати ночи – раньше, чем обычно. Он принес билеты на парад 7 ноября и приглашение на торжественное заседание в Большом театре по случаю двадцатой годовщины революции 6 ноября, в день его рождения.Усталый после рабочего дня, он налил себе рюмку водки и мы – я, мама и мой брат Валентин – подняли тост за его день рождения, который должен был начаться через несколько минут. Мы дождались полуночи и легли спать.В четыре утра нас разбудил громкий стук в дверь.
После обыска Грановского увели, а семью переселили в квартиру 416 этажом ниже, где жило несколько семей арестованных. По воспоминаниям Анатолия:
Мама, которая всегда была красивой и моложавой, вдруг превратилась в жалкую старуху. Она весь день неподвижно сидела на жестком стуле, сложив руки на коленях и не произнося ни слова. В ее застывшем молчании было что-то ужасное. Казалось, что внутри нее что-то происходит, как когда в коконе из гусеницы рождается бабочка. Только она сначала была бабочкой.
Сослуживец Кучмина и Грановского, начальник грузового управления наркомата путей сообщения и заместитель Кагановича Семен (Сюня) Гайстер из квартиры 98, был арестован на два месяца раньше. По воспоминаниям его племянницы Инны Гайстер:
После папиного ареста Сюню выгнали с работы и исключили из партии. Он сидел дома и дожидался ареста. Потом мне ребята с их двора рассказывали, что весь подъезд слышал, как его тащили по лестнице и он дико кричал: «Лазарь Моисеевич! Лазарь Моисеевич, разве вы не знаете об этом? Лазарь Моисеевич, заступитесь за меня!»
* * *
Жена и дети Осинского провели лето 1937 года на озере Валдай – ловили рыбу, ходили в походы, катались на байдарке и спали на сеновале у хутора, который сняла сестра Осинского Галина. Вале было пятнадцать лет, Рему четырнадцать, Светлане двенадцать. Двадцатипятилетний Дима приехал с беременной женой Диной. К всеобщему удивлению, к ним присоединился Осинский. «Это было событие», – пишет Светлана.
Приехал с работой, со своей высшей математикой. Все засуетились: где же он будет работать и где спать? Спал он тоже на сеновале, а днем, как ни странно, почти не работал, а гулял с нами.Сохранилась маленькая любительская фотография, где запечатлены папа и я во время поездки на остров, где еще сохранялся тогда действующий монастырь. Мы оба сидим, подняв колени, я босиком, обхватила коленки руками и, прищурившись от яркого солнца, смотрю на снимающего. На голове у меня шляпа с широкими полями, купленная на Валдайском рынке. Папа, как всегда летом, во всем белом, на ногах белые туфли. У него была мучительно нежная кожа, и к тому же он страдал экземой. Тоже щурится в своем пенсне, уши чуть оттопыренные, маленькие усики, руки сцеплены под коленями. Он не обнял меня, я не придвинулась к нему, каждый сам по себе. Я так хорошо помню эту минуту! Я была счастлива, что фотографируюсь с ним, с этим далеким, не очень-то доступным отцом, который снизошел до того, чтобы поехать с нами на остров и даже снялся не с Валей, а со мной! Я чувствовала себя уже большой и приближающейся к нему. Я совсем не помню содержания наших разговоров в то лето. Но ощущение, что он впервые обратил на меня внимание, чувство только-только зарождающейся дружбы между нами осталось навсегда.
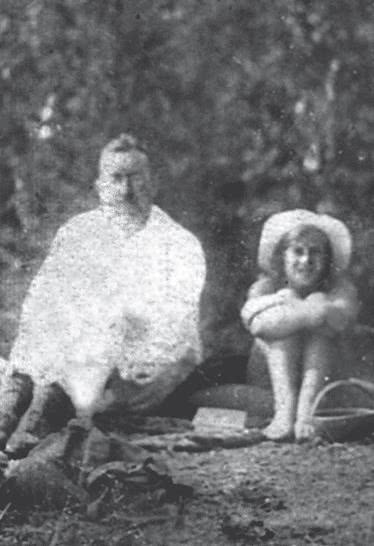
Осинский с дочерью Светланой на озере Валдай. Предоставлено Еленой Симаковой
Вскоре после их возвращения в Дом правительства Дина родила мальчика, которого назвали Ильей. Светлана, Валя и Рем пошли в школу.
Папу арестовали в ночь на 14 октября 1937 года, в ту же ночь вместе с ним увели и Диму. В последний раз я видела его вечером накануне ареста, когда он вместе с мамой зашел к нам в комнату попрощаться на ночь. Помню, я стала просить купить мне какие-то носки до коленок, какие были у кого-то из девочек в школе. Папа, присевший у стола, рассеянно слушал с иронической улыбкой, совершенно не относившейся к делу.
Агенты НКВД открыли дверь своим ключом. Светлана спала, но, по словам Дины, «ночью мама, спавшая в своей комнате, на противоположном от папиного кабинета конце коридора, проснулась от вспыхнувшего в прихожей яркого света. Она выбежала туда полуодетая, не понимая, что происходит. К дверям вели отца. «Прощай! – крикнул он, – продавай книги, продавай все!» Светлана проснулась после того, как Осинского и Диму увели.
В комнате горел свет, казавшийся необычно ярким и голым, братья сидели в постелях и с непроизвольным тупым вниманием следили за действиями двух-трех человек, рывшихся в наших детских книгах. «Тихо, – сказала мне мама, – лежи тихо, папу и Диму арестовали». Я замерла, подавленная полупонятными словами, тоже села и принялась следить за обыском. Агенты вели его тщательно, не торопясь; пролистывали или перетряхивали каждую книгу и с удовлетворением разглаживали и складывали на столе попадавшиеся в книгах бумажки – записки, должно быть. Находки вызывали у них радость. Потом стали выдвигать ящики наших столов, перерыли в них все и завершили обыск тем, что, не предлагая нам встать, подняли на каждой кровати матрац с двух сторон – в головах и в ногах, проверяя, очевидно, не спрятано ли что-то и здесь. Мама сидела с каменно-презрительным выражением и, когда они вышли, встала, потушила свет и вышла из комнаты. Мы молчали немо. Я заснула.

Светлана (справа) с Диной и Ильей вскоре после ареста родителей. Предоставлено Еленой Симаковой
Через три дня пришли за мамой. Несколько месяцев спустя пришли снова.
Им нужно было взять костюм для отца и книги для него. Список книг – русских и иностранных – был написан его рукой. Пришедшие попытались найти то, что им было нужно, но не смогли. По телефону, висевшему у нас в коридоре, они позвонили куда-то, и на том конце провода с ними говорил сам папа! Объяснил, где искать книги. Но все же им пришлось позвать нас на помощь. Мы с Валей вошли в ту большую комнату, где четыре месяца назад сидели рядом с папой на огромном диване, и он читал нам «Накануне» Тургенева, где как-то вечером я потихоньку со страхом разглядывала иллюстрации Доре к «Божественной комедии», а папа, застав меня за этим занятием, не рассердился (хотя нам и было запрещено трогать его книги без разрешения) и сказал, что придет время и мы будем читать Данте.
Валю, Рема и Светлану отправили в детдом. Дину сослали в Харьков. Илью вырастила бабушка.
* * *
Осинский стал отшельником – или думал, что стал им, – после февральско-мартовского пленума 1937 года, когда Постышев, среди прочих, потребовал, чтобы он объяснил свое молчание. Постышев тоже подвергся нападкам на пленуме – за семейственность, администрирование и зажим критики, – но получил еще один шанс и должность первого секретаря Куйбышевского обкома. (Его жену, главного украинского идеолога Татьяну Постоловскую, исключили из партии.) В Куйбышеве он не сразу сориентировался, и срочно прибывший из Москвы член Политбюро А. А. Андреев вынужден был лично донести до него серьезность положения. В ответ Постышев исключил 3300 членов партии и распустил тридцать пять из шестидесяти пяти райкомов. Согласно его заместителю: «У т. Постышева стиль появился другой. Он везде и всюду начал кричать, что нет порядочных людей, что много врагов… У нас в течение двух недель все секретари городских и весь аппарат райкомов в городе Куйбышеве бегали с лупами. Т. Постышев показал пример – вызвал к себе представителей райкомов, взял лупу и начал рассматривать тетради. Потом у всех тетрадей оборвали обложки якобы потому, что на обложках находили фашистскую свастику или еще что-либо. Дошли до того, что стали находить фашистские значки на печеньях, на конфетах карамель и на других предметах».

Постышев и Постоловская
В январе 1938 года Сталин приостановил чистку местных руководителей (одновременно усилив массовые операции, за проведение которых они отвечали). Постышева обвинили в преследовании честных коммунистов, сняли с поста первого секретаря обкома и передали «в распоряжение ЦК». По воспоминаниям его сына Леонида (который незадолго до того поступил – по протекции Ворошилова – в Борисоглебское летное училище), Постышев был рад, что относительно легко отделался, и уверен в скором назначении заместителем Молотова. На поспешно созванном январском пленуме ЦК он извинился за допущенные ошибки, но продолжал, в соответствии с полученными в Куйбышеве указаниями, настаивать на том, что большинство партийных и советских руководителей оказались врагами. В ответ на насмешки и обвинения присутствующих («получается, что нет ни одного честного человека») он заговорил об искренности, но ему напомнили, что не всякая искренность заслуживает доверия. В конце обсуждения он снова попросил слова.
Я, товарищи, только одно могу сказать, что я признаю целиком и полностью свою речь, которую я произнес здесь, неправильной и непартийной. Как я произнес эту речь, я и сам понять не могу. Я прошу пленум ЦК простить меня. Я никогда не был не только с врагами, но всегда боролся против врагов, я всегда вместе с партией дрался с врагами народа от всей большевистской души и буду драться с врагами народа от всей большевистской души. Я ошибок наделал много. Я их не понимал. Может быть, я и сейчас их еще не понял до конца. Я только одно скажу, что я речь сказал неправильную, непартийную и прошу пленум ЦК меня за эту речь простить.
Его вывели из числа кандидатов в члены Политбюро (заменив Хрущевым). Месяц спустя Комитет партийного контроля нашел, что многие члены партии, исключенные им как враги, – честные коммунисты, а многие члены партии, которых он сохранил как честных коммунистов, – враги. Постышева вывели из ЦК и исключили из партии. Спустя день или два, когда Леонид приехал домой на побывку, отец сказал ему, что их с матерью скоро арестуют и что его, Леонида, скорее всего, тоже арестуют (и что в этом нет ничего страшного, потому что в тюрьме он узнает жизнь и познакомится с простыми людьми). Следующей ночью, 21 февраля, Постышева арестовали. Через несколько часов арестовали его жену, а потом двух братьев Леонида. Леонид пошел на прием к прокурору, и тот сказал ему, что его самого вот-вот арестуют. Леонида арестовали в 1942 году.
* * *
Сергей Миронов въехал в Дом правительства через две недели после ареста Постышева. Одним из его новых соседей был Роберт Эйхе, который полгода назад стал наркомом земледелия и въехал в квартиру 234. Неизвестно, общались ли они в Доме правительства. 29 апреля 1938 года, примерно через три недели после приезда Миронова, Эйхе и его жена, Евгения Евсеевна Рубцова, были арестованы.

Константин Бутенко
Другой западносибирский руководитель и соратник Миронова и Эйхе, директор Кузнецкого металлургического комбината Константин Бутенко, въехал в Дом одновременно с Мироновым. В начале января 1938 года он и его жена Софья, активистка движения общественниц, отправились из Сталинска (Новокузнецка) в Москву на сессию Верховного совета. (Ему было тридцать шесть лет, ей тридцать три; оба были выдвиженцами 1920-х.) Софья вспоминала об этом путешествии шестьдесят лет спустя:
И вот мы ехали в международном вагоне, у нас был поезд Москва – Новокузнецк скорый, и один вагон был международный всегда. Ну, потому что начальство ж все там… Ну и вот. Вот едем-едем, и вдруг ночью где-то под Омском или до Омска (это я не могу сказать, но, во всяком случае… нам тогда нужно было ехать четыре с половиной суток, а самолеты тогда не летали, тогда не было пассажирских самолетов)… Ну, и вот, и вдруг ночью стук в это купе. Ну, муж спал наверху, значит, я – внизу. Двухместное… Открываю – и стоит проводник: «Вы извините, пожалуйста, но вашему мужу срочная секретная телеграмма». A поезд мчится. Я беру эту бумажку, открываю… свет, бужу своего Костю. «Костя, – говорю: – какая-то телеграмма». А поезд идет. Он, значит, спустил ноги… И, спустивши ноги, читает: «Омская-Томская железная дорога. Международный или мягкий вагон…» Да, «совершенно секретно» – сначала. «Бутенко, директору Кузнецкого комбината. Бутенко Константину Ивановичу. Вы назначены заместителем наркома тяжелой промышленности. Срочно молнируйте кандидатуру директора. Каганович».
Пока готовили их квартиру в Доме правительства (кв. 141, где раньше жил арестованный замнаркома здравоохранения РСФСР Валентин Кангелари), они жили в трехкомнатном номере в недавно построенной гостинице «Москва». В начале апреля они переехали; Константин, Софья и племянница Софьи Тамара, которая жила с ними со времен голода 1932 года. (Семья Софьи происходила из греческого поселка Стыла под Сталино. Ее брат Иван, шахтер, был арестован в конце декабря, через неделю после начала «греческой операции»; ее брат Николай, колхозник и отец Тамары, был арестован в начале января, когда Константин получил новое назначение.) В квартире было четыре комнаты. Самая просторная стала кабинетом Константина, с большим письменным столом, рабочим креслом, креслом-качалкой и двумя шкафами. В других сделали спальню, столовую и комнату Тамары. Через полтора месяца Константина арестовали. Агенты вошли среди ночи и окружили кровать, прежде чем разбудить его. По рассказу Софьи, он улыбнулся и стал тереть глаза. «Вы Бутенко?» – Тут сразу у него лицо меняется. – «Да».
Через несколько дней Софья нашла работу в шляпной артели на Большой Ордынке. У нее не было будильника, и вахтеры, которые признали в ней бывшую крестьянку, согласились каждое утро звонить в дверь. Спустя месяц Софью и Тамару переселили в коммунальную квартиру на десятом этаже, а потом выселили из Дома. Тамара вернулась в Стылу; Софья нашла комнату в Гороховском переулке и работу в медицинской лаборатории. В их квартиру въехал бывший начальник ГУЛАГа Матвей Берман, недавно назначенный наркомом связи.
* * *
Центральный комитет Комсомола подвергся чистке дважды. В августе 1937 года тридцать пять членов и кандидатов в члены ЦК были арестованы за «политическое и бытовое разложение молодежи, в первую очередь через пьянки». Одним из новых членов был двадцатисемилетний Серафим Богачев, который въехал в Дом правительства с женой Лидией и новорожденной Наташей. За год жизни в Доме Лидия и Серафим привыкли к холоду, купили два новых ковра, нашли хорошую няню и привезли из деревни обеих матерей. Дома они бывали редко: он допоздна работал, она готовилась к экзаменам и ходила на волейбольные тренировки. 19–22 ноября 1938 года члены Политбюро созвали внеочередной (седьмой) пленум ЦК ВЛКСМ и констатировали, что решения партии не выполняются, к честным коммунистам не прислушиваются, а борьба с засевшими в руководстве врагами не ведется. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Косарев (кв. 209) признал свои ошибки, но сказал, что «никогда не изменял ни партии, ни советскому народу» и что совесть его чиста. Члены Политбюро нашли его выступление «насквозь антипартийным и лживым». «Неужели вы политический младенец, – спросил Жданов, – и не понимаете, что вы обязаны были дать ответ пленуму за все поведение бюро ЦК?» «А может это система, а не ошибки?» – спросил Сталин. Косарев не нашелся, что ответить. Не нашелся и Богачев. Неполные исповеди квалифицировалась как антипартийные; полные означали признание во вражеской деятельности. Отказ выступить против Косарева был бы воспринят как акт вредительства; готовность выступить вызвала бы подозрения относительно причин долгого молчания и внезапного прозрения. Как сказал А. А. Андреев, Богачев «во всем идет по следам небольшевистского гнилого руководства, которое имело место в ЦК Комсомола, во всем! Ничем он себя не проявил, а, наоборот, усвоил все отрицательные методы руководства Косарева».
Богачев был выведен из состава ЦК вместе с Косаревым. Он написал Сталину. В ЦК партии ему сказали ждать следующего назначения. Он воспрял духом. 27 ноября, спустя неделю после окончания пленума, они с Лидией спустились в «Ударник» посмотреть новый фильм Александра Мачерета по сценарию Юрия Олеши «Болотные солдаты» (об аресте и побеге группы немецких антифашистов). По словам Лидии, в какой-то момент она заметила, что Серафим не смотрит на экран. Она предложила уйти домой, но он сказал, что неловко выходить до окончания сеанса. Когда они вернулись в свою квартиру, он попросил ее почитать ему вслух. Она почитала «Белый клык», и они легли спать.
Муж спал у стены, к окну, а я с краю. Я проснулась оттого, что на меня смотрят. Вот смотрят на меня… В тишине… А девочка больная в это время была, я к ней вставала. Но тут я спала… Я в ужасе… Я онемела. Глаза протираю: во сне ли это, мне кажется или нет? Мне говорят: «Кто с вами спит?» Говорю: «Муж спит». Представляюсь, кто мы. «Не будите его». Меня попросили выйти оттуда. Первым долгом спросили: «Где оружие у вас? Оружие на стол!» Его спрашивают, когда он проснулся. А он оторопел. Не поймет, в чем дело. Он говорит: «У нее спросите, где оружие, я не знаю». А у него было именное, ему подарили какое-то. Ружье еще, правда, было, оно в Коломне осталось. Охотничье. Он охотился. И вот это… оружие… оно в сундуке лежало. Я достала. Сундучок был тут. Отдала оружие. Но я вообще не соображала. Мало того что я не могла кричать – у меня язык отнялся. Не могу никак в себя прийти… Страшно… Ведь я еще молодая совсем. А ему было двадцать семь лет, когда мы поженились, а в это время ему было двадцать восемь.
Один из агентов, оставшихся в квартире после обыска, разговаривал с ней дружелюбно. «Он сказал: «оденься». А я ходила в ночной рубашке. Ничего не понимала. Первые две буквы усваивала, а остальное – нет. Мама все ходила с моим халатом, чтобы меня одеть». Через несколько дней они уехали в Коломну, где Лидия получила работу чертежницы на заводе.
17 ноября 1938 года, за два дня до пленума, Политбюро упразднило внесудебные тройки и прекратило массовые операции. Неделю спустя (за два дня до ареста Богачева) Ежов был снят с поста наркома внутренних дел.
Узнав об отставке Ежова, Анатолий Грановский, которому недавно исполнилось шестнадцать лет, пошел в НКВД на Лубянке узнать, будет ли пересмотрено дело его отца. Ему указали на дверь. На следующий день он отправился на Красную площадь и стал ходить взад и вперед перед Мавзолеем. Когда сотрудник НКВД в штатском спросил его, что он делает, он сказал, что, если его арестуют, у него появится возможность поговорить с товарищем Берией. Его отвезли на Лубянку, избили и обвинили в планировании покушения на членов Политбюро.
27. Хорошие люди
Все смешалось в Доме правительства. Жильцов выселяли, вселяли и снова выселяли. Семьи арестованных сселяли в освободившиеся квартиры и переселяли в другие дома. Комнаты опечатывались, заселялись и снова опечатывались. По положению на 10 мая 1938 года шестьдесят восемь квартир (162 комнат общей площадью 3051,46 кв. м) использовались для размещения семей арестованных жильцов; 142 квартир были опечатаны НКВД. Комендант Дома В. А. Ирбе и начальник Хозяйственного управления ЦИК Н. И. Пахомов были арестованы. Инспекция, проведенная после ареста Пахомова, обнаружила, что отчеты систематически фальсифицировались, акты вредительства игнорировались, бараки для рабочих разваливались, чиновники незаконно обогащались, а квартиры в Доме правительства ломились от подлежащих выселению жильцов. Почти все чиновники Хозяйственного управления и директора домов отдыха были арестованы, половина бухгалтеров и рабочих склада уволены. Емельян Ивченко, который уговорил ленинградку Анну Чешеву выйти за него замуж ради московской прописки, был выдвинут на должность политрука охраны Дома. (Примерно тогда же Анне и Емельяну сказали, что их сына Владимира, который умер от воспаления легких в 1936-м, убили кремлевские врачи.) Летом 1938 года, вскоре после ареста Пахомова, Ивченко был назначен начальником этапа, направлявшегося в колымские лагеря (поездом до Владивостока и оттуда пароходом в Магадан). Выполнив задание, он остался на Колыме и работал начальником ВОХР в различных лагерях (включая Ягодный). После дочери Эльзы у них с Анной родилось три сына, один из которых умер от менингита. Детей воспитывали заключенные.
Все смешалось на Болоте. По словам партсекретаря фабрики «Красный октябрь» Константиновой: «На сегодняшний день, когда вся страна кипит негодованием, на фабрике «Красный октябрь» находятся еще такие гады, которые поддерживают врагов». Задача заключалась в том, чтобы уничтожить их раз и навсегда. «У нас сейчас директором т. Шапошникова, она энергичная, сказала, что всех выгонит, и я дала согласие на треугольнике, что нужно очиститься. Я дала согласие, что эту сволочь, которая проникла на нашу социалистическую фабрику, нужно выгнать, а нашей парторганизации еще больше сплотиться вокруг нашей партии, нашего вождя т. Сталина, и тогда наша партия будет еще крепче». Через несколько месяцев Шапошникова была разоблачена как враг, а Константинова смещена со своего поста (Шапошникову расстреляли, судьба Константиновой неизвестна). Райком Ленинского района Москвы, в чьем ведении находилось Болото и большая часть Замоскворечья, пытался поспеть за арестами при помощи массовых исключений. Согласно отчету пленума райкома от 31 июля 1937 года, самыми опасными врагами оказались «люди, которым доверялась политическая агитация». Лектор, рассказывавший метростроевцам о подрывной деятельности врагов, сам оказался врагом, а райкомовский работник, выступивший на модельно-меховой фабрике с докладом «о целях и методах работы иностранных разведок», был арестован в зале сразу после доклада. Новый партсекретарь «Красного октября» не располагал информацией об исчезновении Шапошниковой и не знал, как отвечать на вопросы рабочих.

Емельян Ивченко
Учителя и администраторы школ района обсуждали необходимость посещения детей врагов народа на дому и вовлечения их в общественную работу. Учебники и учебные планы тщательно проверялись на предмет наличия тайных кодов и фашистской пропаганды. Народный комиссар просвещения Андрей Бубнов призвал давить врагов «как подлую гадину» и был арестован 17 октября 1937 года и вскоре расстрелян. В течение 1937 года 526 московских учителей и 23 директора были «освобождены от работы по политическим причинам». Как сказала заведующая Мосгороно Л. В. Дубровина: «На каком основании мы должны принять на работу в школе дочь Рыкова, которая до момента ареста своего отца жила с ним? Мы имеем все основания полагать, что она от него не отмежевалась. Мы не можем принять ее только на основании формального признака, что она окончила Институт имени Бубнова». (После ареста Бубнова институт переименовали в Ленинский.)
Процессы над шпионами и террористами широко освещались в газетах, по радио и на специальных митингах и собраниях. Во время суда над Радеком первый секретарь Ленинского райкома Д. З. Протопопов рассказал, что «одна старуха шестидесяти лет, имеющая сорокалетний производственный стаж, по-женски подходит к событиям, она с сожалением говорит, что, может быть, не надо расстреливать. А когда ее спросили, читала ли она вчера и сегодня газеты, и когда ей объяснили, о чем идет речь, то она сказала: «Если так, то я сама расстреляю». Согласно отчету секретаря парткома «Красного октября», «во всех цехах митинги прошли с большим подъемом, и все кричали о расстреле этих гадов. Когда рабочие слушали читку по радио, то у них вырывались крики проклятия этим мерзавцам и требования расстрела». Беспартийная работница Евсеева с двадцатилетним стажем сказала: «Жалко терять пуль на этих гадов, лучше бы их облить каустиком и зажечь». (Ей объяснили, что в Советском Союзе такие наказания не применяются.) На собрании сотрудников Дома правительства один из инструкторов по военной подготовке сказал: «Я был бы согласен взять командировку в капиталистические страны, разыскать Троцкого и убить его». (Ему объяснили, «что это не отвечает программе нашей партии, что мы индивидуального террора не признаем».)
Освещение суда над Радеком было коллективной импровизацией. К открытию «процесса антисоветского право-троцкистского блока» в марте 1938 года Кольцов вернулся из Испании и встал у руля.
Когда встают прохвосты, которых судебный язык корректно называет подсудимыми, когда они встают и начинают, то с прибитым видом кающихся грешников, то с цинической развязностью опытных негодяев, подробно рассказывать о своих чудовищных деяниях, – хочется вскочить, закричать, ударить кулаком по столу, схватить за горло этих грязных, перепачканных кровью мерзавцев, схватить и самому расправиться с ними. Но нет, надо сидеть и слушать. Слушать и понимать. Слушать и смотреть. Слушать, смотреть и запоминать этот последний, уходящий во мрак прошлого, страшный призрак фашизма – разгромленный, разбитый в его бессильной попытке погубить советский народ, затемнить яркое солнце советской страны.
Газетные статьи подчеркивали звериную сущность врагов («пойманные крысы», «наглые хищники», «свора кровавых собак», «чудовища в образе человека») и характерное для козлов отпущения сочетание всесилия («цепь кошмарных кровавых преступлений, каких не знает история») со слабостью («коварное, двуличное, слезливое и злое ничтожество»). Вредители жили в норах, связанных (согласно модели, разработанной Бухариным и Воронским) с подпольным миром Достоевского. Главным действующим лицом был Бухарин – «гнусненький христосик во стане грешников» и «валдайская девственница в право-троцкистском публичном доме».
Во время показательных процессов дрожащих ночных зверьков вытаскивали на поверхность и либо уничтожали на месте, либо отправляли обратно в подземелье – на этот раз в осушенную, надежно огражденную его часть. «Лишь выйдя из зала суда, отряхнув от себя кошмарную паутину злодейских признаний, глотнув свежего воздуха шумной, вечерней, звонкой Москвы, – писал Кольцов в «Правде», – вздыхаешь свободно, приходишь в себя».
Все новости о кампании против антисоветских элементов – в газетах, по радио, на специальных собраниях и митингах – касались публичной, тщательно отрепетированной ее части. Сама кампания проводилась в подполье и оставалась тайной. Большинство арестов, обысков и расстрелов происходили по ночам. Членам семей не говорили, где находятся их родственники, и они переходили из тюрьмы в тюрьму в надежде, что у них возьмут передачу. Расстрелы назывались «десять лет без права переписки». Места казней скрывались (а на территории, подведомственной Сергею Миронову, маскировались дерном). Обвиняемым не сообщали об «операциях» и индивидуальных решениях, которые привели к их аресту. Следователям надлежало выкинуть из головы цифры по арестам и расстрелам, «кому же это не удастся, он должен совершить над собой насилие и все-таки их из головы выкинуть» (как выразился Сергей Миронов). Массовые депортации, в том числе целых этнических групп, производились тайно и оставались неизвестными шумной, звонкой Москве.
В самой Москве охота велась шумно и одновременно тайно. Искать врагов надлежало повсюду, но замечать можно было немногих. В книгах и кинофильмах действовали шпионы; на дверях соседей висели печати. В поэме «Садовник» (посвященной «Вождю. Товарищу. Сталину») Абулькасим Лахути из квартиры 176 писал, что ради жизни молодой лозы необходимо срубить старые стволы. В поэме «Мы победим» он призывал к бдительности:
Война недалеко. Глядеть нам зорко нужно!
С возней двурушников покончить надо дружно,
От внутренних врагов свой дом освободить,
Подобно ГПУ нам стражей быть бессменной.
Да! Почему нам всем чекистами не быть,
Когда любой наш враг вокруг кропит изменой.
Но писать (и говорить) о том, в чью четырехкомнатную квартиру он недавно въехал и от каких еще врагов освобожден его дом, он не мог. Врагов разоблачали и наказывали; соседи бесследно исчезали. Обобщенные шпионы и террористы прятались в каждой квартире; определенные народы и наркомы не существовали в природе.
* * *
Самой распространенной реакцией на аресты и исчезновения было молчание. Даже о показательных процессах говорили редко. Жители правительственной части Дома правительства не сомневались в вине подсудимых, но воздерживались от упоминаний о них в рамках ритуальной самозащиты от нечистой силы. Дети и очень старые большевики задавали вопросы, на которые никто не отвечал. В тюремных очередях родственники арестованных, по воспоминаниям Ирины Муклевич, «старались не разговаривать и не узнавать друг друга. Стояли сотни людей в не очень большом помещении, но было тихо и напряженно. Каждый думал о своем горе, как на похоронах».
В последний день процесса Каменева – Зиновьева Аросев (находившийся в доме отдыха «Сосны» на Москва-реке) сделал запись в дневнике.
Сегодня в газетах приговор Каменеву, Зиновьеву, Панаеву, Мрачковскому, Евдокимову, Тер-Ваганяну, И. Н. Смирнову, Рейнгольду, Гольцману, М. Лурье, Н. Лурье, Дрейцеру, Ольбергу, Перману-Юргину – всех расстрелять.Третьего дня застрелился Томский М. П.Сегодня Аралов мне сказал, что отравился товарищ Пятаков, но будто бы неудачно, его свезли в больницу.Никто ничего не говорит. Спокойно разговаривают:– Вы сегодня купались?– Нет, я принимал душ.На другом конце стола:– Вы играете в теннис?– О, да.Еще кто-то:– Вот малосольные огурчики, замечательные.
Аросев ограничился замечанием, что Каменев и Зиновьев – «бесы». Пять месяцев спустя, в последний день второго московского процесса, он перечислил приговоры, переписал длинный отрывок из статьи Фейхтвангера в «Правде» и согласился с автором, что «только перо большого советского писателя может объяснить западноевропейским людям преступления и наказание подсудимых». Сам Аросев работал над романом в «форме протокола допросов». Только «посредством художественного впечатления, – писал он, – можно объяснить зигзаги, какими люди пришли от революции к ее противоположности». И только большой советский писатель мог воплотить эпоху «в образах предельного обобщения». Одним из обвиняемых на процессе был Николай Муралов, которого Аросев по приказу Розенгольца назначил комиссаром Московского военного округа 2 ноября 1917 года.
Другой распространенной реакцией была попытка очиститься. Некоторые жители – в основном женщины – жгли книги и письма, вырезали лица из фотографий, меняли фамилии детей и избегали обреченных соседей и родственников. Как всегда в борьбе с нечистой силой, практическая предосторожность сочеталась с попыткой спастись при помощи волшебного круга. Некоторые собирали нужные в тюрьме вещи и ждали стука в дверь. Бывший начальник Главлита, а ныне первый заместитель наркома просвещения Борис Волин держал за диваном чемоданчик с теплой одеждой. Его жена сожгла семейный архив. Осенью 1937 года с ним случился инфаркт, и его положили в Кремлевскую больницу. Вернувшись три месяца спустя из Барвихи, где он восстанавливался после лечения, Волин не нашел большинства соседей и сослуживцев. Бывший председатель Книготоргового объединения Давид Шварц ночами стоял у окна. По воспоминаниям его сына, «окно выходило во двор. И если во двор заезжал «черный ворон», отец начинал одеваться».
Попытки самоочищения и готовность к самопожертвованию сопровождались бдительностью по отношению к ближним. Спустя два с половиной месяца после убийства Кирова Борис Волин информировал местные отделения Главлита о том, что «на Изофронте обнаружены умело замаскированные вылазки классового врага».
Путем различного сочетания красок, света и теней, штрихов, контуров, замаскированных по методу «загадочных рисунков», протаскивается явно контрреволюционное содержание.Как замаскированная контрреволюционная вылазка квалифицирована символическая картина художника Н. Михайлова «У гроба Кирова», где посредством сочетания света и теней и красок были даны очертания скелета.То же обнаружено сейчас на выпущенных Снабтехиздатом этикетках для консервных банок (вместо куска мяса в бобах – голова человека)…Исходя из вышеизложенного – ПРИКАЗЫВАЮ:Всем цензорам, имеющим отношение к плакатам, картинам, этикеткам, фотомонтажам и проч., – установить самый тщательный просмотр этой продукции, не ограничиваться вниманием к внешнему политическому содержанию и общехудожественному уровню, но смотреть особо тщательно все оформление в целом, с разных сторон (контуры, орнаменты, тени и т. д.), чаще прибегая к пользованию лупой.
В разгар борьбы со скрытыми врагами лупа использовалась всеми и повсюду. 27 июля 1937 года (в день ареста Пятницкого) Александр Серафимович получил письмо от старого товарища, Мирры Готфрид. Она просила номер телефона главы Союза писателей, В. П. Ставского. Ей нужно было поговорить с ним о повести Давида Бергельсона, которую она переводила с идиш на русский язык.
В процессе работы над переводом я вскрыла мелкобуржуазную сущность произведения, а трех встреч достаточно было, чтобы и кое-что серьезное вскрыть и о самом авторе беспокоит это меня ужасно мне необходимо повидать т. Ставского Поверь что я ведь не зря тебя беспокою. Мои наблюдения серьезны и его надо этого писателя здорово проверить. Напиши Ставскому что бы он меня выслушал. Ты ведь знаешь, что я по пустякам не бью в набат. Горячий тебе привет. Спасибо за все хорошее. Привет сердечный Феколе. Ваша Мирра Сделай так сообщи мне телефон т. Ставского и напиши несколько слов что бы он серьезно выслушал меня что я наблюдательна и зря не стану возводить обвинения, а вот промолчать не сообщить своих наблюдений председателю союза писателей (он уже и член партийной контрольной комиссии) считаю преступным. Помоги Серафимыч. Мирра 27/7/37

Платон Керженцев
Платон Керженцев тоже не мог молчать. В начале марта 1938 года он ждал ареста после отставки из Комитета по делам искусств и самоубийства Рабичева. На второй день бухаринского процесса, на котором среди обвиняемых было три врача из Кремлевской больницы, он отправил записку Молотову с копией Вышинскому.
В связи с привлечением Д. Плетенева к суду я считаю нужным напомнить обстоятельства смерти т. Ф. Дзержинского.После сердечного припадка его положили в соседней с залой заседания комнатой. Через несколько часов доктора позволили ему самому пойти к себе на квартиру. Когда он пришел и наклонился над кроватью, он упал и умер.Известно, что после сердечного припадка больному воспрещается абсолютно всякое движение (в особенности воспрещается ходить, наклоняться).Среди вызванных к т. Дзержинскому докторов был и Плетнев.Разрешив т. Дзержинскому пойти, он этим убил его…А о Казакове могу тебе сказать личный опыт – мой второй сердечный припадок произошел ровно через четыре часа после первой же инъекции Казакова.Привет, Керженцев 8/3/38
Три дня спустя Феликс Кон написал своей возлюбленной, Марии Комаровой, что их свидание придется отложить из-за жары, но что в следующий раз они «возместят себе это сторицей». «Ой ли? Смогу ли! Но постараюсь… Хорошо?» Благодаря поздней любви он «ожил, помолодел». Такой же эффект произвело на него зрелище процесса антисоветского право-троцкистского блока.
Скучаю я основательно. По прочтении газет я прямо невменяем. За что боролись целые поколения, за что люди гибли на виселицах, в Шлиссельбургах, на баррикадах, в гражданской войне, чтобы эти гнусы все это предавали! Бухарин, готовящийся убить Ленина и Сталина, Розенгольц с молитвой-амулетом в кармане, готовый лично убить Сталина… Ягода. Левин… Какое-то соревнование подлецов в низости… А попытка отравить Ежова… Читаешь, и после целый день ходишь, словно тебе в душу наплевали… Но нет… Все-таки видишь, что несмотря на все их происки, фактически происки фашистов, мы идем вперед и теперь, когда на страже Ежов, дело еще лучше пойдет. Если бы не мои 74 года, я, Марочка, вызвался бы к Ежову и предложил ему взять меня в помощники. Вот уж когда у меня не дрогнула бы рука и я сам бы убил этих гадов. Я пережил много провокаций, но не подозревал, что такие гады могут существовать. Брррр!
Ефим Щаденко воспринимал борьбу с вредителями как расплату за годы унижений от «издерганных дегенератов» из «интеллигенции вообще и еврейской в особенности». Недавно он проиграл длинную тяжбу двум вышестоящим командирам и бывшим царским офицерам, начальнику Военной академии имени Фрунзе Августу Корку (кв. 389) и заместителю наркома обороны маршалу Тухачевскому (кв. 221). 17 августа 1936 года Корк писал Тухачевскому: «Состояние здоровья моего помощника тов. Щаденко чрезвычайно неблагополучно, по-моему, у т. Щаденко в любой момент может произойти припадок буйного помешательства. Прошу безотлагательно освободить т. Щаденко от работы в Академии и передать его в руки врачей». Тухачевский просьбу удовлетворил, и Щаденко провел три с половиной месяца в больнице. В мае 1937 года Корк и Тухачевский были арестованы и спустя три недели расстреляны. Их старый товарищ по оружию Ян Гамарник (Яков Пудикович) покончил с собой. Щаденко направили в Киев «ликвидировать последствия вредительства». 10 июля он писал старому однополчанину:
Так же как в годы гражданской войны надо без какого бы то нибыло сожаления уничтожать предательскую сволоч в какие бы она цвета радуги не маскировалась, какой бы левизной не блестело их гадючье шипенье…Смерть беспощадная преслужникам фашизма шпикам японо-немецкого империализма, вот наш ответ на происки и вредительство врагов народа.Я как всегда безпощаден к врагам, громлю на право и на лево и ликвидирую подлые дела вместе с их творцами.
«Ты отлично знал, – писал он 20 ноября другому старому однополчанину, – что я вел непримиримую борьбу против немецкого шпиона Корка, подлой губернаторской сволочи Тухачевского, Гамарника и всей продажной банды Троцкистско-Бухаринского блока». Но главным его корреспондентом, конфидентом и соратником была жена Мария. 18 июня он писал ей из Киева (видимо диктуя машинистке):
Милое солнышко, я так скучаю и беспокоюсь в минуты, когда я усталый, оторвавшись от работы, тащусь к своей, в буквальном смысле, солдатской койке.Работы так много, что я раньше 2-х – 3-х часов ночи не выбираюсь из Штаба. Вредительская сволочь целыми годами гадила, а нам надо в недели, минимум в месяц-два не только ликвидировать все последствия вредительства, но и быстро двигаться дальше. Трусливые негодяи, незамеченные в благодушном беспечии пребывающих «стражей», пробрались на высокие посты, разложили страну, напоили ядом сомнения казавшихся зоркими часовых и замышляли небывалое злодеяние.Хорошо, это наше счастье, что СТАЛИН сам рано заметил, почувствовал опасность приближения к нему фашистских террористических убийц и стал принимать меры, не поддался на уговоры пощадить Енукидзе (этой самой подлой и замаскированной гадине), вышвырнул его со всей бандой из Кремля, организовал новую, надежную охрану и, назначив т. ЕЖОВА – этого скромного и кропотливого работника, стал распутывать клубки и узлы фашистских замыслов о кровавой реставрации капитализма…У меня так много работы, но мне так легко работать, т. к. я чувствую теперь, что я вырвался на творческий боевой простор к массам, а главное, что я чувствую, что подлинно великий СТАЛИН, снова может убедиться в моем умении и самоотверженности, с которой я работал на его глазах во время гражданской войны.Крепко, крепко обнимаю тебя и целую, мое милое солнышко, скоро я буду в Москве, не позднее первой половины июля, и постараюсь забрать к себе мое милое родное семейство.
В ноябре он вернулся в Москву в качестве заместителя наркома обороны по кадрам. Мария, если верить соседям, тоже страдала от буйного помешательства. По воспоминаниям Майи Агроскиной (Дементьевой) из квартиры 17, однажды она ворвалась к кому-то в квартиру «в одной комбинации с пистолетом». По воспоминаниям Руслана Гельмана из квартиры 13:
Жила она в огромной сдвоенной квартире с какой-то обслугой. Временами она показывалась на лестничной площадке, и это впечатляло. Высокая, дородная баба с пронзительным, грозным взглядом. Вспомните картину Сурикова /sic / «Царевна Софья»… так вот это ее портрет, как будто писалось с нее. А если прибавить к этому черное длинное платье, подпоясанное солдатским кожаным ремнем, и за ремнем заткнут столовый нож, а ее рука на рукоятии… Было на что поглядеть! В качестве развлечения она выставляла на лестничную площадку стул, на котором ваза с фруктами и дамская сумка, туго набитая, из которой высовываются денежные купюры большого достоинства. И стоял этот стул по несколько дней. А однажды посетила нас. В тот момент в квартире был только я и домработница, молодая девчонка, которая панически ее боялась. Когда я открыл дверь на звонок, эта работница кинулась в ванну и заперлась там. Вошла грозная царица, правда, на сей раз без ножа, но со свитой, молодой парень в полувоенной форме. Видно, приставлен присматривать, но не смел перечить и удерживать. Долго она осматривала квартиру и даже обмеряла что-то и несла при этом сущий бред, но в конце концов удалилась, пригрозив на прощанье.

Илья Репин «Царевна Софья»
* * *
Мария Денисова делала дома то же, что ее муж делал на работе. Обоих обвиняли в буйном помешательстве; правоту обоих доказывали ежедневные разоблачения «чудовищ в образе человека».
Кто следующий? И кто на самом деле безумен? После ареста ее семнадцатилетнего сына Игоря Юлия Пятницкая начала бояться собственных мыслей. «Буду ждать, пока есть немного разума и много любви. Но предвижу страшные для моего сердца пытки в дальнейшем».
Самыми страшными пытками были мысли о душе ее мужа. Прошло семь месяцев со дня его ареста. «Кто же он? – писала она в дневнике. – Если профессиональный революционер – такой, как он о себе писал в книге; такой, каким я его видела в течение 17-ти лет, – то с ним произошло несчастье». А если нет? Что, если он – чудовище в образе человека?
Очевидно, Пятница никогда не был профессиональным революционером, а был профессиональным мерзавцем – шпионом или провокатором, как Малиновский. И потому так жил он и был таким замкнутым и суровым. Очевидно, на душе было темно, пути иного не было, как ждать, когда его раскроют или когда он сумеет удрать от кары.А все мы – я, жена, и дети – для него не имели особого значения. Теперь другой вопрос: кому же он служил? И почему? Начал потому, что было трудно портняжить – неинтересно, начал входить в революционную борьбу и как-то под влиянием трусливого характера перешел в провокаторы… Как он перешел, когда что-нибудь, наверное, узнали, так застала революция, понял, как хороша настоящая борьба за социализм, но разведка, очевидно, не дала работать, и он все годы работал на контрреволюцию, окружив себя подобными себе. Так тоже может идти жизнь Пятницкого. Но кто он был – тот или этот? Неизвестно мне, и это мучительно. Думаю о первом – невыносимо жалко, хочется погибнуть или бороться за него. Думаю о втором – невыносимо отвратительно, грязно, хочется жить, чтобы видеть, что их всех переловили – ничуть не жалею. Способна плюнуть ему в лицо, назвать его именем «шпион». Наверное, так же относится и Вова.
Их двенадцатилетний сын Вова мечтал стать снайпером и пограничником. «Эх, мать, ну и сволочь же отец, – сказал он однажды. – Только испортил все мои мечты. Правда, мать?» 25 февраля 1938 года он весь день читал книгу о Красной армии, а вечером сказал: «Жаль, что папу не расстреляли, раз он враг народа».
Юлия не нашлась, что сказать.
В глубине моего сознания, в моем самом сокровенном «я» нет чувства недоверия к этому человеку. Он не может быть врагом той партии, дороже которой у него ничего не было. Он не может быть врагом пролетариату, интересам которого он отдал всю свою жизнь, все свое уменье. Ты еще не можешь об этом говорить спокойно. Но вот придет время, и ты будешь в этом еще уверена, и от этого должно быть у тебя легко на душе – раз ты знаешь, что он чист сердцем и помыслом своим перед партией.
Но тогда почему его арестовали? Партия и НКВД не могли ошибиться.
Я верю Пятницкому, но еще больше я верю в светлую работу Н. И. [Ежова] «Бывают и на солнце затмения», но Солнце ничто не может заменить. Партия – это солнце нашей жизни, и ничто не может быть дороже ее здоровья, и если жертвы неизбежны (и если твою жизнь скосило случайно), найди силы, чтобы остаться человеком, несмотря ни на что. Игоренюшка, мальчик мой светлый, я знаю, что ты все учтешь, если не погибнешь. Мал еще такое пережить.
Единственным способом примирить обе стороны сердца было считать арест Пятницкого необходимой жертвой. Но тогда и арест Игоря – необходимая жертва. А этого не могло быть. Значит, арест Игоря – очищающее испытание. «Насчет Игорька я думаю словами Ф. [Энгельса]: «Все, что доброкачественно, выдерживает испытание огнем. С недоброкачественными же элементами мы охотно расстанемся… День великого решения, день битвы народов приближается, и победа будет за нами». Игорь принадлежал к числу избранных и был нужен при Армагеддоне. Пятницкий оставался загадкой.
Некоторое облегчение принес процесс Рыкова и Бухарина. «Это они посеяли недоверие, вражду, наговоры, жестокость». Благодаря их разоблачению и уничтожению «будет легче дышать». 3 марта, в день, когда вышла статья Кольцова о кровавых собаках, Юлия весь день была дома.
Абсолютно нет физических сил, а днем, когда никого в квартире не было (бабушка мне принесла газету) – я вдруг очнулась от боли внизу живота, не заметила, как протанцевала танец «радости» по поводу окончательного разгрома этих «зверей», а ведь кой-кого из них я уважала, хотя уже Пятница предупредил насчет Б. Это мразь какая, и рассказал, как он стал среди всех, обросший бородой, в каком-то старом костюме на полу… И никто с ним не поздоровался. Все уже смотрели как на смердящий труп. И вот он еще страшнее, еще лживее, чем можно себе представить. Мала для этих кара – «смерть», но дышать с ними одним воздухом невозможно трудящимся. О, Пятница, не можешь ты быть с ними, мое сердце это никак не хочет принять.Если нужно так, если не распутались насчет твоей виновности, я стану на официальную точку зрения насчет тебя во всем моем поведении, я не буду никогда около тебя, но не могу я тебя видеть ни лжецом перед партией, ни контрреволюционером. А раз так, могу ли я быть в обществе свободных советских граждан? И умереть? А такое время, когда ополчаются против нас, когда последняя, может быть, решительная борьба, и в других странах советы… и детей оставить… А вот чувствую, что нет сна, вот никого не хочется видеть, ни двигаться. И страшно в шлепанцах Пятницкого (без каблуков), так нехорошо после пляски. Это первый раз такое вдохновение телу после ареста Пятницкого.
Юлия и Вова следили за процессом по газетам. Вова читал отчеты, когда приходил домой из школы, спрашивал, как убийцы готовят яд, и очень смеялся над рассказом Кольцова о том, как Крестинский попытался отказаться от своих показаний. («Блестяще ведя следствие, перекрестными допросами прокурор товарищ Вышинский загоняет облезлую троцкистскую крысу в угол. Ее писк становится все растеряннее».) По вечерам они читали «Таинственный остров» Жюль Верна. 13 марта был оглашен приговор.
Сегодня в 4 часа они будут уничтожены – эти страшные злодеи нашей родины. Они успели сплести такую большую и тонкую паутину, что ею захвачены и те, кто так же их ненавидит, как ненавидит тов. Н. И., как ненавидит их каждый сознательный и честный гражданин нашей страны. Кроме колоссального материального ущерба, они нанесли нам много моральных ран. О, нужно много еще распутывать, много думать, много уничтожить, много обезвредить вовремя, помочь вылечиться, и среди них, конечно, есть «живое мясо» партии Ленина, Сталина, страдание которых бесконечно велико, а я чувствую это так смутно. Кто заплатит за это? Кто вернет потерянные месяцы жизни, невозможность работать вместе с товарищами в такое тяжелое время? Кто ответит за такое незамужнее одиночество? Их позорная, мерзкая кровь – слишком малая цена за все это горе, которое пережила и переживает партия, а вместе с ней и все, кто хоть немного умеет чувствовать, все то страдание людей, невинно изъятых из общества, кто отдавал революции все свои силы, каплю за каплей, и кто не мог предполагать, что есть такие двуногие чудовища – кретины, кто так умел притворяться. Более страшного образа, чем Бухарин, я не знаю, и мне трудно выразить все, что я переживаю. Теперь-то их уничтожат, но от этого моя ненависть нисколько не ослаблена. Я бы хотела для них страшной казни: пусть бы сидели в клетках, специально построенных для них в музее, «контрреволюционерами», и мы бы ухаживали за ними, как за редкостными экспонатами… Это для них было бы ужасно: приходили бы граждане и смотрели бы на них, как на зверей. О, никогда бы ненависть не умерла к ним; пусть бы видели они, как мы боремся за свою счастливую жизнь, как мы дружно боремся, как мы любим своих вождей, которые не изменяют, как мы победили фашизм, а они в бездействии, кормятся, как звери, но их не считают за людей… О, проклятие вам, проклятие на веки веков.
Девятого марта Юлия пошла на прием к главному военному прокурору Науму Розовскому. Она очень нервничала и позже записала в дневнике, что «говорила неумно, не то, что нужно было сказать».
Тов. Розовский тоже очень измотан, он повышенным голосом говорил со мной, и зло, с надрывом. Так даже было его жалко, ведь я существую только, а он работает, и трудная работа у него. Как они мне близки, как бы было хорошо, если бы они мне поверили, что я готова отдать свою жизнь с удовольствием на что-нибудь полезное, а в моих устах это не должно звучать правдиво… Я знаю, что самое лучшее для меня – это смерть. – Но убить себя все же не стоит опять? Что я почувствовала у Розовского? – Выше своей личной жизни надо быть – это всегда, а особенно в моем состоянии, когда ничего для меня нет и не будет, нужно найти дело и им жить.
Такое дело существовало. Юлия нуждалась в помощи НКВД, чтобы узнать правду о муже и сыне, преклонялась перед НКВД и их трудной работой и полагалась на поддержку НКВД в борьбе с пытками сердца. Работа в НКВД была единственным шансом на исцеление. 14 апреля она снова пошла к Розовскому.
Я выразила свое намерение быть в распоряжении НКВД и военных органов. Он указал мне, что свое это желание я должна выразить письменно, не стесняясь обилием слов, чтоб было понятно. Он ничего не обещает сделать, но обещает попытаться помочь мне в этом. Письмо передать через Медведева. Наверное, он был настолько человечен со мной, насколько это допустимо в его положении. Кроме того, я почувствовала, что он сильно измучен, что он тоже много переживает. Я крепко пожала ему руку, хотя, может быть, это была излишняя сентиментальность, которую я никак не могу победить в себе, – но когда я почувствовала в нем человека, выполняющего трудную, необходимую для нашего времени работу, – я выразила этим для себя все свое уважение к этим товарищам, всю свою близость душевную к тем, кто выкорчевывает всяческую сволочь из партии.
Ее надежды не оправдались. В следующий раз Розовский был холоден и безразличен. Она начала сомневаться в том единственном, что казалось неколебимым.
Самое страшное во мне – это развивающийся процесс недоверия к качеству людей, которые ведут следствие, налагают право на арест. Конечно, я знаю, что Ежов и некоторые другие, среди них – крупные и мелкие работники – прекрасные, настоящие люди – борцы ведут необычайную, тяжелую работу, но большинство… тоже ведут тяжелую работу, как люди низкого качества: глупые, пошлые, способные на низость. Меня очень мучает, что я так настроена, но факты (то, что сама испытала, то, что вижу – отдельными штрихами, то, что приходится слышать просто случайно от знакомых, стоящих в тюремной очереди…) не позволяют настроиться иначе.
Она заговаривала с разными людьми, но они не хотели слушать. Некоторые смеялись. Ее прежний собеседник сидел в тюрьме и был причиной окружавшего ее молчания. Ее последней записью было: «Он порядочно… от меня наслушался, зато с другими болтать не было никакой потребности, да и не будет, разве только с кем-либо из НКВД. Несмотря ни на что, они ближе».
Несколько недель спустя Юлия получила работу инженера на электростанции в Кандалакше. Вова поехал с ней. 27 октября 1938 года она была арестована. Незадолго до ареста она сказала секретному сотруднику НКВД, что ее муж невиновен. На следствии дневник использовался в качестве вещественного доказательства. Ей дали пять лет и отправили в Долинский лагерь в Казахстане, где она встретилась с Игорем. Вова убежал в Москву и поселился в семье своего одноклассника Жени Логинова из квартиры 89. Три месяца спустя он понял из случайно услышанного разговора, что у отца Жени, который работал в секретариате Сталина, могут из-за него возникнуть неприятности. Он пошел в исполком Моссовета, и его отправили в детский дом.
Назад: 26. Стук в дверь
Дальше: 28. Высшая мера

