Глава 9
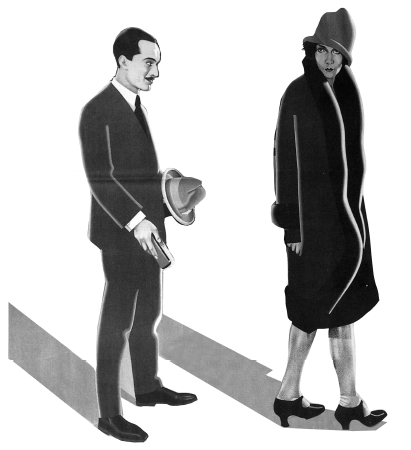
Вечерний воздух даже здесь, на улице Красных Зорь, пах рекой. Зайцев вдохнул с наслаждением. После многочасового обыска, барахтания в чужих жизнях, по всей коже щекотало мерзкое чувство, что не он, а его самого – щупали, трогали, переворачивали.
Он пропустил налитый электрическим светом трамвай. Решил идти пешком. Обдумать – вернее, выкинуть из головы увиденное, услышанное. Развеять в уличном шуме, проветрить на невском ветру.
Мысли были цепкие, кололи под теменем. «Психология…» – раздражался он на трамвай, на ветер, на прохожих, на тумбу, которая в самые глаза заорала УТЕ, но фамилия артиста закруглилась и пропала за поворотом круглого бока.
«Какая еще психология? Факты!»
Факт был в том, что фактов не было. Только психология и оставалась.
Темнело медленно. Все еще не растворился в синеве воздуха голубой купол мечети, все еще виден был золотой шпиль Петропавловки.
Но и она осталась позади. Постепенно сердце начало биться в ритме шагов. Мысли никак не развеивались.
Соседи Вари выглядели опечаленными, да. Просили: найдите, кто ее убил, – да. Но в то же время Зайцев чувствовал их молчаливое облегчение. Словно вся квартира выдохнула. Чуть ли не напевая пошла к другой клиентке Елена Львовна. Синицына могла теперь ласкать своего кошака, не опасаясь гнева хозяйки. Даже добрейший Апфельбаум летал: теперь можно принимать пациентов на дому – не в тягость госпоже. Варя была их королевой. Но любая королева – всегда тиранша. Он вспомнил слова Петрова насчет баб: думал, наказание, оказалось – освобождение. Это всё как – психология?
Впереди, на другом берегу уже росли дворцы и особняки, розовеющие в последних лучах. Поднимал свой меч нарядный легкомысленный Марс, изображавший полководца Суворова. Кусты за его спиной уже стали темно-синими.
…И письма! Еще эти письма.
Зайцев решил, что завтра непременно с Крачкиным поговорит. Что гэпэушник отвез их обратно в угрозыск, а не куда Макар телят гонял, Зайцев был уверен: арестовывать ездили численным преимуществом, а не один на четверых.
* * *
Утром на своем столе он нашел папку. Сверху лежал листок. Зайцев тут же схватил его: заключение по пальчикам соседей гражданки Берг. Сличены с образцом, снятым с крышки рояля. Совпадений нет.
– Что там? – окликнул его в спину Нефедов.
– Пальчики. Ремиз, – ответил Зайцев, развязывая тесемки папки. И умолк: письма, найденные в комнате убитой. Но ни записки от Крачкина, ни отметок на полях. Это как понимать?
– Эх, Нефедов, завидую тебе, – пробормотал Зайцев. – Воришек гэпэушных шугануть – святое дело.
– Поедемте вместе?
– Куда мне. Тут Крачкин работы подсыпал… Ты там сам, и от моего имени тоже. Хорошенько так их вздрючь. Чтоб в другой раз, когда опять тырить будут, ёкнуло у них внутри.
– Есть.
– Врешь ты, Нефедов. Скажешь: стул сюда, распишитесь здесь. Вот и вся вздрючка… Ладно, бывай.
Нефедов вышел. Зайцев снял трубку:
– Дежурный? Крачкин на выезде? Нет? Отлично.
Зайцев взял папку. Открыл наугад и тут же закрыл. Ему не терпелось узнать, что выжал из них старый сыщик.
Крачкин, не разгибая спины от стола, махнул ему рукой. Другой он наводил увеличительное стекло на образцы белого порошка: крошечные горки в ряд. Видимо, изъятый у разных торговцев кокаин.
– Чего у тебя, Вася? Минутку.
Накрыл образцы стеклянным колпаком. Выключил яркую лампу. Перед глазами у Зайцева несколько мгновений плыли голубые червячки. Он сморгнул. А когда снова прозрел, Крачкин уже увидел папку. Узнал. И теперь смотрел на Зайцева как на пустое место. То есть вежливым петербургским взглядом чуть выше бровей. «Хорошенькое начало», – не понравилось оно Зайцеву.
– Что там у тебя? – повторил, но теперь уже голос был студеный вне сомнений.
– Ты их ведь прочел?
Молчание.
– Что скажешь?
Тот же вежливый взгляд.
– Поговори со мной, Крачкин, а? – взмолился Зайцев.
– С радостью. О чем?
– Письма Варины…
– Какой Вари? – перебил Крачкин.
Зайцев опешил.
– Слушай, Крачкин. Мне до фени, что там за бумажку ты подписал, при чем здесь какой-то мемуар, был ли он вообще и кому так нехорошо нужен. Мне другое не до фени. Убита женщина. И сама она своего убийцу не найдет, к суду не приведет. Варя писала письма. Ты их прочел.
Крачкин помолчал. «Ну, – подумал Зайцев. – Ну же».
Тот помолчал. Но теперь поглядел в глаза:
– Не читал ничего такого. Откуда ты взял?
Зайцев пожелал товарищу Ревякину и всему его ведомству пузыри на зенки. Попробовал еще раз – осторожно:
– Видишь ли, Крачкин. У меня есть письма одной женщины… Имя ее не известно.
Крачкин ответил взглядом столь уничижительным, так гневно ударил ладонью по тумблеру лампы, так решительно взялся за стеклянный колпак, что Зайцеву стало совестно. «Nice try. Идиот», – мысленно обругал он себя.
– А знаешь, Крачкин, не обращай внимания!..
Но Крачкин и так не обращал: уже склонился над своими порошками в свете мощной лампы.
Зайцев вернулся к себе. Хлопнул папку на стол. Тяжко шлепнулась. Читать не перечитать. Зайцев снял трубку:
– Викентьев? Викентьев, не в службу, а в дружбу. Ты когда сменяешься?
Дежурный ответил.
– Отлично. Захвати из столовки мне пожрать? …Да когда время у тебя будет, мне тут все равно до ночи куковать. …Угу, просто стукни тогда в дверь. …Спасибо, ты человек. …И чаю! Чаю, не забудь!
После чего выдернул из телефона шнур. Положил на стул лист бумаги, карандаш – выписывать все встреченные имена, адреса, зацепки.
Плюхнулся на молескиновый диван, устроив ноги на подлокотник, и раскрыл папку.
«Мне было очень хорошо с Вами – далекой, близкой и призрачной, но более настоящей, чем кто-либо. Сегодня я глядел на круглый кофейный отпечаток на столе, и мне нравилось воображать, что это вы его оставили».
«Ишь ты, – подумал Зайцев. – А все-таки я не ошибся: хахаль». Он сразу посмотрел в конец письма. «Владимир». Ни фамилии, ни адреса. «Вот вам и монашка-затворница. Получается, выходила-приходила». Ладно.
Протянулся всем телом к стулу, записал вверху страницы: Владимир. Коряво нарисовал рядом сердечко, пробитое стрелой. Снова откинулся на скрипнувший валик и принялся читать дальше.
Папка постепенно становилась все тоньше, а стопка на полу всё выше.
«Я никогда не забуду Ваших слез и Ваших улыбок».
«…мы были почти счастливы. А для таких людей, как мы с Вами, почти счастье – это уже очень большое счастье. Улыбайтесь почаще так, как Вы…»
Зайцев читал и читал. Шуршали листки с давно расправленными сгибами.
«…лежу в темноте с открытыми глазами и мучительно долго не могу заснуть. Стараюсь думать о работе и думаю о Тебе. Я не знаю счастья, я не знаю, есть ли у меня право желать счастья Тебе, но если даже тень его сможет промелькнуть по Твоему лицу, когда Ты думаешь обо мне, она будет для меня самым огромным счастьем в жизни».
Иногда ему казалось, что жаром со страниц обдает лоб, щеки. Иногда – что сечет дождем и студит.
«…что же нам делать с нашими горестями, если они приходят к нам с таким убийственным однообразием? Страдания начали изматывать и принижать людей, как служба. Все слезы идут по одной и той же дороге».
«Здорова ли Ты, моя радость?»
Тело давно онемело, а глаза с трудом разбирали буквы в полумраке.
«Может быть, ты так хороша, что даже сама не знаешь, сколько грации, нежности Ты…»
Наконец, последний листок. Зайцев гадал: разлука? Обещание жениться?
Но в глаза прыгнул незнакомый почерк:
«Уважаемая Варвара Николаевна.
Интересующие Вас события имели место в 22-м году. Точнее сказать не могу, сам не помню.
Привет,Утесов».
И папка показала картонную спину. Зайцев очнулся. Воздух в кабинете был синим. Тело тут же напомнило о себе: в ноге покалывали иголки, желудок завывал, мучительно хотелось в туалет. Зайцев встал, осторожно ступая на покалывающую ногу. Похромал к двери. Отпер. Под ногами звякнуло. Он тупо уставился вниз. «Стакан? Зачем здесь стакан?» У самых ступней его стоял стакан с давно остывшим чаем. Сверху ломти хлеба, масло на верхнем растаяло и заветрилось. Зайцев не сразу вспомнил Викентьева. Мысленно поблагодарил участливого и исполнительного дежурного. Поднял стакан. Понес к столу, на ходу отхлебывая, откусывая. Поставил – и тут же опять о них забыл.
У дивана голубел в сумерках ворох прочитанных писем. В сиденье стула, казалось, было прорезано окошко: листок бумаги. Сердце, пронзенное стрелой.
Зайцев записал для порядка: Утесов, 22 г., отв. на запр.?
И уставился на то единственное имя, которое значило для убитой так много: Владимир.
Ни фамилии, ни адресов. Все письма были написаны одним и тем же человеком, и все они были любовными, вне всяких сомнений.
– Владимир, – вслух пробормотал Зайцев окну, другому берегу Фонтанки, домам, крышам. – Где ж тебя теперь искать?
* * *
– Нефедов, – не выдержал Зайцев. – Ты внимательно читаешь?
Нефедов показал глаза, отложил очередной лист. На совином лице мелькнуло осуждение: мол, конечно.
– Я просто пока никаких имен или адресов не встретил, – пояснил.
Взял следующий. Сфотографировал зенками. Отложил. Взял следующий. Зайцев вспомнил, как вначале их знакомства подозревал, что Нефедов – неграмотный. Потом – что в цирке он выступал не с гимнастикой, как говорил, а с мнемоническими фокусами. Раньше его это изумляло. Теперь просто бесило.
– Ты вчитывайся!
Нефедов отложил листок. Взял следующий.
– Зачем? Понятно же, что шуры-муры тут у них.
Перевернул. Окинул взглядом обратную сторону, отложил.
– Шуры-муры! – воскликнул Зайцев.
Тихо шуршали переворачиваемые, откладываемые листы. Зайцев ждал. Смотрел на склоненное темя с вихром.
– Тебе не грустно, Нефедов?
– Потому что зацепок нет? – отозвалось темя, не поднимаясь.
– Эх, Нефедов. Ну как тебе объяснить… От мысли, что вот нас с тобой никто так любить не будет.
Нефедов хмыкнул.
– Очень надо.
– И мы с тобой тоже так никого не полюбим.
– А вы почем знаете? – слегка обиделся Нефедов.
– Ты смотри, как он ей заливает. Феерия.
– А что такого?
– «А что такого». А то, Нефедов, что это ж ему сперва в голову пришло. Вот мне бы такое в голову не пришло. Значит, я такого никогда и не почувствую. А почувствую только что-нибудь бедненькое, цветастенькое, популярное: «у самовара я и моя Маша», вот и всё… Грустно.
Нефедов таращился взглядом, каким недавно на Зайцева таращился кот Синицыной.
– Да ну тебя, Нефедов.
Наконец Нефедов перевернул последнее письмо.
– Утесов. Это известный или однофамилец?
– Выясним… Ну, каковы впечатления?
– Какие впечатления? Он же ничего толком тут не пишет. Фактов ноль. Одна психология. А Крачкин что думает?
– То останется при нем. Забыл, что ли? Товарищ Ревякин скрепил нам всем, так сказать, уста. А насчет фактов ты не прав.
– Так нет же их тут!
– Вот это и есть – факт. Не писал он своей даме червонной ни про неприятности по службе. Ни про бублики. Ни хоть бы про погоду или где его черти носят. Почему?
– Очень ей интересно.
– Не скажи. Влюбленным интересно всё. Кто из соседей в суп плюнул, кто из сослуживцев подписку на заем срывает.
Нефедов смотрел с сомнением.
– Что, если не писал он ей фельетоны из своего быта, потому что про быт его она и так знает? – продолжал Зайцев. – А знает, потому что живет этот Владимир в Ленинграде. И сам ей новости рассказывал.
– А письма тогда зачем писать?
– Ну ты даешь, Нефедов. А шуры-муры? Женщины любят трофеи… А соседи, значит, не знают всё или свистят, что не выходила она никуда и не навещал ее никто.
– Нет.
– Что нет?
– Она артистка.
– Ну и что? – удивился Зайцев. – Поэтому и свистят. Лакируют действительность.
Нефедов покачал головой:
– Если бы меня полюбила артистка…
Зайцев сдержал улыбку.
– …я бы ей тоже не стал рассказывать про некрасивое. Может, они с этим Владимиром не одного поля ягоды. Вот он и старается это лишний раз перед ней не выпячивать. Про красивое заливает.
Зайцев задумался. Собрал письма. Завязал папку. Подошел к сейфу, стал вертеть колесико.
– Хм. С таким психологическим наскоком ты скоро обставишь самого Крачкина.
И поспешил добавить:
– Не издеваюсь! Может, ты и прав. Есть еще вариант: трындел этот Владимир с ней по телефону. Тогда получается, и соседи не брешут, и мы на верном пути. Хоть и странный романчик у них, конечно. В любом случае: найти б нам этого Владимира.
– Думаете, он ее убил? На почве страсти?
– Не скачи впереди паровоза. Всё, что мы знаем, – романчик был у них… Может, он и есть наш неизвестный, что пальчики оставил на рояле. Может, и порешил ее тоже он. И цацки прихватил. На память о былой любви. Широкие возможности этот Владимир нам открывает. Навоображать на таком материале много чего можно. Поэтому теперь двигаться надо особенно осторожно. Строго за фактами идти… Кстати, как там воришки? Вернули мебеля, не пикнув?
– Вернули.
– Где ж это добро сейчас?
– У нас здесь.
– У нас?!
– Актовый зал под него освободили.
– Ух ты. Значит, никаких политинформаций, – обрадовался Зайцев.
В дверь просунулась голова с бакенбардами. Самойлов заметил Нефедова и, видимо, тотчас проглотил то, что намеревался сказать.
– Вася, ты в столовку? – спросил вместо этого.
Зайцев понял:
– Почти… Ладно, Нефедов. Работай с мебелью. Открытия мне сперва покажи.
Нефедов молча вышел. Ведомственная печать, похоже, не жгла Самойлову уста, как Крачкину:
– Разворачивай сани. Из торгсина ориентировочка по делу артистки поступила.
– Из которого? – тотчас схватил кепку Зайцев. Вынул из ящика стола отпечатанный список пропавших драгоценностей, сунул за отворот пиджака.
– На Желябова.
Зайцев кивнул на бегу – центральный торгсин.
– Самойлов, век не забуду.
– Ты тут ни при чем, – строго напомнил тот. И добавил: – Бабу жалко.
Бывший торговый дом Гвардейского экономического общества на Конюшенной улице, ныне имени революционера Желябова, не растерял выправки ни снаружи, ни внутри. Четыре этажа галерей уходили высоко вверх – под стеклянную крышу. В атриуме висел постоянный гул. Людное место.
Раньше он заманивал императорскую гвардию скидками и разорял окрестные лавочки. Теперь превратился в самый большой в городе насос по выкачиванию из населения золотишка, камешков и просто добротных вещей.
Зайцев поднялся на третий этаж – в отдел бриллиантов.
Шум снизу сюда едва доплескивался. Вошел в дверь – и тишина оглушила: всяк сюда попавший, видимо, немел от близости к сокровищам. Бесшумно возник господин в черном костюме и опрятных усах масти «соль с перцем». Немолодой, опытный, ловкий – можно подумать, доставшийся торгсину вместе со стенами в наследство от бывшего Торгового дома. Усач кивнул Зайцеву тихо, но как доброму знакомому. Появлению сотрудников угрозыска в торгсине не удивлялись. Учтиво и молниеносно выпроводил немногочисленных посетителей. Запер изнутри дверь. Отпер решетку в ту часть зала, где сидели приемщики, и только тогда разомкнул губы:
– Пожалуйте, товарищ Зайцев.
Зайцев пожал протянутую руку. Вспомнил, как звали управляющего бриллиантовым отделом: Вайнштейн. Товарищ Вайнштейн повел его к своему столу. Невольно повинуясь духу места, Зайцев ступал с носка.
Над каждым столом склонялась лысина – и глаз, вооруженный оптической трубкой. Пальцы тихо мусолили в щепоти прозрачные твердые капли. Одинаково согнутые спины в одинаково черных костюмах. На миг Зайцеву показалось, что за всеми столами – один и тот же человек, и каждый экземпляр отпочковался от Вайнштейна. Ни одна спина не разогнулась при его появлении.
Кабинет товарища Вайнштейна, выгороженный здесь же, напоминал отчасти сейф (три стены), отчасти клетку (четвертая стена). Хозяин задраил хорошо смазанную решетку. Опустил на решетке штору. Округло-учтивым жестом показал на стул. Зайцев помотал головой. И – вопросительно кивнул подбородком. Повинуясь все тому же духу, оба охотнее прибегали к пантомиме, чем к словам.
Вайнштейн привычным жестом расстелил на столе кусок бархата. Сердце у Зайцева часто забилось – неужели след? Вайнштейн выдвинул из стола ящик. На черный бархат высыпались разноцветные искры. Матово засветились круглые камешки, названия которых Зайцев не знал.
Сердце еще колотилось, а под языком уже появился вкус разочарования.
– Это опалы, – перехватил его взгляд товарищ Вайнштейн. – Лет двадцать-тридцать назад было модно объединять их в одной вещи с бриллиантами.
Такого ожерелья в списке пропавших драгоценностей Варвары Метель не было.
– Ремиз, – с сожалением произнес Зайцев, не заметив, что пользуется словечком Крачкина.
Бриллианты давно их подружили: Вайнштейна и угрозыск. Ну, не подружили, конечно: сблизили – научили работать сообща. Вайнштейн Зайцеву нравился: опытный, разумный, с чутьем на «что-то не так», на камушки, за которыми тянулся тщательно замытый кровавый след. На неприятности, которые еще только брезжат на горизонте или давно за ним пропали.
Вайнштейн быстро согласился:
– Не ваше, знаю. Вдобавок липа.
«И все равно позвонил». Зайцев смотрел в голубые выпуклые глаза ювелира.
– Но… Знаете, больно вещь броская. Штучная.
– Так липа или штучная?
– Липа высшего класса. Только знаток разберется. Работа со вкусом выполнена, хорошей рукой. Признаться, меня и не коробит, что камешки стеклянные: красивая вещь. Произведение искусства… Сейчас такие редко владельцев покидают.
– А когда не редко покидали?
– В восемнадцатом особенно. Года до 22—23-го еще всплывали. А потом плато. Вот я и решил: позвоню вам на всякий случай. Список-то ваш длинный, видимо, дело немаленькое… На всякий случай, – повторил он. Зайцев взял с колена кепку.
– Жаль. Не наша вещь.
– Погодите!
За все годы, что Зайцев был знаком с Вайнштейном, он впервые услышал из его уст нечто, напоминающее восклицание.
– Я думаю, это ваша вещь.
Зайцев не успел возразить. Только поднять руку к карману, в котором был список пропавших драгоценностей. Ювелир остановил его жестом.
– Знаю, у меня нет никаких точных сведений, чтобы подкрепить свое мнение… вы можете счесть это выдумками, фантазиями… Я внимательно изучил оставленный вашим коллегой список. Внимательно.
– А раз внимательно, то…
– Да, такой вещи там нет. Но я подумал… Видите ли, ваш список – как я себе представил эти вещи – обрисовывает определенный вкус, а значит, особу…
«Психология, – недовольно подумал Зайцев. – Никаких чертовых фактов в этом деле. Одна психология».
– …которая их выбрала. Эта вещь соответствует вкусам этой особы.
– Ну, это, дорогой товарищ Вайнштейн, совсем уж вилами по воде писано.
Но мысли тут же побежали по предложенному пути. «Только что ж за идиот такой в торгсин с мокрыми цацками поперся». Среди граждан преступничков умников не много, а водка родимая отшибает в головах и то немногое, что там есть, – но все же.
Вайнштейн развел руками:
– Знаю… На всякий случай.
Зайцев вздохнул. Если бы не этот звонок, он бы уже скатался на кинофабрику. Может быть, трехал обратно в угро с какой-нибудь добычей в зубах. Постарался не показать досаду. Чтобы в другой раз Вайнштейн, сомневаясь, звонить или нет, все-таки позвонил. Лучше сбегать понапрасну, чем проморгать важное.
– Ладно. Есть у этого вашего всякого случая фамилия?
«Наверняка ненастоящая… Ксива фальшивая. Раз приперся так нагло в торгсин», – тут же подумал. Уже почувствовал, как сердце разгоняет кровь, добавляя адреналина с каждым толчком. «Черт… А что, если прав Вайнштейн и это след».
– Конечно. Только зачем в испорченный телефон играть. Вы с ним сами поговорите… Вон, в задней комнате сидит.
А в голосе – ни иронии, ни удивления, только профессиональное спокойствие.
– Что?! – чуть не крикнул Зайцев.
– Я ему сказал: очередь здесь, не лезьте, товарищ, ждите. Оценщик к вам сам выйдет и проводит в кассу… Он и сидит. Ждет.

