Часть четвертая
Нения по палачу
Дорогая полиция, я – Бог.Джон Аллен Мухаммед, Вашингтонский снайпер
Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui laetificat iuventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Deus qui fecit caelum et terram.
Отец Релья почти не помнит текста молитвы на латинском языке и удивляется, как быстро летит время. Уже лет двадцать или тридцать он не проводит службы на латыни. Тридцать лет, боже мой. Непростительно.
Задолго до чтения Евангелия среди скамей для почетных гостей начинают циркулировать листовки, которые кто-то благочестиво прячет в карман, чтобы прочесть по завершении службы, а некоторые все же читают, после чего поднимают головы и тревожно оглядываются по сторонам, словно их застали за совершением преступления.
– Возьмите.
Отец Релья берет листок. Разворачивает его, думая, что это новая инструкция, расписывающая ход сложных церемоний сего торжественного дня, и с удивлением читает мы, члены Испанской фаланги, от имени испанского народа высказываемся и ратуем за долгожданную и в высшей степени желательную канонизацию каудильо Испании, генералиссимуса Франсиско Франко Баамонде. Да здравствует Франко, вставай, Испания. И номер абонентского ящика для выражения одобрения. Черт знает что… То есть… Возмущенный священник комкает бумажку и демонстративно бросает ее на пол, стараясь, чтобы все это заметили. Не надо смешивать все в одну кучу и путать божий дар с яичницей, говорит он себе, чтобы успокоиться. Сидящий справа от него мужчина наклоняется, поднимает скомканную бумажку, подносит к спинке впереди стоящего сиденья и разглаживает ее; потом старательно складывает ее пополам и властным жестом возвращает священнику.
– У вас выпало это, – сурово и осуждающе произносит он.
После чтения Евангелия секретарь Священной конгрегации обрядов подходит к алтарю, в то время как папа с помощью заботливого священнослужителя, в пелерине, но без ризы, садится в кресло и внимательно слушает. Секретарь Конгрегации обрядов повествует на латыни о героических добродетелях кандидатов, которые сегодня пройдут обряд беатификации, завершая свою речь торжественной декламацией: Tenore praesentium indulgemus ut idem servus Dei beati nomine nuncupetur. Взволнованный отец Релья поднимает кверху палец и говорит сидящему слева от него сеньору Гуардансу, имея в виду только что сказанное секретарем итак, позволим вышеназванному рабу Божьему отныне нарекаться Блаженным. Ну, что-то в этом роде. С этого момента школьный учитель, досточтимый Ориол Фонтельес, мученик Церкви, убитый коммунистическими ордами; рядовой первого класса досточтимый Кшиштоф Фуггс, убитый нацистскими ордами; сестры милосердия Досточтимая Небемба Вгенга и Досточтимая Нонагуна Вгенга, убитые стихийными революционными ордами; а также медсестра, Досточтимая Кох Кайусато, убитая пиратскими ордами, удостаиваются звания Блаженных. Церковь через святого отца верховного понтифика торжественно провозглашает, что вышеназванные слуги Божии, чьи героические добродетели были предварительно должным образом оценены, отныне причислены к лику Блаженных, удостоены вечной благодати и могут служить объектом культа.
Когда секретарь завершает свою речь, двое служек – высокие, светловолосые, с тщательно выбритыми затылками, делающими их похожими на мормонов, – срывают похожую на простыню ткань, закрывавшую до этого престол, и перед собравшимися предстают пять крупных снимков пяти новоявленных Блаженных Католической церкви. Мультирасовый иконостас, как же отрадно созерцать его. Наша Церковь универсальна и всеобъемлюща даже в своих мучениках. Второй в ряду, после солдата в военной форме, – Ориол Фонтельес на единственном сохранившемся снимке; все, кто был знаком с нашим героем, разглядят на фото часть воротника и отвороты его новой, с иголочки фалангистской формы. Аминь.
Отец Релья снова комкает бумажку и бросает ее на пол. Мужчина справа склоняется, поднимает ее и вновь разглаживает. Только сейчас священник вдруг вспоминает слова, которые недавно какая-то незнакомка прошептала ему во мраке собора. Немного хриплый, усталый голос произнес хотят причислить к лику Блаженных человека, который не верил ни в Бога, ни в Церковь. Говорят, он принял мученическую смерть.
– Что ж, прекрасный конец.
– Вы прекрасно меня понимаете, святой отец. Этот человек не верил ни в Бога, ни в рай, ни в искупление, ни в Святое причастие, ни во власть Святой Матери Церкви… в общем, ни в святых, ни в чертей.
– Но почему ты интересуешься моим мнением, дочь моя?
– Потому что я хочу помешать этому.
– Но зачем, если ты в это не веришь?
– Потому что этот человек не заслуживает того, чтобы память о нем была так извращена.
Молчание. Полумрак под величественными сводами пустынного собора. Полная темень в душе священника, не понимающего, в какую сторону ему направить свои мысли. Он посмотрел на решетку исповедальни, но за ней по-прежнему хранили молчание. Пауза продолжалась так долго, что в какой-то момент он подумал, что странная дама, пришедшая к нему на исповедь, исчезла, впрыснув ему в кровь немного ада.
– Советую вам не вмешиваться не в свое дело, дочь моя, – сказал святой отец сухим тоном после долгого молчания. Потом он проконсультировался по этому вопросу с одним из вышестоящих священнослужителей, и тот ответил ему если скажут, чтобы тот, кому известно какое-либо обстоятельство, препятствующее акту беатификации, сделал шаг вперед, ты его сделаешь, сын мой.
– А если не спросят?
– Тогда молчи и забудь об этом навсегда.
– Больше не роняйте, – говорит ему мужчина справа, снова протягивая бумажку, требующую канонизации Франко.
Между тем сидящая на привилегированном месте сеньора Элизенда, спокойная, бледная, склонив голову, внимает пояснениям адвоката Газуля относительно выставленных фотографий. Марсел с сыном время от времени поглядывают на часы, ну это правда невыносимо долго, целая вечность. Мерче сидит с невозмутимым выражением на лице. Газуль, обеспокоенный видом Элизенды, не отрывает от нее взгляда. Он не осмеливается спросить как ты себя чувствуешь, поскольку давно привык ограничиваться лишь ответами на вопросы и переживать свои тревоги в одиночестве.
У Элизенды такое странное выражение лица, потому что она хочет заплакать, но у нее ничего не получается. Она вспоминает последний вечер, удивление, страх, стыд, неуклюжее оправдание, его глаза, смотревшие на меня в упор, когда я в полном смятении оторопело вынуждена была сказать это наш учитель, дядя, он пришел за книгами. А потом… Ну почему, почему мне вдруг вздумалось попытаться разгадать этот взгляд, почему я захотела узнать, о чем ты хотел поговорить со мной, зачем я в недобрый час надела пальто и вышла? Ориол, ну скажи, почему, ведь мы так любили друг друга… Несмотря на горький сгусток воспоминаний, даме не удается проронить ни единой слезинки. Блаженный Ориол. Видишь, Боже? Я предупреждала Тебя, я говорила Тебе, что у меня это получится.
На более отдаленных скамьях льют слезы грузные сеньоры, энергично распространяются листовки о Франко и кто-то шепчет посмотрите-ка, сколько испанских святых, как приятно. Самый могущественный из них – святой Хосемария Эскрива де Балагер-и-Албас. Пожалуй, настал подходящий момент, чтобы инициировать процесс канонизации святой королевы Изабеллы Католической; да, надо работать над этим. А еще дальше, в глубине, возле колонны, отец Релья вспоминает об одной странной исповеди, мечтая оказаться в долине Ассуа и с наслаждением внимать вечному напеву Памано.
36
Надпись на могильной плите Перета из дома Молинер гласила: Педро Монер Каррера (1897–1944), и пока Пере Серральяк-каменотес вырезал ее, душевная боль чуть не разорвала ему грудь. Конечно, я должен был предостеречь его, но, когда он делал этот проклятый снимок, я беспокоился лишь о том, чтобы Жаумет не задерживался в опасном месте. Конечно, мне надо было сказать Перет немедленно удирай отсюда, сейчас здесь все взлетит на воздух, уходи от греха подальше.
На церемонии в приходской церкви Сант-Фелиу представители властей занимали места в первых рядах справа; места слева были оставлены для Энкарнасьон (бедная женщина) и сына покойного, который работал в Лериде и приехал на похороны с выражением полного оцепенения на лице; это выражение не покидало его на протяжении всего похоронного ритуала. Среди представителей власти были отмечены сиятельнейшие сеньоры алькальды и главы местных отделений движения из Сорта, Алтрона, Риалба, Монтардита, Торены, Льяворси и Тирвии (гражданский губернатор, которому помешали безотлагательные дела, передал свои извинения и соболезнования), а педагогический корпус комарки присутствовал почти в полном составе, за исключением тех учителей, что отправились проводить заслуженные отпуска в родные места, разбросанные по просторам родины.
Перет из дома Молинер. Пере Монер Каррера, думал Ориол, уставившись ничего не выражающим взглядом в затылок отца Колома, который отправлял мессу так, словно доверял свои личные секреты алтарю, не желая делиться ими с окружающими.
В своей проповеди, произнесенной на чванливом испанском, священник обрушился с обвинениями в адрес коммунистических варваров, гневно обличая бандитов, которые хотят нарушить мир. Разве мало у нас было войн? Разве мы не хотим, чтобы слово «война» раз и навсегда исчезло из нашего обихода? Разве мало у нас накопилось боли? Две, три, четыре секунды паузы, словно он читал лекцию в семинарии и ждал, когда студенты ответят да, святой отец, более чем достаточно. Однако никто даже не пискнул, и священник завершил проповедь обличением вандальских актов, печальным примером которых служил устроенный маки (которых, разумеется, не существует) взрыв памятника мученикам крестового похода, унесший жизнь Перета, республиканца и атеиста, которому сейчас устраивали церковные похороны под председательством франкистских властей, отчего его Энкарнасьон еще горше заливалась слезами, говоря про себя хорошо, что ты не видишь всего этого, Перет, потому что если бы ты вдруг поднял голову, то тут же снова умер бы от расстройства. В это время кто-то дернул Ориола за белый форменный пиджак, и он обернулся. Хасинто Мас, шофер Элизенды, вручил ему какую-то бумажку, и Ориол едва успел сунуть ее в карман, когда беседовавший с алькальдом Сорта Валенти внезапно уставился на него, словно следил за всеми его движениями. В это же время отец Колом, полуобернувшись к пастве, литургически вознес кверху руки, широко разведя их в стороны, и провозгласил Dominus vobiscum, после чего все собрание разом встало и ответило cumesprintutuo, падре.
В ту ночь Валенти Тарга вызвал его в мэрию. Вечер, как это нередко случалось в последнее время, он провел в хостеле Айнета, погрузившись в аромат нарда и пелену тайны, которую разделял с ними лишь водитель со шрамом на лице; они с Элизендой поклялись в вечной любви и нетленной страсти. Ориол сказал если верить Данте, это наша любовь движет солнце и светила.
– Как красиво.
– Кажется, я счастлив.
– Настанет день, когда мы сумеем разрешить нашу сложную ситуацию, клянусь тебе.
А пока они будут жить, таясь от Сантьяго и Розы, от Тарги, от всей Торены, от властей, от маки, от коров и слепней и даже от тетрадок, предназначенных для дочери не-знаю-как-тебя-зовут, витая в облаках, твердо зная, что теперь они – неразрывное целое…
– Возьми. Это золотой крестик.
– Очень красивый. Но я не могу…
– Возьми его, пусть он всегда напоминает тебе обо мне.
– Но мне не нужно никаких крестов, чтобы… Ой, да он раскололся.
– Вторая половинка останется у меня. Ты только свою не потеряй. Не волнуйся, цепочка крепкая.
Она надела половинку крестика ему на шею, словно удостоив медали атлета; он склонил голову в знак любви и признательности, посмотрел на блеклые стены комнаты и подумал, что, пожалуй, он достиг высшего пика несказанного счастья и очень не хочет, чтобы посещающие его время от времени мучительные опасения и предубеждения похитили у него столь счастливый момент; и он сказал себе не знаю, не знаю, но я правда не могу и не хочу отказываться от ее поцелуев, ее ласк и еще много-много раз хочу погружаться в эти нежные бездонные глаза, мне жаль, мне очень жаль…
– Немедленно заканчивай эту долбаную картину, или я тебя расстреляю.
Ориол только что молча вошел в кабинет. Тарга, спиной к двери и подбоченясь, созерцал собственный портрет, стоявший на мольберте. Ориол подошел к портрету, откупорил бутылку со скипидаром, выбрал две относительно чистые кисти, нанес на палитру немного коричневой, синей и белой краски и взглянул в сторону стола. Валенти между тем уселся в кресло и принял соответствующую позу. Он все еще не снял форму. Потом посмотрел Ориолу прямо в глаза и сказал это была шутка. Но при этом даже не улыбнулся. Пристально глядя на алькальда и не произнося ни слова, Ориол приступил к изображению глаз модели, стараясь передать ледяную синеву этого взгляда, такого острого и колючего. Возможно, это из-за иссиня-черного зрачка в центре. Или из-за всей той ненависти, что он в себя вобрал. Он подумал о ненависти, и тут его мысли обратились к Вентурете, к Розе, к тебе, моя дорогая доченька, и я написал лучшие глаза, какие когда-либо создавал или создам в своей жизни. Они казались живыми. Нет, они были живыми, ты должна их увидеть. Ты можешь их увидеть, если захочешь.
За час он доработал фон картины и сказал все, я закончил. Тебе не придется меня расстреливать.
Валенти Тарга тут же вскочил, чтобы увидеть конечный результат. Несколько секунд он разглядывал портрет, явно испытывая определенное смущение. Возможно, ему было неловко созерцать самого себя в присутствии Ориола, ведь мужчина, как правило, не смотрит на себя в зеркало в присутствии другого мужчины. И ничего не сказал. Воздержался от комментариев. Потом достал из мундира бумажник и положил на стол стопку купюр; Ориол в это время вытирал кисти, стараясь не смотреть на эту кучу денег.
– Ты знаешь, – нарушил молчание алькальд, – мне тут пришло в голову, что мы с тобой могли бы основать общество.
Ориол продолжал молчать, сосредоточившись на очистке кистей.
– Ты что, обиделся на то, что я тебе сказал о расстреле?
– Какое общество? – Ориол подошел к столу и взял деньги.
– Я подыскиваю клиентов, а ты пишешь портреты. Ну конечно, немного попроворнее, чем этот.
– Прекрасная идея.
– За пятьдесят процентов.
Похоже, мне повезло, что реальная угроза смерти помешает мне стать экономическим партнером Тарги. Что ж, неплохой повод не слишком переживать по поводу смертельной опасности, которой подвергают себя все, кто вольно или невольно оказался связанным с лейтенантом Марко.
37
Марсел женился семь месяцев назад, двадцать четвертого апреля, как и планировала его мать, и за все это время изменил Мерче всего шесть раз, но при этом с шестью разными женщинами, то есть эти измены ничего для него не значили; Элизенда просматривала донесения Хасинто Маса о состоянии брака ее сына, которые с каждым разом становились все более небрежными и расплывчатыми, и сначала думала даже не знаю, что лучше, то ли дать ему нагуляться вволю, то ли все же посадить на короткий поводок. Однако постепенно Марсел стал расширять свои горизонты, и жизнь, разумеется не без помощи Мерче, предоставила ему возможность обнаружить, что в мире, помимо черных трасс, существуют и другие привлекательные вещи. Например, есть красные трассы, зеленые и любого другого цвета, потому что клиенты семейных трасс гораздо больше тратят на бары и прокат детских лыж; и не стоит рассчитывать на то, что все вокруг будут покупать симпатичные крохотные лыжики, из которых детки вырастают самое большее через два сезона. Все-таки прокат – ужасно прибыльное дело. Кроме того, Марсела Вилабру-и-Вилабру буквально огорошило еще одно недавнее открытие, а именно что в мире помимо лыжного сезона есть и другие немаловажные вещи и многие люди спокойно живут и даже иногда счастливы без чудесных лыж «Россиньоль». И даже без лыжных ботинок, представьте себе. А потом, скоро «Бруспорт» будет звучать не менее престижно, чем «Россиньоль», поскольку марка «Бруспорт» постепенно уверенно завоевывает свою нишу на рынке, особенно в замкнутом мирке специалистов по лыжной акробатике. За беспрекословное подчинение требованию матери приступить к работе в компании Марсел получил от сеньоры Элизенды подарок – длительное пребывание в Хельсинки (два незабываемых совокупления с двумя норвежскими, или какими там, валькириями из Хельсинки), во время которого он с удивлением увидел, что по шведским телевизорам (исключительно цветным) все короткие, холодные, темные и пасмурные северные дни напролет беспрестанно транслируются прыжки с трамплина, а также соревнования по лыжным гонкам и слалому; тогда-то ему и пришло в голову, что на лыжах для прыжков с трамплина марку «Бруспорт» следует размещать на тыльной стороне лыжи, потому что так во время прыжка ее смогут увидеть многочисленные телевизионные болельщики и лыжники сделают нашей продукции бесплатную рекламу. Ведь здесь, в Финляндии, эти норвежцы рождаются с лыжами под мышкой, и я хочу добиться, чтобы это были лыжи «Бруспорт». Что меня бесит, так это что я не могу здесь сказать, откуда я, потому что здешние тут же хмурят брови и говорят Франко дерьмо, и вообще Испания им кажется чем-то страшно далеким, а еще они часто путают ее с Италией или Португалией, и даже с Грецией – в общем, с бедными странами, расположенными где-то там на юге, под вечным солнцем. Ну что это за бескультурье путать Грецию с Испанией, Португалией или Италией! Хотя мне, в общем-то, на это наплевать, я только хочу продавать этим норвежцам продукцию «Бруспорт», причем оптом, то есть в половину магазинной цены. И что это они тут мне мозг выносят с Франко, сколько можно, черти драные!
Еще Марсел Вилабру-и-Вилабру узнал, что, если не принимать должных мер, Мерче может забеременеть, и – бац! – она таки забеременела, ну хорошо, я, конечно, рад, но не знаю, думаю, нам все-таки рановато заводить детей, правда? И еще твердо усвоил, что для осуществления своих грандиозных планов ему следует без всяких сожалений расстаться с Паласиос, Костой, Рикелме, обоими братьями Вила, с Гитерес, Гарсией Риалто, Кандидой и хотя бы одной из Пиларик, не знаю, наверное, с той, которая так здорово трахается, да, с ней. И он уволил Пиларику, которая так хорошо трахалась, обоих Вила, Гитерес, Рикелме, Косту и Паласиос, и они подали на него в суд, потому что Пако Серафин им дырку в башке проел и мозг весь вынес, но это им не помогло, поскольку Марсел растолковал Газулю, что бы он сделал, если бы был семейным адвокатом, и Газуль провел весьма приятную, непринужденную и полезную для обеих сторон беседу с судьей третьей категории доном Марселино Бретоном Коронадо. И сеньора Элизенда, которая согласилась выделить Марселу уголок в кабинете, где он мог бы оправдывать свое жалованье, не слишком ей досаждая, с удивлением убеждалась в незаурядных способностях сына и его успехах на деловом поприще. В какой-то момент она даже пожалела о том, что прежде недооценивала Марсела. И что их отношения сводились к ну что ж, попробуем в другой раз, ступай! Да, все-таки груз его прошлого был слишком тяжел даже для таких крепких плеч, как у Элизенды.
– Мама, я хочу наполовину сократить персонал в секции готовой одежды и вдвое увеличить производство за счет материального стимулирования и увеличения количества рабочих часов. А то они ни черта не делают.
– Делай то, что считаешь нужным, Марсел, но только незаметно.
– Но незаметно не получится. Первым, кто вылетит, будет Пако Серафин.
– Не помню, кто это. А почему?
– Он из «Рабочих комиссий».
– Поосторожнее с ними.
– Не волнуйся, я его выгоню за аморальное поведение. Он тут изнасиловал… – Марсел потушил сигарету и поднес телефонную трубку к другому уху. – Знаешь, лучше тебе не знать подробностей, мама. Это такой случай, когда даже его собственные товарищи не смогут его защитить, а уж мне-то это как нельзя на руку, просто офигеть. В общем, мне обалденно повезло.
Марсел, тебе еще и тридцати не исполнилось, а ты уже вполне похож на моего сына.
Кроме того, Марсел Вилабру-и-Вилабру обнаружил, что в мире между двумя лыжными сезонами можно играть в теннис, пинг-понг (в Дании я видел замечательные складные столы, собираюсь торговать ими в Испании и Португалии), волейбол, хоккей на траве, хоккей на квадах, а в Скандинавских странах – в хоккей на льду, и в этих играх игроки тоже потеют и снашивают носки, спортивную обувь, наколенники, футболки, брюки, куртки и все, чем пользуются; так постепенно он превратился в своего рода посла доброй воли в Европе, хотя в год Олимпийских игр в Саппоро и Мюнхене ему все еще было неловко признаваться, откуда он, потому что Франко по-прежнему источал запах тухлой рыбы. Однако он быстро открыл для себя, что доллары являются чудодейственным дезодорантом.
Между тем сеньора Вилабру, которая уже шесть месяцев как благополучно избавилась от компрометирующей ее тени Кике Эстеве, этого вертопляса с лыжных трасс,
(– Как раз наоборот, уважаемый сеньор уполномоченный, – началось нервное постукивание карандашом по столу, – она положила конец этой, скажем так, болезненной связи.
– Значит, больше никаких оргий?
– Но это был чистый оговор, клевета, зависть, недоразумение, грязные сплетни… – Снова постукивание кончиком карандаша по столу. – Сеньора Элизенда неприкасаема или, по меньшей мере, непотопляема. Нам это известно уже много лет.
– Ну слава богу.)
наблюдала, как перед ней с отеческой улыбкой распахивают двери Дела. Заветная встреча началась словами ваше преосвященство, спасибо за то, что так скоро согласились принять меня, а он с другого конца стола, раскрывая объятия, ответил нет-нет, сеньора Вилабру, никаких ваше преосвященство, в крайнем случае монсеньор; никаких почестей, титулов и восхвалений… вы ведь понимаете меня, сеньора. И она ответила да, я вас прекрасно понимаю, монсеньор. После обмена любезностями свидание протекало среди грома и молний, улыбок, порывов холодного ветра, града, обещаний, признаний и договоренностей. В конечном итоге сеньора Вилабру решила не вступать в организацию, которая несколькими годами ранее отвергла ее, однако оказала Делу существенную финансовую помощь, более чем достаточную для того, чтобы заслужить полное расположение в качестве персоны грата, и в Риме тут же пришли в движение самые эффективные механизмы, необходимые для ускорения процесса беатификации Досточтимого Фонтельеса: Саверио, что там с этим Процессом, ну-ка принеси мне документы по нему. И оказалось, что вы правы, сеньора Вилабру, документы действительно застряли в одной из инстанций аудиторской службы Ватикана по причине непонятно каких препон чисто формального толка, мне так и не смогли уточнить, каких именно, и это несмотря на то, что на титульном листе документа указано, что шестого июля тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года его святейшество папа Пий XII признал чудотворный характер некоего излечения, свершившегося при посредничестве Досточтимого: обычно в таких случаях Процесс не приостанавливается. Но вы не беспокойтесь, сеньора, через несколько лет дело будет доведено до своего логического завершения. А теперь сугубо между нами: по какой причине вы с такой настойчивостью хлопочете о деле Фонтельеса? И монсеньор Эскрива и так далее с блаженной терпеливой улыбкой стал ждать ответа дамы.
Что ж, монсеньор, на мой взгляд, сия причина вряд ли может что-то значить для вас, но из соображений элементарной воспитанности и вежливости я все же поделюсь ею с вами: я делаю это во имя любви. Любви, что движет солнце и светила, монсеньор. Я поклялась, что всегда буду любить и почитать этого человека, что бы ни произошло, не важно, сможем мы заключить брак или нет. Я поклялась в этом в хостеле Айнета, где мы встречались тайком от всех. И да не бросит никто первый камень, ибо никому не дано познать высокую безгрешность наших чувств. Да, у нас была физическая любовь, это так, но она была лишь продуктом ошеломительной, глубинной, всепроникающей любви и уважения. Да, я никогда не была святой, но я твердо знаю, что наша любовь была священной. С самого первого прикосновения, когда его пальцы дотронулись до меня, чтобы поправить положение руки во время позирования для портрета, и до спокойного тона его голоса, надежности, которую источал его чистый взгляд… Его взгляд, такой же безысходный, как мой, тогда, в нашу последнюю ночь, словно мы оба знали, что случится… Я уже говорила, что совсем не святая, и замуж я вышла лишь затем, чтобы осуществить акт справедливости. Я не любила Сантьяго, но мне было удобно выйти за него замуж, дабы выполнить свою миссию. И с этим полным ничтожеством Таргой я легла в постель по той же причине. Но в один прекрасный день я познакомилась со своей большой любовью, я познала несказанную любовь, и она ускользнула у меня сквозь пальцы по вине жизни. А ныне, монсеньор, единственная память, оставшаяся об Ориоле, – это та, что храню я; больше никто о нем не помнит. Правда, остался небольшой след в Торене, деревеньке, в которую вы никогда не поедете, монсеньор, потому что там вы испачкаете туфли и подол сутаны. Так вот, в Торене остались две таблички, которые гласят улица Фалангиста Фонтельеса; это маленькая, круто поднимающаяся в гору и устланная коровьими лепешками улочка, которую местные жители упорно продолжают называть Средняя улица и по которой с момента ее переименования ни разу не прошли три женщины из этой деревни. Ориол не заслужил такого забвения, и я считаю, что несу ответственность за исправление этой ошибки. Политический режим Франко рано или поздно закончится, придут новые власти, которые решительно отвергнут все старое и снимут таблички. Первое, что они сделают, – переименуют улицы. И тогда Ориол умрет еще раз. Он был хорошим человеком, несмотря на все, что случилось. Конечно, он был фалангистом, но для той эпохи это вполне естественно; однако он вовсе не заслужил той ненависти, с какой о нем вспоминают. Вот по этим причинам, а также по некоторым другим, которые в данный момент не приходят мне в голову, много лет назад я приняла решение воспользоваться инициативой, предпринятой после ознакомления с обстоятельствами смерти сеньора Фонтельеса настоятелем нашего прихода и моим дядей, монсеньором Аугустом, которого вы прекрасно знаете; и состояла сия инициатива в том, чтобы начать процесс по провозглашению моего Ориола Блаженным. Я поняла, что режимы приходят и уходят, а Церковь непоколебима. И посему решила превратить Ориола в негасимую звезду сей Церкви. В конце концов Ориол станет святым, я и хочу дожить до этого момента. Дабы иметь возможность почитать его публично, монсеньор. Я совершаю огромное усилие, чтобы быть с вами до конца искренней, и лишь я одна знаю, чего мне это стоит. Беатификация и канонизация Досточтимого Фонтельеса превратились в главный смысл моей жизни – настолько, что я пожертвовала многими открывавшимися передо мной возможностями. И никто не вправе осуждать мой выбор. Однажды вы сказали мне, что я не могу вступить в Опус по причине одного аспекта моей частной жизни. Да, у меня был любовник, это правда. Он был у меня двенадцать или тринадцать лет. Да, я знаю, чтó вы мне на это скажете, но я никогда не была святой. Вот кто святой, так это Ориол. Я – женщина, которая любила мало, но очень глубоко и сильно. Думаю, и ненавижу я так же. Я оплакивала смерть и утрату Ориола так же, как в свое время смерть своего отца и брата. Плакала тайком от всех, на протяжении многих лет; тайком, потому что никто не должен был знать об этой моей душевной муке. Я плакала и беспощадно работала. Пока однажды не сказала себе хватит и убрала платок в карман. Я чувствовала себя очень одинокой, прежде всего потому, что мой муж весьма своеобразно воспринимал институт брака. Когда Сантьяго умер, я решила, что все, хватит мне одиночества, что у меня тоже есть право на… вы же понимаете меня, правда? И нашла себе паренька, который звезд с неба не хватал, но обладал хорошим здоровьем, всегда был под рукой и немного помогал мне в делах. Я не просила, чтобы он любил меня, нет, только ублажал в постели. И я никогда его не любила, хотя тень ревности в наших отношениях проскользнула. Я не прошу, чтобы вы это поняли, монсеньор, но тайная связь с этим сукиным сыном Кике Эстеве длилась до тех пор, пока не перестала быть тайной для других. А потом я дала обещание моему Ориолу и намерена сдержать его: больше в моей жизни не будет мужчин; я не могу позволить, чтобы хоть что-то выходило у меня из-под контроля. И потом, мною движет еще одна вещь… Понимаете, монсеньор, в глубине души мне кажется, что я все это делаю, чтобы отомстить Богу…
– Это моя дань памяти человеку, который не колеблясь отдал жизнь за Церковь и за целостность Святого Таинства Евхаристии, монсеньор. – Она, как и ее собеседник, благочестиво потупила взор и подтвердила: – Вот и вся причина, монсеньор.
38
Может быть, так я помогу тебе сохранить хоть какую-то память обо мне, доченька, набрала Тина на компьютере. После этой фразы на странице оставался лишь набросок лица мужчины, вероятно со светлыми глазами и достаточно обычным, правильным молодым лицом с мягкими чертами. Она долго смотрела на него, пробуя представить себе, как Ориол, стоя перед грязным зеркалом, пытается изобразить на листе бумаги свою собственную боль. Потому что это был автопортрет душевной боли: Роза уехала, разочаровавшись в нем и испытывая к нему отвращение, а он, неожиданно для себя превратившись в героя, не имел никакой возможности сказать ей я уже не трус. Он остро ощутил одиночество, оставшись наедине со своим автопортретом, сделанным перед грязным, облупившимся зеркалом в школьной уборной. Пока он рисовал его, он думал ах, как бы я хотел совместить желаемое с действительностью, чтобы эти страницы дошли до Розы, где бы она ни находилась, и она прочла бы их, все поняла и приняла взвешенное решение не возвращаться сюда, пока не минует опасность, ах, если бы я мог соединить явь с мечтой. Потому что через несколько дней мы либо будем свободны, либо погибнем, и я уже не смогу выбирать. Вот в чем неопределенность моего положения. Роза, дорогая, ты ненавидишь меня, потому что наверняка знала о том, что происходило у меня внутри, когда я ходил к Элизенде писать ее портрет. И ты, доченька, должна знать, что через неделю все будет кончено или… Он поспешно дописал автопортрет. Получилось потухшее, разочарованное лицо. Возможно, такое оно у него и есть в действительности. Он практически ничего не исправлял в этом карандашном наброске, словно изображал себя уже тысячу раз. И когда закончил, подумал, что этот рисунок мог бы послужить неплохой памятью для его дочери в случае, если судьба решит вскоре поставить финальную точку на его жизненном пути, потому что все последние дни он думал о смерти как об одном из вполне возможных обстоятельств сегодняшней ночи. Мне очень жаль, что я причинил тебе боль, Роза.
Тина поспешно закрыла тетрадь, поскольку услышала шум у входной двери. Секретные тетради Ориола Фонтельеса были тайной, которой она не хотела делиться с Жорди сейчас, когда Жорди не делился с ней тайной своей неведомой возлюбленной. Это было ее временной местью, пока у нее не хватает мужества прямо сказать ему ты бесчестный человек, а при этом кичишься своей порядочностью.
– Ты что делаешь?
Притвориться глухой? Послать его к черту? Сказать ему Жорди, нам надо поговорить, я знаю, что у тебя есть любовница? Или сказать это ты вызываешь у меня кашель?
– Ничего особенного, разбираю бумаги. Хочу оставить все в полном порядке до моего возвращения.
– Ты правда не хочешь, чтобы я с тобой поехал?
– Правда.
– Позвони мне, как только тебе что-нибудь скажут.
Тина не ответила. Что она могла ему сказать? Что ей очень жаль, что он сам не предложил отправиться к врачу вместе; что она не хочет, чтобы он ехал с ней, поскольку между ними возникла слишком большая пропасть; что ей очень страшно отправляться к врачу одной; и что есть у нее такого, чего нет у меня? Кто она? Я ее знаю? А? В общем, лучше ей ехать к врачу одной и в одиночестве пытаться побороть свой страх.
Жорди вышел из комнаты, на ходу снимая куртку. Она знала, что как только она сядет в машину, чтобы отправиться на пару дней в Барселону, на обследование к гинекологу, Жорди сочтет себя свободным от всех уз и, не стесняясь, бросится в объятия своей таинственной возлюбленной. Она знала это, была в этом абсолютно убеждена. Но не могла этому помешать. В конце концов, она тоже в каком-то смысле обманула его, потому что по приезде в Барселону она не пошла навещать никаких родственников, а отправилась в контору по усыновлению в поисках родившейся в сорок четвертом году девочки, у которой фамилия могла быть Фонтельес, а мать звали Розой. Если только она родилась в Барселоне. Потеряв два часа на безуспешные поиски в огромном ворохе данных, она решила пойти по призрачному следу, на который навели ее тетради Ориола, где упоминался некий доктор Аранда, возможно специалист по туберкулезу, работавший, возможно, в туберкулезной больнице. Однако и здесь ее ждало разочарование: послушайте, сеньора, на что вы рассчитываете, какой-то врач, работавший в сороковые годы… И она ушла с поникшей головой, думая, что, может быть, и правда пора остановиться, кто заставляет ее вмешиваться в чужую жизнь, ведь я не историк, не детектив, не родственница участников событий; однако она понимала, что безнадежно вовлечена в эту историю уже хотя бы потому, что прочла тетради Ориола. Пока Тина размышляла обо всем этом, направляясь к выходу из больницы, из-за стойки вышла медсестра, сидевшая рядом с той, к кому она первоначально обратилась, и сказала, что на чердаке больницы лежат пакеты с регистрационными карточками, в свое время рассортированные и перевязанные бечевкой, их очень легко разобрать; и когда у Тины все руки уже были перепачканы серой пылью, скопившейся на хрупких, с легким запахом плесени бумажках, она обнаружила среди врачей, работавших с сорок второго по сорок девятый год, доктора Жозепа Аранду и поняла, что если записи в те годы велись более-менее аккуратно, то она сможет отыскать имена пациентов доктора. В списках поступивших в больницу в интересующие ее годы она нашла десятки женских имен, среди них несколько Роз, но возраст ни одной из них не подходил. Когда Тина уже начинала понимать, что бездарно теряет время, ей пришло в голову посмотреть личное дело доктора Аранды. Оказалось, что он служил также и в больнице Торакс в Фейшесе. С поистине евангельским упорством она взяла новый след, отдавая себе отчет в том, что во второй половине дня у нее номерок к врачу и ей надо подготовиться к визиту, а вечером – ужин с матерью, к которому надо готовиться гораздо более тщательно, чем к посещению врача. Через два часа она уже сидела в архиве больницы Торакс в Фейшесе и оторопело смотрела на четыре карточки женщин с детьми. Только одну из них звали Роза. Роза Дакс. Но у нее был сын, а не дочь. Еще один ложный след.
В семь часов уже темнело. Женщина, о появлении которой извещал ее хриплый кашель, сидела с ребенком на руках в пустынном помещении с высокими потолками. Вошла сестра Рената.
– У доктора Аранды очень много дел, он будет занят до самой ночи.
Ответа она не дождалась, потому что в этот момент женщина потеряла сознание, но, падая, инстинктивно прикрыла новорожденного руками. Когда она пришла в себя, то обнаружила, что лежит в огромном зале на кровати, отделенной от других кроватей чем-то вроде тканевой ширмы, и над ней склонилось юное лицо сестры Ренаты; словно сквозь сон, она услышала, как монашка говорит да, она проснулась, доктор. И снова погрузилась в беспамятство, не в силах даже спросить о своем ребенке. Она не слышала, как доктор Аранда, нахмурив лоб, говорит все очень скверно, не знаю, можно ли что-то сделать; почему она пришла так поздно?
Некому было объяснить ему, что, когда Роза сбежала из Торены, сделав все возможное, чтобы ее муж не смог ее отыскать, она не поехала ни к каким родственникам и даже не связалась с ними. Она поселилась в очень скромном пансионе на Пласета-де-ла-Фонт, в Побле-Сек, и там благополучно разрешилась от бремени с помощью повитухи, которую кто-то из пансиона срочно отыскал поблизости. Мальчик выглядел здоровым и крепким; она дала ему имя Жоан и зарегистрировала как сына матери-одиночки, Жоан Дакс. Потом она написала письмо Ориолу, в котором сообщала Ориол, считаю своей обязанностью известить тебя, что у тебя родилась дочь и что она здорова. Я никогда не привезу тебе дочь, потому что не хочу, чтобы она знала, что ее отец – фашист и трус. Не пытайся найти меня и не посылай никого на поиски: я не живу у твоей тетушки, мы с дочкой справимся со всем сами. Я больше не кашляю. Наверняка это ты вызывал у меня кашель. Прощай навсегда. И, кашляя, она поставила подпись под этим полным лжи посланием в надежде на то, что теперь уж Ориол точно ее не найдет. Тина подумала как это жестоко; но я, пожалуй, сделала бы то же самое. Возможно. Хотя не знаю. Если я не в силах сказать Жорди в лицо, что он сукин сын, что бы я сделала на месте Розы? Поскольку Роза не желала получать на почте деньги, которые наверняка ей посылал Ориол, она стала зарабатывать на жизнь, штопая носки, изготавливая налокотники и наколенники и пытаясь забыть о том, что когда-то была счастлива и думала, что мир прекрасен. Вот чего она не предвидела, так это усиление кашля и лихорадку, которая больше ее не покидала. Поэтому она потратила те немногие деньги, которые ей удалось скопить, на нескончаемое путешествие в Фейшес в надежде, что доктор Аранда проведет тщательное обследование и поможет ей поправить здоровье. Но вместо того, чтобы поправить ей здоровье, смертельно усталый доктор Аранда, который к тому времени уже много часов проработал без перерыва, нахмурил лоб и повторил да, все очень скверно. А почему она спрашивала обо мне?
– Она сказала, что была вашей пациенткой. Вы ее не помните?
– Как я могу помнить всех пациентов, которых… А что с ребенком?
Ребенок выглядел совсем неплохо, словно твердо вознамерился проигнорировать тот факт, что он сын отца-фашиста и больной матери, что оба его родителя приговорены к смерти и приговор скоро будет приведен в исполнение. Малыш Жоан унаследовал все самое хорошее от Ориола и Розы и сладко улыбался, посасывая большой палец.
Доктор тщательно осмотрел младенца: с ним все было в порядке. Он вернул его сестре Ренате, которая приняла малыша на руки, в то время как врач никак не мог избавиться от мысли, что единственное, чего ему по-настоящему хочется, так это вдоволь полакомиться сей ангельского вида молоденькой монашкой; эта девушка, недавно назначенная старшей сестрой, источала такой восхитительный аромат юности, что он совершенно потерял голову; время от времени он ловил себя на том, что, глядя на нее, он живо представляет себе ее обнаженное тело и воображает, как заключает ее в свои объятия, а она улыбается и говорит я люблю тебя, доктор. Сестра Рената удалилась с ребенком на руках, но, прежде чем уйти, бросила на врача сияющий взгляд, такой сияющий, что мужчина решил, что она угадала его мысли, и покраснел. Ему даже в голову не пришло, что монашка просто очень взволнована, поскольку понимает, что ребеночек останется один, если его мать не переживет эту ночь.
Роза пару раз просыпалась, сказала, что сына зовут Жоанет, и под воздействием убедительных интонаций умиротворяющего голоса сестры Ренаты нехотя призналась, что отца мальчика зовут Ориол Фонтельес и что живет он очень далеко.
– Да хоть на краю света, скажи нам, где именно, и мы отыщем его.
– Нет, я не хочу, чтобы ребенок остался с ним.
– Почему?
Приступ кашля. Сестра Рената продолжала поглаживать ее руку и терпеливо ждала, пока больная успокоится. Потом мягко, словно смазывая слова вазелином, повторила:
– Так что, Роза… Почему ты не хочешь, чтобы малыш остался с ним, если он его отец?
– Потому что он… Я не хочу, чтобы мой сын воспитывался под его влиянием.
– Почему ты этого не хочешь?
– Мы мыслим по-разному. Совсем по-разному.
Сестра Рената помолчала. Ну и ну. Потом с недоверием на кончике языка:
– Политические разногласия?
Роза с неимоверным усилием слегка приподнялась на постели и хриплым голосом сказала сестре Ренате поклянись мне, что, если я умру, ты сделаешь все возможное, чтобы отец этого ребенка не смог никогда его найти.
– Клянусь, – сказала монашка-клятвопреступница.
– Спасибо. – Изнеможенная от совершенного усилия, Роза рухнула на постель, и ее взгляд затерялся в горячечном бреду.
– Не бойся, Роза, я с тобой.
Она оставалась с больной до тех пор, пока Роза, совсем обессиленная, не забылась тревожным сном. Тогда монашенка занялась осмотром ее сумки, надеясь найти хоть какую-то зацепку, пока не явилась ее сменщица. И тогда, вместо того чтобы отправиться спать, она прошла в свой рабочий кабинет, взвесила тяжесть грехов на стоявших там весах, сочла, что солгать – это меньший грех, чем бросить новорожденного на произвол судьбы, бросила взгляд туда, где Роза из последних сил боролась за то, чтобы выжить ради своего сына, и заказала телефонный звонок в деревню Торена. В руке у нее была карточка некоего Пере Серральяка, мраморщика из Сорта, проживающего в Торене. В Торене было всего десять телефонов. Ее с большим трудом соединили с телефонисткой; она попросила связать ее с Серральяком, но ей ответили, что у него нет телефона, и сказали, что могут сходить за ним. Тогда она прямо спросила об Ориоле Фонтельесе, и Синтета, телефонистка, крайне взбудораженная всем, что происходило в тот момент в Торене, сказала это учитель, что ли? Вы имеете в виду учителя? И монашка-клятвопреступница инстинктивно потупила взгляд, как, по всей видимости, делала это в присутствии доктора, и спросила так Ориол Фонтельес – учитель? И через несколько секунд добавила я должна с ним поговорить по чрезвычайно важному делу, очень серьезному делу.
Синтета, вся в слезах, не обнаружила учителя в школе и, заметив свет в церкви, подумала, что, может быть, священник… После долгого ожидания и пощелкивания в трубке сестра Рената услышала властный женский голос, который сказал слушаю, с кем я говорю. Сестра Рената объяснила, что ей необходимо во что бы то ни стало связаться с доном Ориолом Фонтельесом. Элизенда колебалась. Она собиралась было уже повесить трубку, но ее остановило природное чутье на важные вещи, хотя в тот момент ей было совсем не до тонкостей восприятия. Сестра Рената настаивала на необходимости разговора непосредственно с сеньором Ориолом Фонтельесом.
– Он не может подойти… Это… Это невозможно, – бесконечно усталый голос Элизенды.
– Но у меня для него крайне важное сообщение.
– Сеньор Ориол Фонтельес только что умер, – ледяной голос Элизенды.
– Простите. Я…
Несмотря на все, что происходило с ней в эту минуту, Элизенда сохраняла самообладание.
– О чем вы хотели с ним поговорить?
– Ну, понимаете… дело в том, что его жена умирает.
– Роза?
– Да. Их сын у нас.
– Но у Ориола Фонтельеса дочь.
– Нет, сын.
Несмотря на все, что в этот момент происходило в Торене, несмотря на все эти поистине ужасные вещи и даже на то, что все четыре общественные лампочки, не выдержав такого напора ненависти и злобы, разом погасли, Элизенда осознала важность известия и, стараясь не думать о звучавших на улице выстрелах, сказала:
– Я – близкий друг семьи. Поэтому я лично позабочусь о мальчике. Я отправлю своих адвокатов по адресу, который вы мне укажете.
Сестра Рената, вожделенная мечта доктора, услышав в этом невозмутимом голосе властные нотки, требующие от нее полного подчинения, повесила трубку, особенно обеспокоенная словом «адвокаты»; она решила, что, видимо, прежде всего ей следует посоветоваться с начальством, и подумала, что ей придется признаться в том, что она солгала у постели больной, а также что если бедная женщина все же выживет, то она не сможет смотреть ей в глаза; при этом она и думать не думала о том, что доктор, когда она рядом, не может оторвать от нее глаз и только и мечтает о том, чтобы провести доскональный осмотр ее тела, а также о том, что в свои двадцать с небольшим, спустя три года после того, как она вступила в орден с твердым намерением полностью посвятить себя служению немощным, она по воле обстоятельств оказалась единственной распорядительницей судьбы младенца.
Было уже темно, когда Тина вышла из больницы, размышляя над тем, что Роза так и не узнала всей правды о муже, который обманывал ее не только с любовницей, но и с тайной войной. Жоан. «Мою дорогую безымянную доченьку» звали Жоан, и в этой больнице его след окончательно теряется, как если бы мальчик умер вместе с Розой. Смятение, в которое ее погрузили сделанные открытия, не позволили Тине расслабиться во время посещения врача, и ее гинеколог, в этот раз необычно молчаливая, проводя осмотр, сделала ей больно, после чего, когда они уже сидели друг напротив друга, долго молчала, устремив взгляд в пустоту, отчего Тине стало совсем не по себе.
– Скажите мне все как есть, доктор.
Врач посмотрела на нее, потом робко, почти незаметно улыбнулась и порывистым движением взяла лежавшие перед ней бумаги, словно защищаясь ими от неведомого врага.
– Необходимо удалить опухоль, – наконец сказала она почти неслышно.
Ну вот, Тина всю жизнь боялась этого мгновения, и теперь этот отвратительный момент наступил. Теперь агрессивная химиотерапия в больших дозах, резкая потеря веса, облысение и смерть.
– Она очень большая?
– Метастаз нет, и это очень хорошо. Но операцию надо делать как можно скорее.
– Но я не взяла с собой пижаму.
Несмотря на все напряжение, доктор улыбнулась. Потом взяла ежедневник, и они определились с датой госпитализации. Врач заверила Тину, что будет все держать под контролем, что химиотерапия не будет слишком агрессивной, что опухоль обнаружена вовремя, я бы сказала, более семидесяти процентов за то, что все обойдется, сюрпризов в таких случаях практически не бывает, что Тине, в общем-то, насколько это возможно в подобной ситуации, даже повезло; и уже в такси, глядя широко раскрытыми глазами в никуда, она повторяла ни фига себе, и она еще говорит, что я должна быть довольна, и ужин с матерью был очень нелегким, особенно когда ей пришлось выдержать заупокойные причитания несчастной бабушки по поводу того, что ее единственный внук исчез, ничего не объяснив, ограничившись лишь коротким, торопливым звонком бабушка, я ухожу в Монтсеррат, а она: что значит «ухожу в Монтсеррат»? А он: я стану монахом. Бабушка подумала, что Арнау шутит, и никому ничего не сказала. Даже дочери не позвонила, поскольку просто-напросто не поверила. И теперь с открытым ртом выслушала подтверждение сей нелепой шутки от своей дурочки Тины, которая позволила бежать ее единственному внуку.
– Мама, не начинай. Так уж случилось, ничего не поделаешь.
– Это ваша вина.
Да, я знаю, что весь мир – моя вина, но думаю, что если Арнау захотел бы поделиться своими мечтами, он бы удивил нас ничуть не меньше, чем тебя.
– В этом нет ничьей вины. Он принял решение взрослого мужчины.
– Вы его плохо воспитали. – После долгого, многозначительного молчания: – Ну а как поживает Жорди?
Рога мне наставляет.
– Хорошо.
– А ты? Что с теми неприятными ощущениями?
Рак груди.
– Ничего, все прошло.
39
Мадам Корин (вне работы Пилар Менгуал) с тревогой посмотрела на даму и двух ее спутников. Она не смогла толком разглядеть лицо сеньоры, поскольку оно было скрыто темной вуалью.
– Вы понимаете, что если я сделаю то, что вы требуете, то потеряю клиента?
– Ваши производственные проблемы меня совершенно не волнуют, – сказал бледный адвокат Газуль, стряхнув на блюдечко пепел.
– А меня очень даже волнуют. – Она повысила голос: – Да что вы о себе возомнили…
– Если вы будете упорствовать, – мягко перебил ее Газуль, не глядя ей в глаза и делая затяжку, – нам не останется ничего иного, как отправиться в полицию, где мы заявим, что, вопреки официальному запрету самого каудильо, Гнездышко продолжает процветать, и укажем его точный адрес; скорее всего, первым делом здесь появится отряд возмущенных фалангистов, которые разнесут все в пух и прах; а потом явится полиция, и тогда мы расскажем о том, что случилось здесь в прошлое Рождество с галисийской девушкой. – Он выплюнул крошку табака и любезно улыбнулся мадам. – Это наше контрпредложение.
Мадам, побледнев от ярости, встала, подошла к одному из шкафчиков, открыла дверцу ключом, который у нее был в руке, и извлекла оттуда другой ключ, с которого свисала бирка с номером пятнадцать; у Элизенды екнуло сердце.
– Третий этаж. – Газуль вырвал ключ у нее из руки. – И бога ради, не шумите.
Полный мужчина незаметно подмигнул слезящимся глазом даме под вуалью, и все трое покинули гостиную Гнездышка, направившись к лестнице, ведущей на третий этаж.
– Черт бы побрал этих благородных сеньор, которые грязнее последней шлюшки, – пробормотала мадам, когда гости покидали гостиную. Все трое резко, как по команде, остановились.
– Что вы сказали? – спросил полный мужчина угрожающим тоном.
– Может, вы еще и злиться мне запретите? – ответила мадам, повысив голос и не демонстрируя ни малейшего страха.
– Оставьте ее, – приказала сеньора Элизенда, направляясь к лестнице. Оба мужчины бросили на мадам Корин самый испепеляющий взгляд, на какой только были способны, и последовали за сеньорой.
Газуль вставил ключ в замочную скважину, открыл дверь, и все трое без всякого предупреждения вошли в комнату. Дон Сантьяго Вилабру Кабестань (из рода Вилабру-Комельес и Кабестань Роуре) усердно занимался куннилингусом с молодой пышнотелой женщиной, которую Элизенда сразу узнала: шлюха Рекасенс. Тита, сестра Пили, Милонга, как ее все называют. Сеньор Вилабру, голый, с готовым к подвигам членом, испуганно обернулся. И тут же смертельно побледнел, увидев свою дражайшую супругу, которую не навещал уже пару месяцев, а может быть, и больше; Элизенда, убрав вуаль с лица, решительно направилась к сладкой парочке, в то время как Тита Рекасенс, не понимая толком, что происходит, судорожно сводила ноги. Сантьяго Вилабру прикрыл член обеими руками, а Тита тем временем спрыгнула с кровати с намерением исчезнуть.
– Не двигайся, – властно произнесла Элизенда.
Тайные любовники были так ошеломлены, что оказались не в состоянии контратаковать. Тита застыла на месте, а Сантьяго остался стоять, бледный, красный, зеленый, с единственным желанием оказаться где-нибудь в другом месте.
– Ну а теперь, – сказала ему Элизенда, – ты подпишешь пару бумаг.
– Но что происходит? Чего ты хочешь?
– Сеньор Карретеро, – заявила дама, указывая на сопровождавшего ее полного мужчину, – составит нотариальный акт, удостоверяющий данную ситуацию.
– Ах, ты хочешь меня шантажировать…
– Не знаю. – И обращаясь к Тите Рекасенс: – Мой муж приходит сюда два раза в неделю: один раз – к тебе, а другой – к проститутке. – С любезной улыбкой: – Будь осторожна, возможно, он тебя уже заразил какой-нибудь дурной болезнью, потому что ему нравятся женщины, поднаторевшие в своем нелегком труде.
– Да ты…
– Да. Сказать тебе, кто есть ты?
– Минуточку, сейчас я оденусь.
– Нет. Стой где стоишь.
– И не подумаю.
– Очень хорошо. – Обращаясь к Тите Рекасенс: – У тебя не смазался макияж, красотка? – И сухим тоном – Газулю: – Пусть войдут фотографы.
Однако никакие фотографы не вошли, Тита Рекасенс была отправлена в ванную комнату, а сеньор Сантьяго Вилабру Кабестань (из рода Вилабру-Комельес и Кабестань Роуре) сделал все, что от него потребовали, оставаясь при этом в чем мать родила. В первом документе речь шла об усыновлении четой Вилабру-и-Вилабру ребенка по имени Марсел, родители неизвестны.
– Это еще что такое?
– Не твое дело.
– Но что это за история?
– Подписывай молча.
Газуль протянул ему ручку, и для подписи документа Сантьяго Вилабру пришлось воспользоваться ложем греховной любви, на котором он совершенно нагой засвидетельствовал свое горячее желание усыновить ребенка.
– Что ты со мной делаешь, Элизенда?
– Что ты делал со мной все это время, с тех пор как мы вернулись? Да и раньше тоже.
Во втором документе речь шла о том, что сеньора Элизенда Вилабру Рамис (из семейства Вилабру из Торены и Пилар Рамис из Тирвии, той еще шлюхи, но лучше я промолчу из уважения к бедному Анселму) является бенефициаром по завещанию всего состояния сеньора Сантьяго, включающего в себя пять объектов недвижимого имущества в Барселоне, значительные земельные угодья в долине Ассуа и других районах комарки, а также крупные денежные капиталы, которые хоть и подверглись в последнее время заметному сокращению, но пока не в особо угрожающих масштабах, ибо сеньор Сантьяго Вилабру Кабестань (из рода Вилабру-Комельес и Кабестань Роуре) в свое время принял решение, что ему удобнее жить на ренту. Подписано и удостоверено в Гнездышке двадцатого ноября тысяча девятьсот сорок четвертого года.
Газуль тут же выхватил у Сантьяго ручку, словно опасаясь, что тот спрячет ее в каком-то непредсказуемом месте.
– Лучше тебе больше не приезжать в Торену, – сказала Элизенда. – А если все же такая необходимость возникнет, предупреждай заранее.
– У меня есть полное право приезжать туда, когда мне захочется, – решил он вставить для порядка. – Например, чтобы увидеться со своим сыном, разве нет?
– Я купила себе квартиру в Барселоне. Ты можешь оставить себе квартиру в Саррье, и будь добр, постарайся не приезжать в Торену. Даже ради того, чтобы взглянуть на моего сына.
– Вы получите копию нотариального акта, – безразличным тоном проинформировал его нотариус Карретеро.
– Я брошу ее в огонь.
– Разумеется, вы можете спокойно это сделать. – Юрист посмотрел ему в глаза и впервые за весь вечер улыбнулся и покачал головой. – Наверняка так вам будет приятнее. – К Элизенде: – Я закончил, сеньора.
– Вы можете продолжить свои милые игры, – любезно сказала Элизенда. – Хочешь, я тебе напомню, на чем вы остановились?
40
Небо было усыпано звездами, так что при их свете можно было передвигаться совершенно спокойно, не боясь на что-нибудь наткнуться. Пожалуй, он никогда не видел его таким чистым и ясным. Хлынувший во второй половине дня ливень до блеска отмыл все вокруг, не оставив ни пылинки. Он посмотрел на небо и сказал себе как бы мне со счастливым сердцем хотелось любоваться этим чудом. Уже давно все внутри у него обливалось слезами, и ему было неуютно оттого, что в мире существуют такие ошеломительные, берущие за душу картины, потому что он не мог разделить свои впечатления ни с Элизендой, которая уверена, что я спокойно сплю в своей школе, ни с Розой, которая не знает, что не такой уж я и трус, ни с незнакомой мне доченькой. Прежде чем вступить на белую ленту дороги на Шивирро у подножия скалы Фитера, возле того места, где заканчивается тропа, спускающая с горы Комета, командир взвода, угрюмый астурийский шахтер с блестящими глазами, остановился так резко, что Ориол, погруженный в свои переживания, буквально уткнулся в него носом. Весь взвод, как по команде, разом присел и замер на месте, воцарилась мертвая тишина, и Ориол понял, что эти люди давно привыкли при необходимости безропотно превращаться в камень. Вполне возможно, что внутри у них тоже все обливается слезами; но они умели полностью сливаться с окружающим пейзажем. Он невольно сделал глубокий вздох, и тут же чья-то рука нервно ущипнула его за спину, давая понять, что лучше молча умереть от удушья, чем перестать быть камнем. И тут он понял, в чем причина их остановки. По дороге, на которую они собирались выйти, приближался звук шагов и веселый перезвон колокольчиков. Козы? Овцы? Коровы? Задолго до того, как он смог что-то разглядеть, послышался хриплый голос пастуха. Когда же его взгляд немного привык к более светлой, чем окружающий пейзаж, ленте дороги, он увидел, что веселенькими овечками была целая рота полицейских, а пастух был в чине капитана. С какой стати они патрулируют местность на такой высоте? Наверняка в голове военного командования произошли какие-то изменения, потому что до этого момента они систематически избегали подобных рейдов по Сьерра-д’Алтарс и лесным массивам, поскольку опасались, что на такой пересеченной местности не успеют отреагировать на внезапное нападение и понесут серьезные потери.
Вооруженная до зубов отара овец прошла мимо немногочисленного взвода маки, основательно усиленного местным школьным учителем, который дрожал как осиновый лист. Отару сопровождал густой терпкий запах, который, словно эхо, возвещал о ее появлении. После долгого ожидания командир взвода поднялся. Ориол подошел к нему.
– Они ходят тут уже много часов. Похоже, эта рота сбилась с пути, – шепнул он ему на ухо.
– Почему ты так думаешь?
– Потому что они идут в противоположную от Сорта сторону, бредут ночью и при этом еще засветло попали под дождь.
– Откуда ты это знаешь?
– Разве ты не заметил, как они воняют мокрой шерстью? Они точно заблудились!
Пулемет и восемь патронных лент, по три ручных гранаты на каждого и восемь винтовок, нерасторопных, но надежных. Взвод из десяти человек бесшумно повернул назад и устроил засаду на повороте на Соланет. Они установили пулеметный расчет с двумя пулеметчиками прямо на дороге, скрыв его за скалистыми валунами, что чередой спускались к месту их дислокации. Сигналом послужат два выстрела, которые нейтрализуют пастуха и подпаска, командира и его помощника; они надеялись, что, оставшись без раздающего приказы начальства, жандармы бросятся врассыпную вниз по горе, пытаясь увернуться от пулеметных очередей и выстрелов из восьми винтовок. Это была чистой воды импровизация, результат которой трудно было предугадать, и командиру взвода очень хотелось, чтобы лейтенант Марко находился сейчас рядом и одобрил тактический план учителя, который, похоже, оказался гораздо более смекалистым, чем можно было подумать.
Самое сложное – совладать с пальцами, которым не терпелось нажать на курок еще до того, как вся полицейская рота покажется из-за поворота. Командир прицелился в пастуха, послышались первые выстрелы, и пулемет начал изрыгать смертоносные очереди. Ориол Фонтельес, учитель младших классов, разумеется, не знал, что с военной точки зрения лучший способ планирования атаки состоит в том, чтобы предвидеть реакцию противника и превратиться в его слепую судьбу, как сестра Рената, вожделенная мечта доктора. Ориол не знал этого, потому что никогда не принимал участия в реальных военных действиях, а в момент боевого крещения человеку никто не будет объяснять таких тонкостей, хотя, судя по всему, у меня явно есть склонность к решению стратегических задач. Ты ведь не ожидала этого? Вот видишь, я изучал педагогику, а мог бы прославиться… Хотя сейчас мне не до шуток, Роза. Кому я пишу, тебе или нашей дочке? Не знаю. Но как бы то ни было, я не могу не рассказать тебе, что был совершенно ошеломлен, видя, как при первых же выстрелах жандармы действительно бросились врассыпную, беспорядочно, наугад паля по внезапно возникшим из-за буков призракам и питая напрасную надежду, что капитан или лейтенант скажут им, что надо делать (пастух – с пулей в гортани, а подпасок – в приступе паники, ни жив ни мертв, пластом на земле); они стремглав метнулись вниз по склону, огибая буки и надеясь таким образом избежать страшной участи, ибо снизу никаких выстрелов не доносилось. Еще тридцать исполненных призрачных надежд шагов, и они послушно рухнули в овраг Форкальетс, издавая пронзительные крики, заглушавшие шум выстрелов, которые сыпались на них с обрыва, и распластали свою память на белых камнях пропасти, словно осознав, что именно из этих каменных плит с бесконечным терпением вырубает свои надгробия Пере Серральяк-каменотес. Словно спеша завершить цикл. Словно тоскуя по теплу студеной могилы.
Ориол стрелял из маузера. Он был уверен, что убил двоих или троих. Троих. И не испытывал ни малейших угрызений совести, потому что перед его взором сияли огромные глаза Вентуреты, которые смотрели на него в зале мэрии, видимо в надежде, что учитель проявит смелость и спасет его. И еще он слышал хрип смертельно напуганного крестьянина из Монтардита, их маяка; но кого он больше всего мечтал видеть перед собой, так это Валенти Таргу. Он бы разрядил с десяток обойм в его левый глаз, чтобы хоть немного высветлить свои воспоминания о Вентурете.
На следующий день, после долгих часов поисков (местность и доступ к ней были совсем непростыми), власти подвели итог подлой и предательской операции несуществующих партизан, врагов Отечества: шестнадцать человек с размозженными черепами на дне оврага Форкальетс, капрал, который, как фаршированная маслина, завис на ветке бука, когда тоже радостно спешил расплющить себе голову на дне пропасти, четырнадцать человек, убитых выстрелами из винтовки, семь обездвиженных раненых, а остальные – белые от ужаса, убедившиеся в том, что провести ночь одному в лесу или на голой горе под открытым небом, судорожно сжимая маузер, до рези в глазах вглядываясь в темноту, гораздо страшнее, чем просто умереть от холода. Ну и плюс к этому капитан с разверзнутым ртом и несчастный подпасок, все еще парализованный от страха и от мысли о крестном пути, который ему предстояло ныне преодолеть, ибо он не мог предъявить ни единой охранной грамоты хотя бы в виде легкой раны, что смягчила бы позор его малодушия.
Лейтенант Марко смотрел на командира взвода и на Ориола Фонтельеса. Ученик генерала и всезнайка.
– Двенадцать человек против более чем восьмидесяти врагов. – Он взглянул на своего товарища. – Безрассудство никогда не считалось воинской добродетелью.
– Но мы действовали наверняка. Место было просто идеальное. – Указывая на всезнайку: – Понимаете, он здорово разбирается во всех этих маневрах. – И с некоторым восхищением: – Это была его идея.
– Это не его дело, – сухо сказал Марко, все еще мрачно глядя перед собой. Потом сделал знак, чтобы они следовали за ним.
Они вошли в самое просторное помещение дома, пол которого одновременно служил потолком хлева; когда-то, во времена нищенские, но гораздо более счастливые, содержавшаяся там скотина обогревала своим теплом тех, кто наверху дрожал от холода. Там их уже давно поджидали десять обветренных лиц. Злых лиц. Лейтенант Марко без проволочек объяснил им, в чем состоит Большая Операция, почему следует зажечь тысячу очагов напряженности в зоне проведения акции и что практически операция уже началась, поскольку этой ночью была ликвидирована целая рота жандармерии. Теперь нужно многократно множить подобные акции, заставить их сильно нервничать везде и повсюду.
– А в чем все-таки состоит Большая Операция?
– Армия маки захватит полуостров и свергнет фашистскую диктатуру.
Молчание. Задача была гигантской и немыслимой для людей, измотанных каждодневным бегством от врага.
– И что, у маки так много людей?
– Мы привлекаем людей извне. И изнутри тоже. – Лейтенант инстинктивно взглянул на Ориола, но тут же отвел глаза. – Это будут очень напряженные недели.
– А когда все начнется? И откуда? Кто руководит операцией? Какова возможность того, что?.. Что предполагается затем? Они рассчитывают на то, что народ восстанет? А они знают, что люди устали? Они все взвесили?
– Больше мне ничего не известно. У меня только приказ сообщить вам об операции.
– А почему мы не можем присоединиться к армии маки?
– Наша миссия состоит в том, чтобы превратиться в огромный гнойник на фашистской заднице, как сейчас, только еще больше.
Вот так, доченька: играешь со смертью, чтобы в конечном счете превратиться в прыщ на заднице. Итак, моя великая цель на данный момент – стать мерзким фурункулом на заднице франкистской армии и всех фашистов, вместе взятых.
Спустя двадцать восемь лет после описанных событий в овраге Форкальетс уже не оставалось никаких останков погибших в хитроумной ловушке учителя из Торены. Сын Пере Серральяка давно закупал мрамор у оптовика из Сеу, который, в свою очередь, делал закупки в самых разных местах. Много снега выпало с той поры. Марсел безукоризненным движением притормозил лыжи как раз в том месте, где его отец когда-то порекомендовал командовавшему взводом астурийскому шахтеру установить пулемет: посередине дороги, чтобы перерезать путь пастуху и подпаску и вызвать разброд, шатание и панику в оккупационном овечьем стаде.
– Здесь. Вот здесь, – сказал Марсел. С ним был не пулемет, а девушка с длинными черными волосами, прикрытыми желтой вязаной шапочкой; она затормозила в точности в том месте, в котором велел Марсел.
– Прекрасно. Думаю, ты уже можешь кататься самостоятельно.
– Но мы же не на трассе, правда?
– Не волнуйся, я знаю местность как свои пять пальцев.
Как он тосковал по Кике. Они вместе прокладывали новые маршруты, расставляли флажки для лыжных гонок, обсуждали подъемную мощность канатной дороги и девичьи ножки, и жизнь была юной и прекрасной. Но однажды, после того, что случилось в дýше, Кике вдруг, не сказав ему ни слова, исчез. Не вдаваясь в детали, мама объяснила, что на инструктора завели какое-то дело в Санкт-Морице, и если это было действительно так, то он правильно сделал, что уехал, но ведь мог же этот сукин сын хоть словечко ему сказать. Или два. Ну хоть что-то. Потому что как бы Марсел ему ни завидовал, как бы ни презирал и даже ненавидел, он любил его. И Кике для него всегда останется Кике, его наставником в искусстве секса, в сексе как искусстве в душевых кабинках на Туке, а позднее – в Белом домике или в Гнездышке, где он познакомил юношу с настоящими женщинами, не такими, как бесцветные подружки подпольных плейбоев. И вдруг вот так бесследно исчезнуть, будто его и не было вовсе, дурака этакого.
– Ну что, возвращаемся?
– Подожди немножко. Разве все это не прекрасно?
Она ответила, что да, прекрасно. Марсел Вилабру жадным взором обозревал пейзаж, который так любил. Разумеется, он не мог знать о маршруте, проложенном здесь Ориолом Фонтельесом, его отцом, который в свое время с неизбывным страхом проделал этот путь более пятидесяти раз, и всякий раз ночью, влача на себе легкое или полулегкое вооружение, проклиная тяжесть ящика боеприпасов, восхищаясь твердокаменным молчанием партизан, каждый из которых таил в глубине души свой мир боли, забвения и тоски, не позволяя ему вырваться наружу из страха, что глаза утратят меткость, если слезы затуманят взор.
– Да, очень красиво. Ну что, обратно?
Тогда он поцеловал ее; получилось неловко, сбоку – из-за лыж. Но это был глубокий, страстный поцелуй в губы. Видя, что девушка ему ответила, он вдруг осознал, что впервые с тех пор, как женился на Мерче, если не считать проституток и случайных нордических подружек, целует женщину, чье имя ему известно и в которую он вполне может влюбиться. Он выдержал целый долгий год бесконечной самоотверженной верности. Ну хорошо, сбросим со счетов Баскомпте и еще эту, как ее, Нину. Ну и еще кое-кого.
– Пошли обратно, не делай глупостей, – сказала она, отстраняясь от него и ступая на лыжню.
Марсел подумал ну да, глупости, но ты сама меня провоцируешь. Во время спуска на лыжную базу они не проронили ни слова; молча скользили по склону, где когда-то выстрел из винтовки разнес голову пастуха-капитана; молча огибали огромную ель, возле которой однажды ночью рыдал Ориол Фонтельес, чувствовавший, что силы покидают его, поскольку вот уже шесть суток кряду ему удавалось поспать не больше трех часов. Внизу их ждала Мерче, немного беременная, слегка утомленная, слегка обеспокоенная, потому что уже половина третьего и я умираю от голода. То ли по причине конспиративного поцелуя или по какой другой, но Марсел не возражал и не заявлял, что хочет еще покататься, а воспитанно попрощался с девушкой с черными волосами, подарившей ему тайный поцелуй, а также еще с парой клиентов и покорно направился вслед за Мерче к машине.
Двенадцатичасовая месса в церкви Сант-Пере в Торене, на которой присутствовали все местные уважаемые люди, то есть сеньора Элизенда Вилабру из дома Грават, алькальд и руководитель местного отделения движения сеньор Валенти Тарга, Ориол Фонтельес, заместитель руководителя местного отделения Фаланги и штатный учитель деревни, верный Хасинто Мас, шофер со шрамом, специализирующийся на хранении секретов сеньоры, Аркадио Гомес Пье, охранник с кудрявыми волосами, известный своей преданностью сеньору Валенти, и Баланзо, охранник с тонкими усиками, а также еще дюжина-другая верноподданных, всегда безропотно присутствующих на всех мероприятиях, проводимых первым в истории деревни алькальдом, выполнявшим лишь обязанности алькальда, завершилась кратким собранием в тени атриума, к которому с удовольствием присоединился отец Аурели Бага и на котором алькальд Тарга раздавал благословения и выносил приговоры. О, как отрадно повелевать, когда самое твое существо источает власть или, как сказал бы отец Бага, когда все признают власть, которую нам дарует Бог. И вот так, говоря да, нет, посмотрим и тому подобное, они убивали время до тех пор, пока у них не разыгрался аппетит и они не отправились отведать вермута в таверну Мареса, что отнюдь не порадовало хозяина заведения, ибо сии еженедельные нашествия были для него сущим разорением: ведь счет Тарге он предъявлять не осмеливался. Сеньора же Элизенда, которая никогда, ни под каким предлогом не заходила в местные питейные заведения, отправилась домой, поскольку это был один из немногих дней, когда она принимала у себя управляющего и могла спокойно поговорить о скотине, тоннах сена, стоимости фунта мяса, состоянии здоровья коров и овец и о возможности покупки земель, расположенных за Батльиу. Священник отвел Ориола в сторону и с самыми добрыми намерениями, горя желанием помочь сему добропорядочному человеку, спросил его, может ли он что-то сделать, чтобы поспособствовать воссоединению семьи.
– Мне кажется, это вас не касается, святой отец. Моя жена уехала из-за проблем со здоровьем.
– Однако в деревне говорят, что причина в ином. Не следует подавать людям дурной пример. К тому же я нахожу, что вы просто чахнете на глазах. Если вы пожелаете облегчить свою душу, я…
– Вы не имеете никакого права вмешиваться в мои дела. – Ориол с некоторым презрением посмотрел в глаза священника и решил солгать: – К тому же мы с женой время от времени видимся.
– Но…
– Разве вы не слышали, как она кашляет? – Учитель повысил голос, но не для демонстрации власти, которой его наделил Господь (это было совсем не так) или которую источало самое его существо (и это было не так), а просто выражая свое раздражение. – Разве вы никогда не обращали внимания, какая она бледная?..
– Но почему в таком случае ты не последовал за ней, сын мой? Долг всякого добропорядочного супруга…
– Всего хорошего, святой отец. До следующего воскресенья, если только я смогу прийти.
Еще один враг, доченька. Как же легко я внушаю людям ненависть.
Валенти сказал присутствующим, чтобы они шли в бар, а сам остался с Ориолом, подхватил его под руку, и они совершили променад по Средней улице, как два старых добрых приятеля; алькальд немного выждал, пока Ориол справился со своим раздражением.
– Не обращай на него внимания, – сказал он, имея в виду священника, – ты же знаешь, здесь всяк по-своему с ума сходит.
Ориол не ответил. Валенти остановился и взглянул на него:
– Знаешь новость?
– Да, об этом все только и говорят. – Учитель изобразил крайнюю озабоченность. – Что, целая рота? Сто человек?
– Восемьдесят. Кое-кто выжил. Похоже, их атаковал отряд из более чем сотни маки.
– Откуда же взялось столько народу?
– А ты где был вчера? Я тебя в деревне не видел.
– Ну как, роту истреблял.
– Даже в шутку никогда такого не говори.
– А ты что, контролируешь каждый мой шаг?
– Нет. – Алькальд замедлил шаг, не отводя пристального взгляда от Ориола. – Но, возможно, мне придется этим заняться. – Властным тоном: – После обеда мы должны сообщить жандармерии обо всем, что видели и слышали этой ночью.
– Но я ничего не слышал, я сплю как убитый.
– Мои люди говорят, что было отмечено какое-то движения в окрестностях деревни. Ты что-то заметил?
– Я же сказал тебе, что ничего не видел и не слышал.
Остаток пути они проделали в полном молчании. Чтобы избавиться от вдруг поселившегося у него внутри странного зуда, Ориол сказал:
– В любом случае я, разумеется, в полном распоряжении властей.
Валенти улыбнулся. Возможно, это было единственное, что он хотел услышать.
41
Оно происходит от латинского baptismus, которое в свою очередь происходит от древнегреческого baptismys, что означает «погружение в воду». Таков, братья, символический смысл сего таинства: омыть, очистить душу, что является в сей мир мертвой по причине первородного греха. А посему все, что можно сказать об акте крещения, – это что он состоит в омовении тела, которое предваряет и символизирует очищение, происходящее в душе неофита. Именно так его определил святой Фома Аквинский, дав имя внешнему омовению тела, осуществляемому в форме, предписанной словами Sacramentum regenerationis per aquam in verbo.
– Святой отец…
– Да. В заключение хочу лишь напомнить, что одна из истин веры, определенная на Священном тридентском соборе, заключается в том, что принятие таинства крещения совершенно необходимо для спасения души, хотя Святая Мать Церковь, сострадательная и понимающая, различает три вида крещения в зависимости от того, каким образом осуществляется сие таинство, а именно…
– Святой отец…
– Минуточку. Итак, это крещение водой (или fluminis), крещение желанием (flaminis) и крещение кровью (sanguinis)…
Кровью, твоей кровью, Ориол. Ты себя обессмертил, и я через тебя…
– Послушайте, святой отец…
– Да-да. Как вы собираетесь окрестить ребенка?
– Сержи, – сказала Мерче.
Ориол, подумала Элизенда, которая была крестной матерью. Для меня ты всегда будешь Ориолом. Дорогой, у тебя уже внук. Кровь от крови твоей. Быть может, хоть так ты сможешь простить меня. Ты знаешь, доктор Комбалия говорит, что, возможно, у меня диабет. Завтра я должна пойти… Я, я крестная мать, конечно я.
– В таком случае будьте добры подойти сюда, сеньора, и принесите сюда сию страждущую крохотную душу, молящую о вступлении в лоно церкви праведников.
Сеньора Элизенда приблизилась к крестильной купели с внуком фалангиста Ориола Фонтельеса на руках. Тот же нос. Тот же изгиб губ. Он похож на него даже больше, чем Марсел. Как это люди не замечают? Хотя, возможно, никто уже не помнит лица моего тайного…
– Сержи, окрещаю тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Когда отец Релья сказал Сержи, он имел в виду Сержи Вилабру (из Вилабру-Комельес и Кабестань Роуре и Вилабру из Торены и Пилар Рамис из Тирвии, той еще шлюхи, но лучше я промолчу из уважения к бедному Анселму, предполагаемому теоретическому прадеду младенца) и Сентельес-Англезола (из Сентельес-Англезола, состоящих в родстве с семьей Кардона-Англезола по линии Англезола и с семьей Эриль де Сентменат, поскольку мать Мерче – дочь Эдуардо Эриля де Сентмената, который через пять месяцев заработает грудную жабу по причине краха «Африканской древесины», а возможно, из-за назревающего уже сейчас скандала с банком «Понент»). Итак, отец Релья сказал Сержи, я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Правда, на самом деле он сказал Сержи, ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
– Аминь, – хором ответили восемьдесят три человека, собравшиеся на скромную церемонию в приходской церкви Сант-Пере в Торене, куда им всем волей-неволей пришлось приехать, поскольку этой взбалмошной Вилабру нравится доставлять людям неудобства и заставлять их ступать по коровьим лепешкам, в то время как гораздо логичнее было бы провести обряд крещения в барселонском кафедральном соборе. Так нет же, изволь ехать в тмутаракань. А дело это нешуточное: потрать целый день, возьми машину и будь добр выпачкать туфли в деревенской грязи. Аминь, хором ответили восемьдесят три приглашенных с улыбкой на лицах. Этим восьмидесяти трем приглашенным было глубоко наплевать на Сержи-Ориола. Двадцать шесть процентов из них находились там лишь для того, чтобы их увидела сеньора Элизенда, выступавшая в качестве крестной матери своего первого внука, хотя в его жилах не было ни капли ее крови. Двадцать целых пять десятых процента хотели, чтобы Марсел Вилабру-и-Вилабру увидел их на крестинах своего первого сына, пусть их у вас будет еще много-много, сеньор Вилабру. Менее девятнадцати процентов (если точнее, то восемнадцать целых семь десятых) были заинтересованы в том, чтобы их увидело семейство Сентельес-Англезола-и-Эриль, хоть целиком, хоть в лице представителя одной из ветвей благородного рода: политической (привилегированный доступ к информации о реальной ситуации в Сахаре), экономической (угроза идиота-инспектора, не имеющего никакого представления об истинном положении дел, поскольку он слишком молод и у него ветер гуляет в голове. Да он мне в офисе все вверх дном перевернул, черт бы его побрал!), сентиментальной (да, я люблю Бегонью Сентельес-Англезолу Аужер, которая приходится Мерче кузиной по линии Сентельес-Англезола и Аужер, поскольку Аужер – это те же Эриль из рода Эриль-Казассес, но только она гораздо красивее и неприступнее, чем Мерче. Нет, вряд ли она девственница. Думаю, что нет. Но какая разница, дружище). Возможно, самую компактную группу последнего блока составляли подруги Мерче, все, разумеется, очаровательные как на подбор, которые думали какая смелая эта Мерче, но ведь это так вульгарно заводить ребенка. Из оставшихся тридцати четырех целых восьми десятых процента половину представляли прямые родственники, присутствие которых было обязательно, а остальную часть – смешанная публика, среди которой выделялись совершенно особые случаи, как, например, Хасинто Мас; впрочем, последнему в любом случае непременно надо было в этот день находиться в Торене, ибо назавтра он должен был везти сеньору к врачу, а потом, вне всякого сомнения, к какому-нибудь канонику или епископу; ведь с тех пор, как она не спит с этим сукиным сыном Кике Эстеве, она у меня стала настоящей богомолицей. Надо сказать, Хасинто Мас был единственным из присутствующих (ибо адвокат Газуль лежал в постели с гриппом), то есть одной целой двумя сотыми процента из пришедших на крестины Сержи Вилабру (из Вилабру-Комельес и Кабестань Роуре и из Вилабру из Торены и Пилар Рамис из Тирвии, той еще шлюхи, но лучше я промолчу из уважения к бедному Анселму, предполагаемому теоретическому прадеду младенца) и Сентельес-Англезола (из Сентельес-Англезола, состоящих в родстве с семьей Кардона-Англезола по линии Англезола и с семейством Эриль де Сентменат, поскольку мать Мерче – дочь Эдуардо Эриля де Сентмената, который через три недели после первого приступа грудной жабы умрет, бедняга, от инфаркта на фоне разразившегося скандала с банком «Понент»), кто знал, что отец новорожденного, Марсел, не родной сын сеньоры и что его в свое время непонятно по каким причинам забрали из туберкулезной больницы в Фейшесе. Хасинто Мас знал о своей хозяйке все: знал о ее достоинствах и недостатках, страхах и радостях, моментах слабости и вспышках гнева. И даже о великом обмане. И вплоть до недавнего времени она была благородной, справедливой и элегантной. И для него никогда не составляло никакого труда беззаветно служить ей – служить ей в качестве раба, ибо она была богиней. Я люблю тебя, Элизенда. Но в последнее время ты все чаще ищешь повод, чтобы побранить меня. Уже не очень хорошо, Хасинто, ты все делаешь очень хорошо, а почему ты остановился здесь, осторожно, не тормози так резко, почему ты не сказал мне, что я забыла пальто, ты что, в облаках витаешь, Хасинто, черт возьми. Любая моя самая незначительная оплошность вызывает ее недовольство, да-да. Но я все равно люблю тебя, несмотря ни на что: ты стареешь, Элизенда, и не отдаешь себе отчета в том, что у меня тоже есть сердце. Или что, я для тебя не важнее машины? Послушай, я не знаю, по какой причине ты усыновила этого ребенка в те безумные времена, когда маки вовсю распоясались, и почему ты отправилась за ним в Фейшес. Если для этого была какая-то конкретная причина, рано или поздно я ее выявлю. Мне не нравится, что у тебя есть от меня секреты, и это после того, как я столько лет подтирал дерьмо за всем твоим семейством. Особенно за мальчишкой. Аминь.
По завершении церемонии все вышли из церкви на благодатное солнышко с улыбками на лицах, ибо все были несказанно рады тому, что Сержи Вилабру (из Вилабру-Комельес и Кабестань Роуре и Вилабру из Торены и Пилар Рамис из Тирвии, той еще шлюхи, но лучше я промолчу из уважения к бедному Анселму, предполагаемому теоретическому прадеду младенца) и Сентельес-Англезола (из Сентельес-Англезола, состоящих в родстве с семейством Кардона-Англезола по линии Англезола и с семейством Эриль де Сентменат, поскольку мать Мерче – дочь Эдуардо Эриля де Сентмената, о котором, когда он уже покинул сей мир, пошел слух, что инфаркта никакого не было, что это было самоубийство) столь решительным образом, даже не заплакав, вступил в лоно воинствующей Церкви Христовой.
42
Если бы не эта ужасная война, некоторые вещи вызывали бы у меня одновременно смех и слезы. Сегодня я расскажу тебе сказку, доченька. Все началось, когда я спал как убитый (поскольку в последнее время я сплю очень мало, то могу провалиться в сон где угодно, даже когда веду мотоцикл). Так вот, мне приснился мужчина, который посреди леса распиливал ствол дерева, и, когда я спросил его зачем ты, товарищ, его распиливаешь, он ответил для того, чтобы вам было где укрыться, когда вас будут преследовать враги. Я знал, что это сон, поэтому не очень испугался. А потом этот человек начал распиливать дверь дома; это была дверь школы, которая сейчас служит мне домом. И я спросил его а зачем ты распиливаешь дверь дома, товарищ? И он сказал чтобы облегчить труд тех, кто будет тебя преследовать. И тут я проснулся. Открыл глаза и продолжал лежать неподвижно, словно и не просыпался: этому я научился здесь, в школе. Кто-то пилил дверь. Я испугался, потому что я совсем не храбрец, доченька. После долгих колебаний на цыпочках подошел к двери и понял, что ее не пилят, а царапают. И тогда я вспомнил… С тобой никогда такого не бывало, доченька: внезапно у тебя в голове с удивительной отчетливостью возникает далекое воспоминание, о котором ты давно забыл, и тебе кажется, что это произошло буквально вчера? Вот так и случилось со мной. Я резко, но тихо открыл дверь, и знаешь, кого я там увидел?
Тина разглядывала рисунок собаки с длинной шерстью, высунутым наружу языком и внимательным взглядом; ее голова была повернута в сторону, откуда, по всей видимости, исходил какой-то шум. Как же хорошо рисовал Фонтельес. Знаю я кого-нибудь, у кого есть сканер?
Прошло полгода, доченька, полгода с тех пор, как Ахилл провел здесь, в школе, десять дней, молчаливый, незаметный, преданный защитник детей… И вот он вернулся, такой же молчаливый, но теперь ужасно грязный, со спутанной шерстью, с язвами на лапах от бесконечного, безостановочного бега, тощий, как бумажный лист. Он лизнул мне руку и вошел будто к себе домой, осмотрел все углы, взбежал по лестнице на чердак и, повизгивая, уселся у двери.
– Ты что, потерял их? Где они?
Он снова лизнул меня, потерся о мои ноги, словно кот, и тут я догадался, что он, должно быть, очень голоден, и дал ему кусок хлеба с колбасой, которые предназначались мне на завтрак. Я никогда не видел, чтобы ели так быстро. Никогда, доченька. Потом бедное животное рухнуло на пол в углу и заснуло мертвым сном. Вероятно, пес впервые заснул в безопасном месте после долгих месяцев скитаний.
Позднее лейтенант Марко, с которым мне хотелось бы, чтобы ты познакомилась, когда его снова можно будет называть Жоаном Эспландиу из дома Вентура, поведал мне, что та семья из Лиона почти дошла до португальской границы; но в двух шагах от Бейра-Алты автомобиль, в котором ехала семья и проводник, остановили, потому что кто-то донес на проводника. Доченька моя, делай все что угодно в жизни, но никогда не становись доносчицей. Твоя мама объяснит тебе, что это значит. Я все время думаю о полных страха глазах Ива и Фабриса, особенно теперь, когда знаю, что злой людоед из сказки все-таки схватил и вот-вот съест их. Лейтенант Марко сказал мне, что семью, фамилия которой мне так и неизвестна, отправили обратно во Францию Третьего рейха, и там их погрузили в один из поездов, заполненных евреями, которые направлялись в Германию, в концентрационный лагерь в Дахау, откуда, как говорят (хотя я отказываюсь в это верить), никто не выходит живым. Бедные дети: медведь схватил их, когда они уже почти добрались до цели. Бедные мои дети. Так что Ахилл очень издалека вернулся в этот забытый богом уголок в Пиренеях, место, где он, возможно, наслаждался единственными днями отдыха за все время своей долгой одиссеи.
– Откуда взялся этот пес?
– Это беспризорная собака. Я ее приютил у себя.
– Неплохой песик.
– Да.
– Породистый.
– Ты так думаешь?
– Да, это спаниель. Интересно, что он тут делает?
– Должно быть, потерялся.
– Здесь? Как это пес мог потеряться здесь? – с недоверием спросил Валенти Тарга. – В этих чертовых горах? Что, бродил в зарослях, как дикий кабан?
Засунув руки в карманы и откинувшись на спинку стула, он терпеливо ждал, пока Ориол закончит просматривать документы. В кабинет вошел Баланзо, мужчина с тонкими усиками, но, повинуясь энергичному жесту Тарги, тут же закрыл за собой дверь.
– Но я не адвокат, – сказал Ориол, подняв голову от бумаг и внутренне содрогнувшись.
– Это тебе для ознакомления. Если хочешь, можешь сделать то же самое.
Это был иск сеньора Валенти Тарги, алькальда и руководителя местного отделения движения, выдвинутый против Манела Карманиу, жителя Торены, проявляющего враждебность к режиму, двоюродного брата Вентуры, свояка лейтенанта Марко; во исполнение сего искового заявления вышеупомянутый Карманиу лишается принадлежащих ему трех гектаров земли, кои переходят в собственность сеньоры Элизенды Вилабру Рамис из дома Грават, владелицы смежных земель. Второй документ устанавливал право на обмен этих трех гектаров пастбищных угодий и еще пары прилегающих к ним гектаров на большой участок земли на горе Тука под названием Тука-Негра, не представляющий ценности для земледелия и скотоводства и находящийся в собственности Жасинта Гаварри из дома Баталья, который, кроме того, должен выплатить денежную компенсацию другой стороне договора мены ввиду очевидной разницы в стоимости подлежащих обмену участков.
– Ну хорошо, но я не понимаю, зачем ты это делаешь и зачем сеньора…
– Я тебе это показываю не для того, чтобы ты задавал мне вопросы. Если хочешь… В общем… – Валенти встал, чтобы плотно прикрыть дверь своего кабинета, и снова сел. Потом, понизив голос, сказал: – Если хочешь воспользоваться конъюнктурой, я могу сделать тебя богатым.
– Как?
– Если хочешь заполучить какой-то участок земли, заявляешь на его владельца. Об остальном позабочусь я. Ну, разумеется, за разумную комиссию.
Ориол открыл рот и улыбнулся, чтобы скрыть замешательство.
– Я не хочу никаких земель.
– Не хочешь земель, не хочешь комиссионных, не хочешь подарков…
Тарга вновь инстинктивно взглянул на дверь, словно желая убедиться в том, что она по-прежнему закрыта.
– Ты вынуждаешь меня сомневаться в тебе. – Он положил бумагу на стол перед собой. – Это ведь ничего не стоит.
– Почему тебя так беспокоит, что у меня нет никаких экономических интересов?
– Меня не беспокоит, меня бесит. И заставляет меня сомневаться в тебе.
– Почему?
– Потому что чистоплюи всегда опасны.
– Но я не чистоплюй.
– Так тогда делай то же, что все, черт побери! – Он сердито ударил себя кулаком по лбу и крикнул: – Любой, у кого есть хоть два вершка во лбу, пользуется случаем. Чтобы компенсировать приносимые жертвы.
– Это совсем не обязательно.
– Да нет, обязательно! Почему ты отказываешься от законной прибыли? Это военный трофей.
– Я…
– Поди знай, что за козни ты строишь у меня за спиной. – Угрожающе: – Кто тебя знает.
– Прости, но я…
– Если я что-то узнаю и мне это не понравится… тебе не поздоровится.
То есть Валенти ничего не знает. Определенно. Не знает, что в тот день это я целился ему в затылок из ржавого пистолета, не знает, что я ухаживаю за женщиной, которую он ни с кем не желает делить. Хотя, возможно, правильнее сказать, что это она ухаживает за мной. И ничего не знает о ночной жизни школы. Он ничего не знает.
Ориол ждал, пока алькальд свернет папироску. Закурив ее, Тарга откинулся на стуле и, сняв крошку табака с кончика языка, пристально посмотрел на учителя. Утробным голосом, который, казалось, исходил из самого его нутра, он безапелляционно изрек:
– Элиот.
Пауза. Ну вот и все. Все кончено. Надежда была прекрасной, пока она была; но теперь все: пытки, обвинение, смерть. А ведь я не герой. Меня ждет позор, ибо я совсем не несгибаемый мученик, быстро выдам все имена и буду трястись от страха, как бедный крестьянин из Монтардита. На всякий случай Ориол сделал безразличное лицо и спросил а что такое с Элиотом.
Усугубляя неловкость момента, Валенти надолго замолчал, задумавшись о чем-то. О чем он думает? Он издевается надо мной. Ему все обо мне известно.
– Так что такое с Элиотом? – снова спросил он.
– Мы так до сих пор и не знаем, кто это. Люди из военной разведки не знают, кто это. Говорят, это кто-то, кто живет нормальной жизнью.
– Как ты и я?
– Да, как ты и я. Кстати, два полковника хотят, чтобы ты написал их портреты. – Подняв кверху палец: – Цену устанавливаю я. А писать портреты будешь в Побле.
– Посмотрим.
Ориол направился к двери, но прежде, чем выйти, обернулся и серьезно сказал:
– А что, так важно знать, кто это?
– Кто?
– Элиот.
– Ну, если мы не узнаем, то не сможем его расстрелять.
Ориол молча улыбнулся, словно желая сказать мы же с тобой умные люди и хорошо понимаем друг друга.
– И все-таки серьезно, – наконец сказал он, взявшись за ручку двери. – Неужели этот знаменитый Элиот такая важная птица?
– Скажу тебе только одно, – ответил Тарга назидательным тоном, – если мы его схватим, всем маки в Пиренеях наступит конец.
– По-моему, ты переоцениваешь Элиота. Не думаю, что все зависит от одного человека. А кроме того, может быть, это всего лишь призрак.
– Что?
– Я говорю, возможно, этот Элиот – некое подобие Оссиана.
– Подобие чего?
Но Ориол уже покинул кабинет, внутренне торжествуя, ибо опасность на сей раз миновала, и одновременно злясь на себя, поскольку, похоже, сегодня он слишком разговорился.
43
– Я что-то не врублюсь, о чем вы, сеньора.
Девушка невозмутимо, как корова жвачку, жевала резинку и внимательно разглядывала Тину, словно та была пришельцем из другой галактики, а не простой земной женщиной, желавшей узнать неизвестные ей факты из жизни ее сына.
– Скажите, Арнау здесь жил?
– Слушайте, почему вы не спросите об этом у него самого?
Больше всего ее обескураживало то, что эта девица называла ее сеньорой. Так Тина чувствовала себя совсем старой. А ведь ей всего сорок семь; да, у нее шесть лишних килограммов и муж, который наставляет ей рога. Но ведь сорок семь – это не шестьдесят и не семьдесят. И как мог Арнау влюбиться в девицу, у которой в подбородок вставлена пуля. Ну, не пуля, конечно, а маленький серебряный шарик, да еще короткие красные волосы торчком. И в пупке тоже металл. Если бы Жорди ее только увидел, тут же обозвал бы наркоманкой, ему даже не нужно было бы принюхиваться к подозрительному запашку в помещении. Ну ладно, мы же открытые люди, бог с этим.
– Наверное, потому что я очень робкая.
– Как вы меня нашли?
– По записной книжке Арнау. Мирейя. Лерида. Перед тем как отправиться в монастырь, он был с тобой.
Девица перестала жевать, и Тине показалось, что ее взгляд обращен куда-то назад, будто в глубь веков, а может быть, всего лишь на месяц назад, к тому дню, когда она в последний раз видела Арнау. Неожиданно девушка улыбнулась, и Тина пожалела, что не может прочесть ее мысли. Двое юношей с мешками цемента на спине пересекли помещение. На одном были такие обтягивающие джинсы, что они казались голубой кожей на ногах, а у другого были короткие широкие штаны, и оба сопели под тяжестью ноши. Они буркнули нечто вроде приветствия, и Тина ответила им вежливым кивком головы. Мирейя взяла чайник и налила его содержимое в два грязных стакана, и Тина с трудом сдержала брезгливую гримасу. Однако, когда она поднесла стакан к губам, отвращение ей скрыть уже не удалось.
– Сахара у меня нет, – поспешила заметить девушка.
Как могло случиться, чтобы такой парень, как Арнау, заинтересовался этой девицей?
– Ничего, все очень вкусно, – соврала Тина.
– Мы сами разводим травку в саду.
– Поздравляю.
Как могло случиться, чтобы такая девушка, как эта, заинтересовалась Арнау?
Пауза. Мирейя вынула изо рта резинку и попробовала чай. Судя по выражению лица, она нашла его очень даже ничего. Тина вздохнула.
– Ну хорошо. Я только хочу знать, счастлив ли Арнау.
Девица вытащила из кармана брюк бумажку и протянула ее Тине. Какие-то цифры. Женщина в недоумении взглянула на Мирейю.
– Телефон монахов, – ответила та. – Девяносто три и та-та-та… Аве Мария, говорите. Арни, ты счастлив?
Тина поставила стакан на стол, окрашенный в оранжевый цвет, и встала:
– Спасибо. Я думала, что…
– Арни таскался сюда, потому как корешился с Пако Буресом. Они вроде как друг друга с детства знали.
– Они были одноклассниками в средней школе в Сорте. – Тина снова взглянула на девушку и сделала над собой усилие, чтобы продолжить диалог: – А где я могу найти Пако Буреса?
– Missing. У его предков бабла куры не клюют, вот его и заколебало пахать здесь каменщиком.
Пако Бурес из дома Савина. Как говорила старуха Вентура, семейство Бурес больше всех радовалось, когда убили Вентурету.
– Но он живет здесь, в Лериде?
– Без понятия.
Тина вновь села, одним глотком допила чай и, чувствуя себя смешной и нелепой, спросила а вы с Арни были друзьями?
– Да. Арни клевый парень. Но если он играет в молчанку, то и я держу язык на привязи.
– Понимаю.
– Проще говорить с чужими людьми, чем со своим сыном. Да?
– Да.
Признав сию истину, Тина вновь обрела самообладание и отважилась спросить:
– А ты разговариваешь со своими родителями?
– Пип-пип. Эта тема в экзамен не входит.
Тина оставила свой старенький «ситроен» на проспекте Блондел, возле реки. Она тронулась с места, все еще ощущая запах марихуаны, который, казалось, въелся в ее кожу. Арни, подумала она, включая поворотник. А я-то переживаю, что монахи дадут ему другое имя.
44
На столе в ожидании подписи лежали принесенные адвокатом Газулем документы: разрешение на отправку непосредственно и лично монсеньору Эскрива чека на несколько тысяч дуро в качестве финансовой помощи для возведения святилища в Торресьюдаде, а также письмо, в котором без особых изысков приносились извинения в связи с невозможностью присутствовать на приеме у премьера Ариаса Наварро. Слева в комнату проникал свет с улицы Фалангиста Фонтельеса, слегка приглушенный прозрачной занавеской. Напротив – Хасинто с бумагой в руке и вздрагивающим подбородком. Элизенда не стала брать протянутый ей лист. С каждым днем ей все труднее было сфокусировать взгляд, ей все виделось размытым, как в тумане, словно мир всеми способами пытался прикрыть свой стыд перед ее проницательным взглядом.
– Что это? – спросила она, стараясь не смотреть на стоявшего перед ней человека, потому что знала, о чем идет речь.
Вместо ответа Хасинто Мас положил бумагу на стол. Это было письмо, извещение, в котором говорилось уважаемый сеньор Мас, к своему великому сожалению, вынужден отказаться от ваших услуг в качестве шофера семьи Вилабру и, принимая во внимание ваш возраст, предлагаю вам досрочную пенсию, которую вы заработали своим многолетним безупречным трудом. Посылаю вам это извещение заблаговременно, чтобы вы могли в разумный срок подыскать себе новое место жительства. Жду от вас известий. С уважением, Эрра Газуль. Торена. Двадцать третье марта тысяча девятьсот семьдесят четвертого года.
Элизенда взяла листок и посмотрела на своего шофера так, словно увидела его впервые за тридцать семь лет, девять месяцев и шестнадцать дней. Потом жестом предложила ему сесть на стул напротив нее. Хасинто не понял, и ей пришлось повторить жест, на этот раз сопроводив его словами:
– Ну же, садитесь.
Хасинто сел и преданно посмотрел в глаза своей хозяйки:
– Почему вы меня увольняете?
– Три аварии за пять месяцев. Разбитая машина, два суда, тринадцать штрафов… и ты еще спрашиваешь почему?
– Я тридцать семь лет верой и правдой служил вам без единой жалобы с вашей стороны.
– Но я только что пожаловалась на твою работу.
– Но это только сейчас.
– Да, но теперь дела обстоят именно так. И потом, ты не столько лет состоишь у меня на службе.
– С Сан-Себастьяна. Тридцать семь лет, девять месяцев и шестнадцать дней.
– Ну хорошо, скажи мне, в чем трагедия? У всех рано или поздно наступает возраст, когда…
– Не отправляйте меня на пенсию, сеньора. Я могу работать… да кем угодно. Садовником, например.
– У меня есть садовник, и больше мне не надо.
– Но я могу быть сторожем в доме Грават. Могу…
– Нет, ты выйдешь на пенсию, пора уже. Я действительно не понимаю, почему ты так это воспринимаешь…
– Я еще молод: мне всего пятьдесят пять лет.
– Да, вся жизнь на моих глазах.
– И всю эту жизнь я беспрекословно подчинялся вам.
– И получал за это хорошее жалованье. А теперь выходишь на пенсию. Это закон жизни.
– Невозможно, чтобы вы были так жестоки ко мне. – У Хасинто Маса был совершенно ошарашенный вид. – Разве вы не видите, что…
– Мне все это не кажется таким ужасным. Ты должен принять реальность такой, какая она есть. У тебя прекрасный возраст для выхода на пенсию и хорошее здоровье, чтобы насладиться заслуженным отдыхом.
– Вы выгоняете меня, как Кармину.
– Нет. Ты выходишь на пенсию, вот и все. Как все.
Хасинто показал на лежавшее на столе письмо. Не глядя в него, процитировал по памяти:
– «Посылаю вам это извещение заблаговременно, чтобы вы могли в разумный срок подыскать себе новое место жительства».
– Это логично, если ты здесь больше не работаешь…
– Но мне некуда идти.
– Но ведь у тебя, кажется, есть сестра. И потом, ты ведь взрослый человек… А если у тебя какие-то проблемы, поговори с управляющим, а не со мной.
– Это сеньор Газуль тут всем заправляет и заставляет вас делать…
– Довольно, Хасинто, – чуть слышно, но весьма решительно перебила она его.
Однако Хасинто не желал ее слушать, потому что если он будет ее слушать, то все, что она скажет, воспримет как приказ, и у него не останется ничего иного, как подчиниться ее властному голосу, как он всегда это делал. Так что ему повезло, что она произнесла последние слова очень тихо, думая, что таким образом внушит ему страх. И вот Элизенда Вилабру вдруг с удивлением обнаружила, что ее шофер может обращаться к ней сердито и неуважительно, чего никогда не позволял себе за все тридцать семь лет, девять месяцев и шестнадцать дней, которые, по его словам, он верой и правдой служил ей.
– И заставляет вас делать все, что захочет. Потому что он тут всем заправляет и еще потому что…
– Что ты такое говоришь?
– Потому что спит с вами.
Сеньора Элизенда Вилабру резко поднялась. Она была удивлена, раздражена, возмущена и оскорблена. Хасинто же как ни в чем не бывало продолжил свою обвинительную речь:
– Он долгие годы вас желал и преследовал и вот теперь наконец добился своего.
– Вон отсюда. – Она задыхалась от негодования. – Клянусь, ты мне за это заплатишь.
Хасинто Мас не сдвинулся с места, и Элизенду на какое-то мгновение охватила легкая паника.
Словно не слыша ее слов, Хасинто заговорил хриплым, тусклым голосом, обремененным тяжестью тридцати семи лет, девяти месяцев и шестнадцати дней запретного желания. Впервые за все эти долгие годы он обратился к ней на «ты».
– Я всю жизнь был верен тебе. Беспрекословно повиновался, никогда не спорил, сносил твои дерзости, подтирал дерьмо за твоим сыном и за тобой и всегда, всегда, когда тебе это было нужно, был рядом с тобой.
Элизенда не высказала возражений против обращения на «ты». Застыв в окаменевшей позе перед шофером, она сохраняла самообладание.
– И я щедро платила тебе за это каждый месяц. Разве тебе когда-нибудь чего-то не хватало?
– Мне не хватало жизни. Я был вынужден терпеть и скрывать много всякого дерьма. Мне приходилось каждый день становиться свидетелем всего, что происходило в этом доме, и хранить молчание. Каждый божий день. Видеть, как ты отдаешься никчемным мужчинам. И молчать, дрочить в машине и воображать, что это я – счастливчик. Вот такую долбаную жизнь я влачил.
Элизенда сглотнула слюну и устремила взгляд на расплывающуюся стену в глубине комнаты. С напором:
– Ты выполнял свою работу.
– Нет, я любил тебя.
У нее перехватило дыхание, потому что Хасинто внезапно стал огибать стол, бормоча у меня не было жизни, потому что вся она состояла в служении тебе; я не женился, не создал семьи, много лет не видел свою сестру, узнал твои секреты и твои капризы и вынужден был все это проглотить, потому что, когда я только начинал служить тебе, ты заставила меня поклясться в вечной верности самым святым, что у меня есть. И я всегда хранил тебе верность. Ради тебя я подчистил столько грязи, Элизенда. А теперь ты не разрешаешь мне остаться здесь еще на какое-то время, потому что я теряю зрение и рефлексы. И вышвыриваешь меня из дома. Потом в качестве завершающего обвинения он добавил еле слышным голосом а ведь ты тоже слепнешь, не забывай об этом.
– Не приближайся ко мне. Я попрошу сеньора Газуля компенсировать тебе моральные издержки.
– Никакой вашей дерьмовой компенсации мне не нужно. Я хочу умереть в этом доме, ведь он уже и мой тоже.
Элизенда вновь обрела свое привычное хладнокровие.
– Хочешь умереть – умирай, – бросила она ему.
– Да проклянет тебя Бог, сеньора Элизенда.
– А вот с Богом не шути! – В ярости: – Думай, что говоришь.
– Я член семьи. Я не могу уйти на пенсию из семьи.
– Теперь-то я вижу, что ты никогда ничего не понимал.
Внезапно, не раздумывая, Хасинто Мас сделал то, о чем не переставал мечтать тридцать семь лет, девять месяцев и шестнадцать дней: прикоснуться к ней, схватить ее, заключить в объятия, стать одним из немногих счастливчиков, которые ею обладали. Как тот всезнайка-учитель; как сукин сын Кике Эстеве; как гражданский губернатор Назарио Пратс; как Рафел Агульяна из Лериды, который хотел предъявить ей официальное обвинение, чтобы денонсировать договор, а она в ответ пригрозила, что обвинит его в изнасиловании; как Газуль и, конечно, как Сантьяго, единственный, кто был ее законным мужем. Хотя с этим-то она вряд ли часто спала, поскольку они ненавидели друг друга. И еще черт знает сколько там министров из Мадрида, я все это словно воочию вижу. Он схватил сеньору за запястья. Она побледнела, ибо за всю жизнь ни один слуга не смел так дерзко хватать ее. Ни один до нее даже не дотрагивался. Она хотела закричать, но ей помешал страх перед оглаской. Побледнеть еще больше она уже не могла, но если бы могла, то непременно побледнела бы, ибо этот негодяй не удовлетворился тем, что схватил ее за запястья, но еще и принялся обнимать, с силой прижимать к груди и искать ее губы; она была на грани обморока, отбиваясь от невыносимой атаки слуги, но ему удалось задрать ей юбку и дотронуться до бедра с пульсирующей в мозгу мыслью наконец, наконец-то…
– Отдайся мне.
– Да ты с ума…
– Нет, я не сошел с ума, – резко перебил он ее. – Ты должна со мной переспать.
Элизенда не могла ни кричать, ни визжать, и Хасинто Мас прекрасно это знал. Она скорее готова была умереть, нежели выставить себя на посмешище перед жителями Торены. Поэтому, несмотря на ее сопротивление, он смог задрать ей юбку, подхватить на руки и отнести на диван, на который через двадцать шесть лет сядет Тина и спросит ее вы знаете, где я могу найти его дочь?
На этот раз удивление пришлось скрывать Элизенде. Немного помолчав, она спросила:
– Какую дочь?
– Его дочь. У учителя ведь была дочь, разве нет?
– Откуда вы знаете?
Еще один редкий момент, когда у нее из рук выскальзывают поводья управления миром и она ощущает свою беззащитность. Как узнать, что происходит на самом деле? Чего она хочет, эта любопытная училка?
– Да, переспать, – настаивал Хасинто. – Это твой долг. – И сухим, словно механическим голосом: – Раздевайся, любовь моя.
Он отпустил ее запястья. Снял с себя рубашку, брюки и старомодное нижнее белье. Элизенда, оцепеневшая от нелепости положения, никак не реагировала. Ее шофер, верный, преданный, бессловесный, стена, которая всю жизнь защищала и прикрывала ее, демонстрировал перед ней свои срамные места, восставшие гениталии. Почти теряя сознание, она опустилась на диван. Ее напугал новый, неведомый прежде блеск в глазах Хасинто. Почти такой же страх она испытает через несколько месяцев, когда, сидя на том же самом диване, прочтет эту ужасную анонимку. Она посмотрела на голого шофера и отстраненно, безучастно покачала головой. И это тот самый слуга, что был тщательно отобран среди прочих кандидатур в смутное время, наступившее после смерти ее отца и брата. Слуга, отвечавший за безопасность молодой Вилабру своей жизнью, мужчина, живший для нее и ради нее двадцать четыре часа в сутки, сейчас стоял перед ней совершенно голый, вымаливая у нее любовь, прося о невозможной, абсурдной близости. Она приготовилась к бою.
– Да пошел ты куда подальше… Тебе так больше нравится?
– Раздевайся.
– Ты сможешь овладеть мной, только если убьешь.
Она встала и вплотную приблизилась к Хасинто, борясь с отвращением и обретая прежнюю уверенность, и добавила в общем так: или ты убиваешь меня, или одеваешься. Прикрой свое смехотворное брюхо и исчезни из моего дома, или закончишь жизнь в тюрьме. Если бы это зависело только от меня, ты бы вообще никакой пенсии не получил.
Член Хасинто моментально съежился, даже не посоветовавшись со своим хозяином, ибо он-то отчетливо осознал, что между сеньорой и им ровным счетом ничего не изменилось и не может измениться никогда.
45
Старуха Вентура провела кончиками пальцев по усам, а потом нежно погладила суровые глаза на пожелтевшем от времени лице.
– Мой Жоан. Я никогда не видела этой фотографии. – Она взглянула на дочь. – А ты?
– Нет, не видела.
– Что там написано? – Старуха протянула газетную вырезку Тине и в ожидании ответа взяла чашку своей дочери и, прикрыв глаза, с наслаждением вдохнула аромат кофе. – Так что там написано? – повторила она.
– Что, похоже, бандита Жоана Эспландиу из дома Вентура в Торене, известного также под именем лейтенанта Марко, видели в окрестностях города Лерида.
– И когда это было?
– В мае тысяча девятьсот пятьдесят третьего года.
Старуха Вентура украдкой взглянула на дочь, и та ответила ей таким же мимолетным взглядом. Тина почувствовала себя лишней в этом бессловесном диалоге и решила напомнить о себе.
– В чем дело? Что происходит?
– Отец приходил… Ладно… – И сухим тоном: – Давай не будем об этом, мама.
– Это было пятьдесят лет назад, дочка. Думаю, можно уже об этом рассказать.
– Он ведь тайком приходил к вам, не так ли?
– Да, приходил два раза.
– Три, – уточнила старуха.
– Ну да, три, конечно, – подтвердила Селия. Один раз – когда убили моего брата, незадолго до захвата Валь-д’Аран, второй…
Селия Эспландиу сделала глоток кофе. Она не знала, говорить ей или лучше молчать. Потом указала на фото:
– Мой отец принимал самое непосредственное участие в организации вторжения республиканской армии. Но из-за каких-то там партийных разборок его все время бросали на выполнение всяких второстепенных задач. – Еще один глоток кофе. – Он был очень разочарован.
– Вторжение армии ведь провалилось.
– Оно продолжалось десять дней, – вмешалась старая Вентура; она говорила сухо и резко, словно все еще испытывала недовольство тем, как когда-то разворачивались события. – Жоан говорил, что лучше вести партизанскую войну, а не идти на прямое столкновение с армией, но к нему не прислушались, вот и…
– Он скорее был сторонником анархистского движения, не так ли?
– Мне кажется, да, – сказала дочь. – Я не слишком-то во всем этом разбираюсь, но мне кажется, это так.
– А два других раза?
Мать с дочерью вновь переглянулись. Мать сделала резкий знак Селии, чтобы та не двигалась с места: она сама посмотрит, в чем дело. Женщина подошла к окну, приоткрыла створку, и в образовавшуюся щель тут же пролезла чья-то рука. Тогда женщина распахнула окно. Жоан Вентура, бесшумно, словно дикая кошка, впрыгнул на середину комнаты. Его жена и две дочери, Селия и Роза, молча застыли, глядя на отца с надеждой и некоторым испугом, особенно Роза.
– Это твой отец, Роза.
– Не бойтесь, – тихо сказал тот.
Потом обнял жену. Короткое, быстрое объятие. Затем попытался заграбастать в объятия Розу, но девочка увернулась и укрылась за материнской юбкой; тогда мужчина обнял Селию, крепко прижав ее к груди, и мать внезапно ощутила приступ непонятной ревности. Она отвернулась к плите и до краев наполнила миску горячим супом. Вентура принялся есть как ни в чем не бывало, словно было совершенно естественным, само собой разумеющимся уйти из дома вместе с проигравшей армией, заверив семью, что речь идет всего лишь о нескольких неделях, примкнуть к маки и завоевать их безоговорочное признание благодаря идеальному знанию зоны, которую он, будучи контрабандистом, в свое время исходил вдоль и поперек; потом сотрудничать с французским Сопротивлением, превратившись в грозного лейтенанта Марко, действующего в местах, откуда он был родом, опоздать к расстрелу своего сына, горько оплакать его вместе с родными, снова исчезнуть на девять лет, не подавая никаких признаков жизни, чтобы однажды, не спрашивая ни у кого разрешения, влезть в окно, вновь бесцеремонно вторгаясь в мою жизнь, и надо же, у меня для него наготове горячий суп и добрая порция жаркóго.
– Я думала, ты умер, – сказала она, вытирая руки о передник.
– Я тоже. – Он подмигнул Селии. – Как же вы выросли, дочки. – Порылся в кармане, вытащил смятую конфетку и протянул ее Розе, которая не осмелилась взять ее.
– Ты совсем вернулся?
– Нет. – Он снова посмотрел на дочерей. – Вы уже совсем взрослые. – Обращаясь к Розе: – Сколько же тебе лет?
– Четырнадцать.
– Ничего себе! Четырнадцать. – Удивленно: – Четырнадцать?
– Зачем ты пришел?
– Скажи своему двоюродному брату, что, когда все закончится, я ему все возмещу.
– Манел не ждет никакого возмещения. Так зачем ты пришел?
– Убить Таргу. Я знаю, как это сделать.
Боже правый, подумала его жена, наконец-то настал этот день, что я должна сделать, Господь Всемогущий, чтобы помочь моему мужу убить Валенти Таргу, чтобы я снова могла спать, не видя каждую ночь своего Жоанета с пулей в одном глазу и страхом в другом, потому что меня не было рядом с ним, Боже мой, будь милостив…
– Можешь на меня рассчитывать. – Властным тоном: – Девочки, быстро в постель.
Девочки были слишком напуганы и взволнованы, чтобы проявить непослушание. Селия подошла к отцу и обняла его. Поскольку она уже усвоила урок, спросила лишь:
– Ты до утра останешься?
– Нет. Но я скоро вернусь. Теперь уже скоро.
– И вы пошли спать? – Только теперь Тина попробовала кофе. Вкуснейший, как и в прошлый раз.
– Нет. Ни я, ни Роза. Мы уселись на лестнице и слышали весь разговор.
Тина посмотрела в окно столовой. Краем глаза заметила, что телевизор у нее за спиной включен, но без звука. Транслировали гонку «500 миль Индианаполиса». В окно был виден внутренний двор, каменистый сад, полный цветов, жизнерадостно возвещавших, вопреки печальной истории обитательниц дома, о приходе весны. В глубине сада, возле сарая, в котором, по всей видимости, размещалась мойка, виднелся деревянный крест, обшарпанный и почерневший, а рядом – странный цветок, скорее всего искусственный, сине-желтый, напоминавший экзотическую рыбку. Селия встала, чтобы выключить телевизор. Вернувшись на место, она задумчиво посмотрела во двор и вновь повторила, словно заново переживая те события, что да, она слышала весь тогдашний разговор, потому что вместо того, чтобы отправиться спать, они с Розой уселись на лестнице. Весь разговор. Разговор мужа с женой, у которых годы страданий до донышка иссушили в душе всю нежность, так что они даже представить себе не могли, что могут попытаться проявить друг к другу хоть толику ласки, и беседа их носила сугубо деловой характер, поскольку им обоим гораздо важнее было извлечь наконец пулю из глаза Вентуреты, чем обрести отдохновение в объятиях друг друга.
– Он по-прежнему ходит по деревне с охраной.
– Нам это известно. Мне помогли проследить за ним, и мы знаем все его привычки. – Он взглянул жене в глаза. – Но есть случаи, когда он отказывается от охраны.
– И когда же?
– Когда отправляется к шлюхам или по своим грязным делишкам. Пока что мне помогали. Но теперь мне придется действовать одному.
– Но как раз теперь тебе больше всего нужна помощь, Жоан.
– Маки… очень изменились. Каждый занят своим делом. Мне здорово помогли люди Каракремады.
– Но почему теперь они оставляют тебя одного?
– Потому что это мое личное дело. Им больше нельзя рисковать людьми. – Немного помолчав, он все же решился сказать правду: – Понимаешь, я собираюсь убить его своими собственными руками. Не хочу, чтобы это сделал кто-то другой.
– Тогда тебе помогу я, – ни минуты не колеблясь, решительно заявила женщина. – Даже если ты скажешь «нет». Я хочу с высоко поднятой головой смотреть на всех этих Бурес, Сесилию Басконес и семейство Мажалс, у которых с языка не сходит Франко, Испания и Фаланга, будь проклята мать, что их породила.
– Если ты будешь так злиться, то никак не сможешь мне помочь. – Он постучал пальцем по лбу и продолжил тихим голосом, поскольку уже много лет вынужден был говорить шепотом: – Надо действовать с холодным рассудком.
– Договорились. Я не буду злиться. Нисколечки. Но я не хочу, чтобы все эти сволочи радовались, не хочу, чтобы они смеялись и думали, что победили, чтобы они прятались за спиной Валенти Тарги, не хочу, чтобы они смотрели на меня свысока, потому что я жена одного из тех, кого называют бандитами. Пусть они увидят, что Тарга не такой уж неприкасаемый.
Глория Карманиу очень изменилась. В тридцать шестом году, когда Жоан, почти не простившись, отправился на фронт защищать Республику, она с потерянным видом уселась на кухне возле очага и стала ждать, когда закончится война. Однако голод ее троих детей заставил ее очнуться и выйти на улицу, вглядеться в овдовевшие лица других женщин и задать себе вопрос почему, во имя святого Амвросия, почему, если Бог существует, Торена осталась без мужчин? И теперь, после стольких смертей, она говорила я не хочу, чтобы на меня смотрели свысока только из-за того, что я – жена одного из тех, кого называют бандитами.
– Не обращай внимания на этих паршивых людишек. Даже не смотри на них. Ты – это ты, и поступай, как считаешь нужным.
– Но так не получится; мы ведь живем в одной деревне. Невозможно не смотреть на них. Я помогу тебе во всем. И не вздумай сказать мне «нет».
Лейтенант Марко посмотрел на окно, закрытое ставнями. Поразмышлял несколько секунд и стремительно, как в разгар важной военной операции, принял решение.
– Ну хорошо, так и быть, – кивнул он. – Завтра в девять утра ты пойдешь к Маресу и позвонишь по телефону Тарге. Скажешь ему, что ты секретарша сеньора Даудера.
– И все?
– Нет. Скажешь ему то, что написано здесь.
Он вынул из кармана бумажку и вручил ее жене.
– А ты?
– А я буду его поджидать. Если сделаешь все так, как я скажу, то он выедет из дома один.
Валенти Тарга смотрел в объектив фотокамеры. Снимок сделан. Он поправил узел галстука. Еще один снимок, теперь он смотрит вправо, в сторону мертвых. И в этот момент зазвонил телефон. Синтета-телефонистка перевела звонок на него, он молча выслушал, сказал что это вы такое выдумали и с озабоченным лицом повесил трубку. Еще один снимок, снова взгляд вправо.
– Приходите завтра, сейчас у меня неотложные дела, – сказал он фотографу.
Спустя две минуты, когда часы на колокольне церкви Сант-Пере пробили девять, пред ним предстала сеньора Элизенда.
– Какой-то незнакомец хочет поговорить со мной о Туке.
– С тобой? – Элизенда была удивлена. – И кто же это?
– Не знаю. Некий Даудер.
Сеньора Элизенда дождалась, пока фотограф плотно закроет за собой дверь. Потом в ярости посмотрела на алькальда и презрительно спросила его что именно тебе сказали. А Глория Карманиу между тем выпила стакан воды, который принес ей Марес. У нее пересохло в горле после того, как она сказала человеку, с которым больше никогда не собиралась разговаривать, что она секретарша сеньора Даудера из Лериды, и что тот предлагает ему встретиться через час в Сорте, чтобы обсудить вопрос, касающийся законного права собственности на Туку, и что если он не явится, то разразится скандал; после чего она испуганно нажала на отбой, не дав Валенти времени ответить да что это вы такое выдумали и с озабоченным лицом повесить трубку, устремив взгляд вправо, в сторону мертвых.
После двух крутых поворотов начинается прямой участок дороги Сант-Антони. В конце этой прямой, перед поворотом на Пендис, хорошо одетый мужчина с дипломатом в руке, странным образом оказавшийся в полном одиночестве на заледенелом шоссе, сделал энергичный и в то же время весьма любезный жест рукой, чтобы Валенти заглушил мотор. Потом подошел к окошечку автомобиля:
– Сеньор Тарга?
– Да.
– Я Жоаким Даудер.
– Разве мы не условились встретиться в?..
– Вы позволите?.. Холодно, не правда ли?
Сеньор Даудер разместился в машине рядом с водителем.
– Здесь нам спокойнее поговорить о Туке. Без свидетелей.
– Послушайте, я ведь…
Он так и не понял, как это произошло, но в следующий момент он оказался прикованным наручниками к рулю, в его ноздрю упиралось черное дуло «люгера» тысяча девятьсот тридцать пятого года, и спокойный, но властный голос говорил я ждал этого десять лет, но у меня оказалось достаточно терпения. Поскольку я не хочу, чтобы твое убийство связали с моими родными, тебе придется погибнуть в автомобильной аварии, но я хочу, чтобы ты покидал этот мир, зная, что умираешь потому, что убил моего сына Жоана Эспландиу, Жоана Вентурету, и потому, что ты сделал это как самый последний трус на свете.
– Но это не я… я не…
– Несмотря на мою теперешнюю бороду, это я, Жоан из дома Вентура.
– Но если я… я правда…
– Я прибыл слишком поздно, потому что ты дал мне всего двадцать четыре часа. – Мужчина вставил дуло пистолета в ноздрю своего врага и слегка протолкнул его внутрь. – И я намеревался сдаться, чтобы спасти своего сына.
Валенти не осмеливался пошевелиться, опасаясь нечаянного выстрела. Он искоса поглядывал на Вентуру, время от времени подергивая наручники.
– Двадцать четыре часа! Видно, очень уж тебе хотелось убить мальчика, – продолжил Вентура. – Хотел войти в историю. – И после тяжелого молчаливого раздумья: – А ведь сейчас моему сыну было бы уже двадцать пять лет. – Он сказал это со слезами в голосе. – И еще ты умрешь за всех жителей деревни, которых ты угробил.
– Но я… Такие были времена…
– И за смерть Фонтельеса. Как только смогу, обязательно изничтожу эти ужасные стрелы на его могиле. Бедный учитель!
Тарга застонал от боли, и партизан слегка ослабил нажим.
– А ведь знаешь, я не имел никакого отношения к смерти отца и сына Вилабру.
Валенти Тарга ничего не ответил. Тогда лейтенант Марко снова втолкнул дуло глубже в ноздрю.
– Я был во Франции, потом переправлял груз через перевал Салау, и ты это знал.
Вместо ответа Валенти издал что-то похожее на испуганный хрип. Жоан Вентура продолжил свой монолог:
– Ты просто хотел отомстить мне за Малавелью.
– Но вспомни, это же ты напал тогда.
Когда группа Кареге была полностью сбита с толку из-за нападений людей в масках, которые изгоняли их с привычных маршрутов и оставляли без поставщиков товара, словно в мире контрабанды не существовало никаких законов, расплачиваться за это пришлось одному из молодых помощников Кареге, Валенти Тарге из дома Ройя в Алтроне, который вопреки четкому приказанию своего шефа отправил двенадцать парней с дорогущим грузом коротким путем через овраг Порт-Негре, потому что никакие люди в масках, да и сам Бог не остановят меня и не заставят делать крюк с грузом на плечах. И люди в масках отобрали у них товар, обратили их в бегство и полностью разорили Кареге, поскольку это был самый ценный груз, какой я когда-либо за всю свою жизнь переправлял из Андорры… И, гневно сверкая глазами, он тихо, но грозно сказал Валенти, меня воротит от таких засранцев, как ты, и я не хочу дышать одним воздухом с человеком, который рискует моим товаром, потому что ему вожжа под хвост попала, а посему я, так и быть, убивать тебя пока не буду, но у тебя ровно три дня, чтобы свалить отсюда и никогда больше не возвращаться, и ежели ты только посмеешь сунуться сюда, в Алтрон, Сорт или в какое другое место в округе, то клянусь святыми Сервасом и Потрасом, святой девой Карегской, святым Иосифом, ангелом, мулом и быком, что убью тебя, хватит мне проблем. И юный Тарга с полным хладнокровием использовал два из трех отпущенных ему дней на то, чтобы прочесать сверху донизу весь овраг Порт-Негре, пока в середине второго дня не обнаружил в одной из пастушьих хижин блестящий, красноватого цвета металлический предмет, уместившийся у него в ладони, которую он крепко сжал, охваченный гневом. Целый час он делал глубокие вздохи, пытаясь совладать с яростью, а металл впивался ему в кожу, и все тело, до самых костей, пропитывалось ненавистью. Потом он вернулся в Алтрон, расположенный в нескольких часах пути, и вошел в деревню, когда уже стемнело.
– Ты ведь расправился с моей семьей из-за Малавельи, – повторил Вентура.
– Предлагаю тебе хорошую денежную сделку, – наконец выдавил из себя Тарга. И добавил на всякий случай: – Деньги у меня есть.
Лейтенант Марко прекратил буравить пистолетом нос пленника. Положил оружие в карман и открыл портфель.
– У тебя нет выхода. Предлагаю тебе такую же сделку, какую ты заключил с моим сыном.
– Пошел ты в задницу, Вентура.
– Нет уж, сперва ты.
Вместо нотариального уведомления или свидетельства о собственности на Туку Жоан из дома Вентура извлек из портфеля белую тряпицу, в которую было завернуто что-то похожее на ампулу для инъекций. Не разворачивая ее, он раздавил ампулу пальцами и поднес тряпку к носу и рту Валенти, который в отчаянии задергался всем телом и, гневно сверкая глазами, угрожающе зарычал ты еще обо мне вспомнишь, ты мне за все заплатишь, однако вскоре глаза у него закатились и он забылся сладким сном, бессильно запрокинув голову. Жоан Вентура тут же снял с него наручники, прислонил свою жертву к рулю и осторожно, но спокойно, зная, что у него еще полно времени до того момента, как здесь появится Тори-молочник, снял машину с ручного тормоза и вышел из нее. Хотя автомобиль стоял на склоне, ему пришлось немного подтолкнуть его. Машина исполнила элегантнейшее сальто в полном соответствии с замыслом разработавшего операцию стратега, как это случается, когда все готовится тщательно и с душой; иными словами, все произошло так, как и планировал лейтенант Марко. Парабола, первый удар, сопровождавшийся боем стекла и вмятиной на кузове, три сальто-мортале и смертельный поцелуй подпорной стенки, которая ответила громогласным протестом. Грохот от столкновения эхом разнесся по всей долине Ассуа. Вентура стремительно ринулся вниз по тропинке, которую он присмотрел в процессе подготовки действа, и через три минуты оказался рядом с грудой металла. Зажатый в тисках искореженного автомобиля, полуживой Валенти бросил на него исполненный надежды взгляд, моля о помощи, однако, осознав, к кому он обращается, взмолился было о пощаде, но тут же отключился. А ведь он не должен был проснуться, подумал лейтенант Марко. Он должен был погибнуть на месте от ушибов. Жоан просунул руки в машину, схватил в ладони голову Валенти, словно пробуя на вес арбуз, и резко повернул ее. Щелк! Вот и все. Теперь я смогу наконец спать спокойно, сынок.
Через две минуты он уже сидел верхом на «гуцци», который уносил его подальше от поворота на Пендис, от прямого участка дороги на Сант-Антони и от ада. В тот момент, когда молоковоз выехал на прямой участок дороги, ведущей в Сант-Антони, и Тори вышел из грузовика, встревоженный видом врезавшегося в стену автомобиля, а потом поспешил в деревню, чтобы сообщить о случившемся, я уже твердо знал, что теперь буду спать гораздо спокойнее и образ бедняжки Жоанета больше не будет непрерывно стоять у меня перед глазами. Боже правый, наконец-то Ты в благости Своей поправил то, что свершилось при Твоем попустительстве.
– Вы ведь не верите в Бога, не так ли?
– Это самый глупый вопрос из всех, что мне когда-либо задавали.
– Почему?
– Как может верить в Бога мать, лишившаяся сына?
– Простите, я не хотела…
– Почему вас интересуют вещи, уже давно погребенные под спудом времен? – Это Селия.
– Из-за учителя.
– А что вы хотите знать об учителе?
– Я хочу узнать, как он умер.
– Она хочет знать, как умер учитель.
– И еще я хочу знать, как умер ваш муж.
– Мой муж не умер. Он исчез. – Она снова взяла чашку дочери и вдохнула аромат кофе. – К счастью, он надолго пережил Валенти.
– Когда я спросила отца, придет ли он на следующий день, он сказал, что не придет, но теперь он исчезнет ненадолго.
– И так и было?
Старуха Вентура снова взяла чашку дочери, в которую та только что подлила свежего кофе, и молча ждала, что ответит Селия.
– Да. В третий раз он вернулся очень скоро.
Дочь не смотрела на мать, и Тина заметила это. Какое-то время все трое хранили молчание, наполненное нотками грусти. Внезапно старуха стукнула палкой по полу.
– Так что вы хотите знать об этом сукином сыне учителе?
– Прошло пятьдесят семь лет.
– Да хоть тысяча. Он навсегда останется сукиным сыном. Так что вы хотите о нем узнать?
– Как он умер.
– Когда мы узнали об этом, я очень обрадовалась. Очень. Потому что он был правой рукой Тарги и умело обхаживал детишек.
– Вы знаете, как он умер?
– Овиди из дома Томас схватили, потому что учитель слышал, как его сыновья говорили в школе, что отец прячется в доме Барбал. – Задыхаясь от гнева: – А еще он щеголял в этой проклятой униформе.
– Я всего лишь хочу знать, как он умер.
Старая Вентура склонила голову. Возможно, она устала. Дочь взяла мать за иссохшую руку и, глядя мне прямо в глаза, тихо сказала однажды ночью его выследил патруль маки. И его превратили в мученика и фашистского героя. А потом за тридцать лет нам его именем все уши прожужжали, потому что эта святоша из дома Грават, которая все дни напролет только тем и занимается, что Богу задницу вылизывает, пожелала сделать его святым.
– Зачем?
– Хм, у богатых свои причуды. И она своего добьется, можете не сомневаться.
Тина очень осторожно спросила, известен ли им какой-нибудь свидетель смерти учителя, может быть, какой-нибудь маки, который там оказался… И в этот момент старуха вернулась из своего небытия и, уставившись на дно чашки дочери, произнесла:
– Четверо неизвестных мужчин, все маки. Если вы хотите узнать, что произошло, поговорите с кем-нибудь с другой стороны.
– Понятно… Но…
– Учитель и Валенти Тарга были не одни. Их сопровождали по меньшей мере два секретаря Тарги. Не знаю, как их звали. – Она сделала глубокий вдох. – Вполне возможно, в мэрии что-то знают об этом.
– Но, мама, что ты такое говоришь?
– Да, именно в мэрии. Тарга пристроил их приставами в мэрию. Так что мы еще и жалованье выплачивали нашим палачам.
– Ориол Фонтельес был соратником вашего отца, он сотрудничал с маки, – сказала Тина Селии. – Его звали Элиот.
– Элиот был героем, – встрепенулась старуха, – не говорите глупостей.
– Элиот был учителем в Торене. Его настоящее имя – Ориол Фонтельес, – настаивала Тина.
– Извольте немедленно покинуть мой дом.
Тина поднялась, готовая сопротивляться:
– А Вентура? Когда ваш муж пришел в третий раз?
– Я сказала, чтобы вы покинули мой дом.
Кому важно знать, кем в действительности был Ориол Фонтельес? Мне, и больше никому. Возможно, это могло бы иметь значение для его дочери. То есть для его сына, Жоана, если только он жив. Но нет, это неправда. Для нашей общей Памяти тоже важно знать, кем был Ориол Фонтельес. И мне бы очень хотелось понять, почему какая-то заурядная учительница, у которой проблемы с грудью, проблемы с сыном, проблемы с мужем и проблемы с собственным весом, вдруг воображает себя детективом и принимается разыскивать следы неизвестно еще героя ли, а может быть, преступника, и кто же та женщина, что украла мое счастье. Почему.
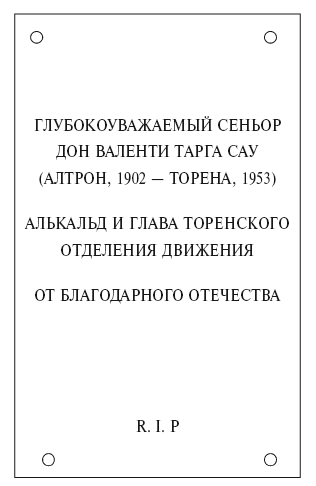
Да простит меня Бог, если он существует, но как же мне радостно вырезать это надгробие, сынок. А еще лучше было бы, если бы мы его изготовили раньше многих других, Жаумет… Послушай, давай-ка доделай его сам, это же последнее надгробие, которое ты делаешь перед тем, как пойти в солдаты.
– Не называй меня Жауметом, отец, особенно при моих друзьях. И в особенности при Розе Вентурете.
– Но она же совсем девчонка!..
– Да нет, не такая уж она маленькая, ей скоро пятнадцать будет.
– Ну хорошо. Давай делай надгробие. Вот, выбивай ему, как нормальному человеку, надпись на латинском и все такое, мать твою…
– Разве он не из Алтрона?
– Да, оттуда, из дома Ройя. Да, все-таки сегодня я очень доволен.
– Почему же тогда его хоронят в Торене?
– Да видно, хочет держать на коротком поводке тех, кого он здесь прикончил.
Назад: Часть третья Звезды как иглы
Дальше: Часть пятая Kindertotenlieder

