Книга: Время библиоскопов. Современность в зеркале книжной культуры
Назад: Глава 8. Чтение в Формате Web 2.0. Стратегии и пра^ти^и
Дальше: Глава 10. Книжное пиратство в вопросах и ответах
Глава 9. Книга на завтра(к). Литератора в зеркале пищевой метафоры
В книгах жизнь широким пиром Тешит всех своих гостей, Окружая их гарниром Из страданья и страстей…Саша Чёрный «Ламентации»
Книги теперь не читают, а поедают, и делают их не из бумаги, а из информационного вещества, политого глазурью.Станислав Лем «Футурологический конгресс»
Мой сладкий… Так и съел бы! – говорят о детях и любимых в порыве нежности, обожания. И, напротив, неприятные, отталкивающие люди – те, кого «не переваривают», кто «как кость в горле». Съесть – значит сделать частью себя, своего сознания, мировоззрения, опыта. Порой нам делается сладко или горько, наши лица бывают кислыми и постными, шутки – острыми и солёными, разговоры – набивающими оскомину и вязнущими на зубах… С помощью вкусовых образов мы выражаем целый спектр эмоций и состояний.
Точно так же мы говорим и о книгах, чтении, литературе, называя их духовной пищей. Но если прежде это было исключительно метафорой, фигуральным выражением, то сейчас сделалось почти буквальным, стало частью «пищевого кода» современности. Визуализация книжной культуры и бесконечные эксперименты с внешней формой книг превращают общение с ними в подобие немецких пиров-зрелищ (Schauessen) – популярных в XVIII веке церемоний коллективного любования кулинарными шедеврами. Бисквитные замки, сахарные сады, шоколадные фонтаны, мясные деликатесы в эффектных языках пламени…
Буквальное воплощение пищевой метафоры в современной книжной культуре открыло массу интересного, неожиданного, парадоксального. Попробуем заглянуть за край тарелки, по ободку которой крупно выведено «Литература».
Обглоданная современность
Еда и связанные с ней образы рассматриваются в культурологии как метафора начала и конца, появления и исчезновения, жизни и смерти. Принятие пищи – космогонический акт, восходящий к первобытной тотемической борьбе и к христианской литургии. В русле психологических подходов (3. Фрейд, Д. Франкл, Ф. Перлз) пищевая метафора и её разновидности – гастрономическая и кулинарная – отражают процесс социализации, встраивания человека в окружающий мир. Поедание отождествляется с приобретением, принятием, присвоением.
В современном обществе сверхпотребления Еда стала ключевой метафорой и культурной моделью. Учёные всё чаще говорят о том, что человеческая коммуникация становится глюттонической (лат. gluttonare – поедать, питаться) – связанной с поддержанием жизнедеятельности Homo Consommatus (Человека Потребляющего). Драматизация жизни нынче происходит через драматизацию пищевых процессов, гастрономических явлений и кулинарных опытов.
Реклама не только настойчиво призывает попробовать новый продукт или отведать незнакомое блюдо (Попробуйте новые подушечки «Орбит»!; Знакомьтесь с уткой по-пекински в новом соусе!) – она напрямую связывает пищу с совершением некоего выбора и выполнением какого-то действия (Нетормози – сникерсни!; Сделай паузу – скушай «Твикс»!).

Карикатура неизвестного художника XIX в. Портрет Гурмана. Реплики персонажей: «– Есть нужно, чтобы жить. – Жить нужно, чтобы есть».
Гастрономические образы легко и незаметно транслируются в другие сферы жизнедеятельности, встраиваются в самые разные социальные практики. Возникает чёткая образная параллель: мир как пир; жить значит жрать. Я есть то, что я ем. Я ем, следовательно, существую. Сегодняшнее оголтелое потребительство имеет звонкий отголосок эпохи дефицита – память о километровых очередях в магазины, спецраспределителях, продуктовых карточках, праздничных «заказах».
Советская мифология органично продолжилась в мифологии постиндустриального общества, только прежний гастрономический дискурс тяготел к медикализации (принцип здоровой пищи), а нынешний – к эстетизации (принцип красивой пищи).
Процесс приготовления и поглощения пищи превращается в перформанс, спектакль, шоу. Повар становится модельером и дизайнером, официант превращается в конферансье или актёра. Повышается престиж занятий, связанных с красивой раскладкой и подачей продуктов, появляются новые профессии: мерчендайзер, фуд-стилист. Входят в моду узкие специализации: нутрициолог, сушист, пиццамейкер, титестер, бариста, кофе-леди, ресторанный критик, гастрономический журналист. И хотя многие наши сограждане ещё не отличают карпаччо от гаспачо, не ведают разницы между лобби и лобио, язык продолжает интенсивно пополняться гастрономическими неологизмами.
Ну а что же книги? Они тоже играют далеко не последнюю роль в нынешнем подходе к эстетизации питания. Помимо ставших уже почти традиционными «литературных кафе», «кафе-читален», «книжных бистро», где дают почитать книжку вместе с кофе и булочками, всё больше точек общепита стилизуют свои интерьеры под библиотеки. Причём мода на чтение совместно с жеванием в специально созданных для этого заведениях пришла к нам скорее из США, чем из Европы, где таких точек общепита гораздо меньше либо нет вообще.
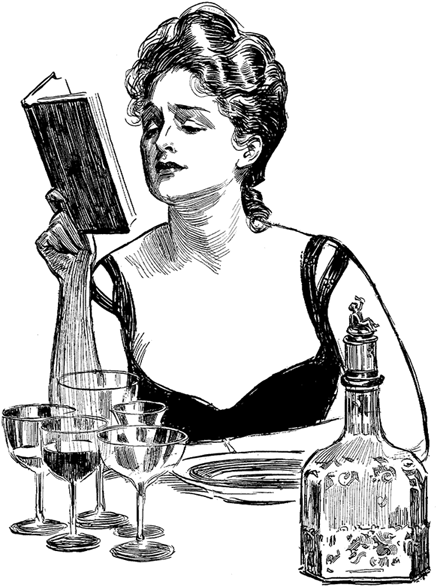
Ч. Д. Гибсон «Имейте книгу на случай скуки» (1912)
Знаете «простой и бюджетный способ украсить зону фуршета в тематике вечера»? Скатерть из книжных страниц. Совет от журнала «Event». Из печатных томов предлагается делать также чайные пакетики и пищевые ёмкости. Как вам, например, бумажные стаканчики или одноразовые тарелки из «Евгения Онегина? А наборы чайных пакетиков с картонными фигурками классиков? Пушкин, Толстой, Достоевский теперь не только на книжных полках, но и в чашках. На ужине, устроенном публичной библиотекой в Торонто, десерты выкладывались прямо на раскрытые книги, а миниатюрные шоколадки украшались крошечными книжными страницами. Всё это очередные вариации на тему букарта (гл. 4).
Кулинарная мода обыгрывает и сам образ Книги. Например, столичная студия десертов «Кейкери» выпекает торты в виде книг. Библиофилам предлагаются бисквиты в виде любимых произведений, влюблённым – «Камасутра» с картинками из крема, школьникам – сладкие учебники. Для самых изощрённых гурманов – кремовая подпись Пушкина или Шекспира и бисквитная имитация кожаной обложки. Известна «литературная» серия чая «Prologue» от американской художницы Флоры Чен: «Дон Кихот», «Лолита», «Великий Гэтсби»…
С 2000 года 1 апреля проводится ежегодный День съедобной книги (Международный фестиваль съедобных книг). Публике представляют имитации книг из пищевых продуктов. Дата была выбрана в честь дня рождения французского кулинара Жана Антельма Брилья-Саварена, автора известного трактата «Физиология вкуса».
Другая художница из США Мария Мордвинцева-Килер решила непосредственно соединить еду с книгой в проекте «Пища для размышлений». Как вам консервы с названиями известных романов? «Завтрак у Тиффани», «Голый завтрак», «Обед в ресторане „Тоска по дому“». На этикетках указаны «ингредиенты» произведений, «суточная норма» юмора и иронии, количество страниц как «размер порции», а внутри помещаются сами книги. Однако и этим уже не особо кого-то удивишь. Гораздо интереснее другое: как проявляет себя пищевая метафора в разговорах о самой литературе.
Дегустация слов
Интересно, что применительно к явлениям языка и понятиям общения пищевая метафора в русском языке имеет преимущественно негативный контекст. Салат, компот, винегрет – синонимы словесной бессвязности, сбивчивости или алогичности. Каша во рту, жевать слова – образные определения невнятной, плохо артикулированной речи. Вешать лапшу на уши – лгать, дезинформировать.
Между тем еда оказывается тесно связана с речью. Язык – и орган пищеварения, и средство общения. Что такое информация? Та же еда. Иначе откуда информационный голод? Мы потребляем свежие новости, как утренние круассаны. Это только в пословице «когда я ем, я глух и нем», а в реальности застолье – самое время для бесед. В кофейнях и ресторанах назначаются деловые встречи и дружеские посиделки, проходят семейные обеды и любовные свидания.
Однако так было всегда. Нынче же пищевые причуды, гастрономические капризы, кулинарные эксперименты и – главное! – разговоры о них не просто естественны, но гиперзначимы и свехпрестижны. Гастрономический опыт становится обязательной частью жизненного опыта в целом. Но не только. Сам процесс потребления требует вербализации – словесного воплощения, отражения в речи. Возникают не только новые научные теории, философские идеи, но и литературные сюжеты.
Одна из заметных тенденций в современной прозе – использование гастрономизмов и гурманизмов для выражения мнений, оценок, авторских позиций.
Дорога кривела рытвинами, словно её пережевали и выплюнули и жевок засох, сохранив кривые, грубые следы зубов или настырных дёсен (Захар Прилепин «Санькя»).
Внешнее отслаивалось от сути, как переваренноемясо от кости (Денис Гуцко «Домик в Армагеддоне»).
Если смотреть на полуостров с гор, то он напоминает трёхслойный пирог. Большой массив белых, как хлеб, известняковых пород, лист зелёной сосновой рощи, плавящийся шматок пляжа с хрустящей корочкой. И тут же большая бутыль солёно-голубого моря (Ильдар Абузяров «Агробление по-олбански»).
Пошла кулинарная линия: пейзаж похож на печенье с открошившимся углом, старые особнячки – на пирожные, день – на духовку… (Алексей Иванов «Блуда и МУДО»).
Приобретая иронический или нигилистический пафос, кулинарная образность превращается в способ художественного обличения реальности, выявления в ней безобразия, безнравственности, бездуховности. Писатели пытаются лишить пищевую метафору алиби, гарантированного ей обществом сверхпотребления.
У них [современных людей] другие сердца. Похожи на желудки(Елена Чижова «Терракотовая старуха»).
Лучше сразу тогда: всё, что мешает вам жрать, всё под бульдозер, в печь, на переплавку. Чтоб на зубах не застревало(Роман Сенчин Московские тени»).
– Имей в виду, правильное питание – это культура. – А мы-то, дураки, думали, что культура это Тютчев…(Александр Мелихов «И нет им воздаяния»).
«Мне достаточно, спасибо» – она отказывалась от книги теми же словами, что и от новой чашки кофе поутру(Анна Матвеева «Завидноечувство Веры Стениной»).
Ты кушаешь эту серую жизнь. Она ест тебя изнутри. Взаимное пожирание. ‹…› А потом серость съест всех. Ам! ‹…› Ещё немного, и он поймает время за хвост, выпотрошит и, может, даже приготовит что-нибудь съедобное. Может, роман…(Всеволод Бенигсен «ВИТЧ»).

П. Брейгель Старший «Пороки: Чревоугодие» (Gula), 1558
Не может бесконечно продолжаться это пожирание обществом самого себя, не говоря уж о том, что всегда останутся те, кому не досталось улиток. ‹…› Лапан. Скажите тоже. Он пробует не кролика, а лапана. А ещё вернее будет сказать, что он дегустирует слова (Наталия Курчатова, Ксения Венглинская «Лето по Даниилу Андреевичу»).
Обжорство не так ужасно само по себе. Но это индикатор, показывающий подлую душу (Виктор Пелевин «ШлемУжаса»).
Мы есть не то, что мы едим, а то, чего мы не можем сожрать… (Алексей Иванов «Блуда и МУДО»).
То же самое – в рок-поэзии. Каждый из нас – беспонтовый пирожок (Егор Летов). Твоя задача – жрать, размножаться и спать! (группа «Пилот»). Что вам на завтрак? Опять Иисус? Ешьте, но знайте: мы вам не простим!; Мы корм XXI века… (Юрий Шевчук). Но в мире есть что-то, чего не выпить, не съесть (Борис Гребенщиков).
Пир в бублимире
Особо интересны целые художественные концепции, построенные на гастрономических и кулинарных метафорах. В современной отечественной прозе это прежде всего роман Виктора Пелевина «Generation „П“», в котором сформулирована «орально-анальная теория» общества, развивающая идеи социального фрейдизма; роман Павла Крусанова «Мёртвый язык», где предложена модель «бублимира» (мир как ежедневно проедаемый бублик); грандиозный «Пир» и устрашающий «День опричника» Владимира Сорокина – произведения, раскрывшие едва ли не всю современную метафизику еды.
Так, в рассказе «Лошадиный суп» из книги «Пир» за многослойным и занимательным сюжетом скрывается устрашающий намёк на виртуализацию пищи – её превращение из реального предмета для удовлетворения органической потребности в некий иллюзорный, мнимый объект. Главным героем движет странное желание: «видеть, как ест хороший человек», а именно – молодая красивая женщина. Добровольно подчиняясь навязанному ей ритуалу: имитировать процесс приёма пищи – эта женщина постепенно превращается в пищевого зомби. Извращённое сознание требует лишь воображаемой, несуществующей еды.

У. Хогарт «Пир Санчо» (1726). Илл. к роману М. де Сервантеса «Дон Кихот». За обедом герою показывают еду, но есть не дают
Принуждая девушку в течение нескольких лет принимать у него на глазах отсутствующую пищу, персонаж Сорокина олицетворяет директивно-принудительный режим потребительского общества. Постепенное и незаметное исчезновение еды с тарелки героини символизирует потаённый, скрытый характер этого режима. Современный человек незаметно для себя привыкает «есть пустоту», потреблять не пищу, а лишь её образ.
Жрать навсегда утраченное единство… Жрать непостижимость грядущего… Жрать сомнительный вкус к языковой эклектике… Жрать постепенное сползание к неприкрытому хамству… Жрать тотальную дискредитацию всего… Жрать зерно истины. Жрать незаслуженно забытое. Жрать опасное словоблудие… Жрать пристрастие к роскоши… Жрать спекулятивную философию… Жрать агрессивное вмешательство… Жрать кризис перепроизводства…Владимир Сорокин«Пир», 2000
В другом сорокинском рассказе «Настя» происходит развоплощение самой пищевой метафоры. Фраза «прошу руки вашей дочери» в буквальном смысле означает физическое лишение конечности. В сцене ритуального поедания девушки пищевой акт обнаруживает свой исходный, архетипический смысл: полное присвоение, абсолютное обладание. Но каннибализм вызывает здесь не этический, а экзистенциальный ужас: человек оказывается таким же предметом потребления. Одновременно и едоком, и едой. Тотальное потребление превращается в самопожирание людей. В другом романе писателя «Лёд» люди названы «мясными машинами».
Аналогичная идея – и в «Дне опричника», изобличающем пищевые фетиши современности. Если традиционная еда выполняет архетипические функции сплочённости и идентичности, то пища духовная нынче подвергается чудовищным трансформациям и необратимым деформациям. Да и «настоящая» еда (щи, квас, хлеб, каша), по Сорокину, на поверку тоже оказывается лишь формальным маркером национального своеобразия и единства.
Особое внимание в этой повести уделяется пищевым перверсиям: тут и «кулинарные казни» эпохи Иоанна Грозного (жертвы варятся в котлах или поджариваются на огромных чугунных сковородах), и тот же каннибализм, и травестирование пищевой тематики (сопряжение еды и рвотного рефлекса). Еда сама по себе и связанные с ней ритуалы, церемонии, обряды изображаются орудиями убийства. Современные застолья выглядят как античные некродипны – могильные изображения пирующих покойников.
Одержимый потребительством и духовно выхолощенный современный мир по определению не может быть живым. Символический образ такого мира – непрерывная трапеза мертвецов. Так устойчивый фольклорный мотив оказывается иронически травестирован современностью: античные некродипны, утверждавшие вечность жизни и представлявшиеся «средствами против умирания», «лекарствами для бессмертия», превратились в пародийный образ нынешней эпохи.
Многие жалуются: читать Сорокина тяжело, противно, жутко – зачем так писать? Да уж, приятного в описанном маловато, но нынче читатель и писатель вообще редко бывают счастливы вместе. Сорокин не психотерапевт и даже не хирург – он патологоанатом, вскрывающий современные реалии.
Увязывание в единую логико-смысловую цепочку еды, секса и смерти опрокидывает современную культуру в пропасть первобытного хаоса, дискредитируя культ пищевой метафоры. И оказывается: внешне абсурдный, извращённый, ужасающий художественный мир ничем не хуже и ничуть не страшнее реальной действительности. Афористические описания иногда становятся социальными пророчествами.
Рассказ как омлет
Пищевая образность возникает и в отображении разных аспектов писательского творчества. Гастрономическая и кулинарная номенклатура (вкус, аппетит, ингредиент, готовка, сервировка, etc.) легко проецируется на механизмы создания, анализа, оценки художественного произведения, активно вторгается в критические отзывы и литературные дискуссии.
Вкусная книга, сочные образы, новоиспечённый автор, состряпать роман, книжный фаст-фуд, переварить прочитанное, послевкусие от чтения, книги раскупаются как горячие пирожки…
Эти и подобные клише заполонили газетные статьи, сетевые публикации, журнальную периодику. Эру Гутенберга сменила эра гамбургера. Литературу запихнули в продуктовую авоську, тексты превратились в блюда и напитки. Авторы уже не пишут, но стряпают – варят, жарят, пекут, консервируют. Сменился и стиль литературно-критического письма, сместилось восприятие художественных категорий. Вот лишь несколько ярких примеров.
Какую сборную солянку можно состряпать, руководствуясь рецептами, понадёрганными из совершенно разных «поваренных книг»?
Если сравнивать литературу с кулинарным искусством, хороший рассказ – как омлет: обманчиво просто по форме, но очень сложно по исполнению.
Не сказать, чтобы у раннего Иванова не было коктейлей – но ингредиенты подбирались со вкусом и смешивались грамотно.
Козлова… продают как ностальгический чебурек для посетителей закусочной в советском вкусе, но внутри хорошо знакомый обычный порошок.
Когда я вижу, что литератор… повторяет какие-то зады кого-то там, кого он может быть даже и не читал… Но я-то это читал. Зачем мне спитые чаи? Когда я могу заварить крепкий, хороший, вкусный чай.
Пищевая программа немедленно выпрямилась, светлоглазая и с пушистым хвостом.– Я – Пища! – провозгласила она.– Здорово, – сказал Билл. – Это значит, что я могу тебя съесть?– Нет. Я не имела в виду, что я пища буквально. Я использовала метафору.– Дай мне метафору, которую я смогу съесть, – сказал Билл, – а иначе я разнесу это место на части.Роберт Шекли«Билл, герой Галактики, на планете закупоренных мозгов», 1990
Один литературный критик предлагает аппетитный вариант истолкования эпизода пелевинского «Ампира В». Другой восхищается аппетитным местом в повести Трифонова. Третий называет «Библиотеку для чтения» Сенковского и Греча аппетитным проектом. Четвёртый хвалит братьев Стругацких за умение делать аппетитным нарратив. Пятый именует Булгакова крепким «аппетитным» беллетристом. Шестой называет роман Василия Голованова необыкновенно вкусным чтением. Седьмой озаглавливает рецензию на книгу Алексея Иванова «Крепкий уральский бульон»…
Разумеется, в каждой из приведённых цитат пищевая образность решает разные задачи и выполняет разные функции, но нельзя не признать навязчивую повторяемость кулинарных эпитетов и метафор. Что прежде было частным случаем – сейчас стало заметной тенденцией.
Кулинарная метафора – и в книжной рекламе, и даже в слоганах популяризации чтения.
Проглоти «Собачье сердце» в 14 лет!
Не забыть завтра купить: хлеб, молоко, яйца, муку, мясо, сыр, макароны, что-нибудь почитать. Помни о пище для ума!
В кулинарных образах можно представить даже самих писателей:
Я вспоминаю французских писателей – их имена звучат густой кулинарной симфонией, словно это не имена вовсе, а названия блюд. Пруст – хрустящее печенье, Бальзак – куриный бульон, Мальро – отварная говядина в приправе, Гюго – фасолевые стручки, Уэльбек – постный телячий медальон (Андрей Аствацатуров «Осень в карманах»).
При всём этом легко заметить: гастрономизмы и гурманизмы акцентируют внешнюю, формальную сторону литературного творчества, утверждая «сделанность», искусственную сконструированность произведений. Отчасти это справедливо, ибо сегодня писательство уже не таинство, а публичное зрелище вроде телешоу «Готовим дома». Кулинарные описания писательского труда представляют его как набор технологических процедур и готовых рецептов. Так отождествляются и уравниваются искусство литератора и мастерство кулинара. Так соединяются издательский и ресторанный бизнес, а литературная критика сближается с гастрономической журналистикой.

О. Бёрдсли «Блюдо с книгами» (1897)
Библиочайку не желаете?
От журналистов, критиков, литературоведов не отстают и рядовые читатели. Хорошую, интересную, легкочитаемую книгу всё чаще называют «вкусная», «аппетитная», «удобоваримая». Причём подобными определениями часто всё и ограничивается. Книга съедена – что тут ещё скажешь? Чтение как осмысленный, вдумчивый процесс замещается книгоедством – механическим поглощением текстов. Книгоедство существовало всегда, но прежде было уделом избранных библиофагов – теперь же стало популярной общекультурной практикой. В былые времена пищевая метафора относилась чаще к порочным книжным пристрастиям и дурным литературным привычкам.
Римский писатель и философ-стоик I века н. э. Луций Анней Сенека в одном из своих «Нравственных писем к Луцилию» и Франческо Петрарка в трактате «Об изобилии книг» (1358) употребляют пищевую метафору, осуждая неразборчивое и беспорядочное чтение. Английские романисты XIX века Энтони Троллоп и Уильям Теккерей сокрушались по поводу чрезмерного увлечения бульварными романами, сравнивая их с «конфектами». Немецкий писатель Жан Поль (Фридрих Рихтер) именовал развлекательные альманахи «сладостями», рекомендуя их «вместо марципана на Рождество и перед Новым годом».
Прежде «книжных червей» подвергали осмеянию и даже остракизму, а сейчас книгоедство поощряется и едва ли не культивируется. «Глотай книги, а не булочки!» – советует авторитетный специалист Франсуаза Буше в «Книге, которая учит любить книги даже тех, кто не любит читать».
Библиофаг (греч. phagein – пожирать) – человек, глотающий книги; пожиратель книг (перен.). Синоним – «книжный червь».
Утратив оценочный негатив, книгоедство превратилось в синоним начитанности, а начитанность, в свою очередь, стала отождествляться с образованностью. В английском сленге появилось понятие «блинные люди» (pancake people) – с широким кругозором, но незначительной глубиной знаний. Количество знаний подменяется объёмом информации. Качество знания замещается количеством «потреблённых» текстов. Учёный-спекулянт бессовестно раздувает «список использованной литературы» в высосанной из пальца диссертации. Книгочей-спринтер гордо тычет пальцем в ряды книжных полок.

«Смерть библиофага». Гравюра XVIII в.
В качестве научного синонима книгоед ства немецкий учёный Ганс-Роберт Яусс ввёл понятие кулинарное чтение – направленное на механическое восприятие текстов, лишённое рефлексии, ориентированное исключительно на удовольствие. Здесь читатель вполне устроил своё счастье – полностью снял с себя всякую ответственность и переложил её на писателя. Дескать, ты сочинил – тебе и ответ держать.
Что ж, достойное возвращение в средневековье, где, если кто знает, практиковались казни книг через их съедение сочинителем. Раз книга содержит «идейный яд» – пусть им отравится сам автор. В качестве «поблажки» наказуемому дозволялось предварительно сварить бумажную жертву.
Кулинарное чтение поощряется с помощью кулинарных же метафор. Магазин электронных книг «Kobobooks» ставит своим постоянным читателям штампик «Я ем книги на обед», а за книжную всеядность даёт «виртуальный пончик».
На выставочных стендах библиотек открываются библио-бары и библио-рестораны, где можно отведать книги. Иные из них тоже подвергаются трансформациям и получают новые названия: например, цитатники и сборники афоризмов именуются «коктейлями» и «библио-чаями». Что ж, книгоеды, креатив вам в помощь!
Библиокафе и книжные бистро существуют нынче и как самостоятельные мероприятия, организованные по принципу ресторанного обслуживания: читатель выбирает литературные лакомства из предложенного библио-меню. В моду вошли литературные ужины, книжные бизнес-ланчи, читательские гурман-вечера. Наконец, у нас уже появились даже такие библиотеки, где по читальным залам катаются тележки с закусками и напитками.
Прежде всего, есть читатель наивный. Каждый из нас порой бывает таким. Этот читатель поглощает книги, как едок блюда, он только берёт, он ест, насыщается…Герман Гессе«О чтении книг», 1920

Д. Гиллрей «Чревоугодник в пищеварительном припадке» (1792)
В моде также приготовление блюд, упоминаемых в литературных произведениях. На этой ниве тоже возникают особые практики и публичные площадки. Так, появились литературные фуд-блоги, самый популярный в России – «Еда в литературе» Татьяны Алексеевой. Из зарубежных – «Book Menus», «Paper / Plates», «Eat This Poem» и многие другие. В Рунете есть также «АК-Тотека еды» – электронный сборник материалов о еде в искусстве, в том числе и в литературе.
Библиотеки стали представлять анонсы книжных новинок в форматах литературного меню, гастрономического дайджеста, кулинарного экскурса. Российский Государственный литературный музей проводит книжно-кулинарную ярмарку «Пища для ума»: писатели представляют литературные новинки, а повара проводят мастер-классы по приготовлению описанных в них блюд.
Немногие пытаются как-то противостоять книгоедству. Известен опыт журнала «Мир фантастики» по введению запрета пищевых метафор. Но куда там! Ведь с помощью гастрономии и кулинарии так легко и так приятно рассуждать о литературе. И всё слышнее, всё смачнее хруст пережевывания книг. У нас насыщенная культурная программа и много-много виртуальных пончиков.
В итоге выходит как в романе Сергея Носова «Член общества, или Голодное время»: главный герой становится участником кружка библиофилов, которое затем оказывается вроде как сообществом гастрономов, а на самом деле… даже сказать страшно. Кому интересно – читайте роман.
Кушать подано
Сопряжение литературного пространства с гастрономическим обнаруживает многочисленные подобия, параллели, аналогии. Автор интеллектуальной прозы уподобляется повару в дорогом ресторане, а его читатель – гурману. Автор произведений массовой литературы, беллетрист уподобляется технологу поточного кулинарного производства, а его читатель – простому едоку. Издатель играет роль официанта, литературовед выступает в амплуа гастрономического журналиста, литературный критик отождествляется с ресторанным критиком.
Написание синопсисов приравнивается к изготовлению пищевых концентратов. Знакомство с книжными аннотациями становится аналогом дегустации новых блюд. Само же чтение уподобляется приёму пищи, а экспертный анализ произведения – реконструкции кулинарного рецепта (раскладывание на ингредиенты, описание приготовления, подсчёт калорий).

П. Брейгель Старший «Жирная кухня» (1563)
В такой системе представлений массовая литература приобретает статус фаст-фуда, литература прикладная представляется рациональным питанием, а интеллектуальная – гурманством. Нелюбовь к быстро растворимой лапше и картошке-фри аналогична нелюбви к бульварным детективам и любовным романам. А выбор мраморной говядины – как предпочтение особо изысканной, подчёркнуто сложной «элитарной» прозы.
Я всегда писал свои романы так, что их можно читать и классически, и нелинейно. «Хазарский словарь» и другие мои романы можно читать от начала до конца, а можно употреблять как шведский стол. С какого краю не подойти – всё равно можно взять то, что вам нужно.Милорад Павич
Пищевой метафоре подчиняется не только способ чтения книг и восприятия литературы, но и её «производство». Сам писательский труд становится аналогом гурманства (на уровне творческого замысла) и поварского дела (на уровне воплощения). В книге «Тысяча тарелок» философы-постмодернисты Жиль Делёз и Феликс Гваттари выдвигают идею циркулярности литературного письма. Питаясь со «шведского стола» мировой литературы, писатель круговыми движениями переходит «от тарелки к тарелке». Читатель дегустирует приготовленные «блюда», но главное для него даже не вкус, а «послевкусие» в виде персональных интерпретаций и собственных интеллектуальных экспериментов.
Но, опять же, это какая-то принципиально новая концепция? Отнюдь. В 1833 году фактически о том же писал Чарлз Лэм в эссе «О чтении старых книг»: «Новые книги напоминают кушанья, приготовленные по новым рецептам: они, как правило, всего лишь мешанина из того, что раньше подавалось в чистом и более естественном виде».
* * *
Итак, литература включается в непрерывную «пищевую цепочку», и сейчас становится уже даже неважно, что и как едят. Изощрённое гурманство интеллектуала, свинское обжорство массового читателя, нищенская трапеза человека, за всю жизнь прочитавшего едва десяток книг, – всё смешалось в современном мире. Ускользает даже сам объект: еда в виде книг – книги как еда.
Ещё в 1971 году в «Футурологическом конгрессе» Станислав Лем пророчил появление «глотеки с деликатесами» – и вот вам она, во всём кулинарно-гастрономическом великолепии, только не в 2039 году (согласно прогнозу), а лет на сорок раньше.
И, видать, уже близок день, когда исчезнет разница между манго и мангой, когда букварь станут читать как поваренную книгу, а в повседневный обиход войдут выражения потребительская литературная корзина, условно-съедобная повесть, дегустация новой книжной продукции.
Кушать подано, господа читатели. Приятного всем аппетита! Но не слишком ли велик культурный счёт за этот обед?
Назад: Глава 8. Чтение в Формате Web 2.0. Стратегии и пра^ти^и
Дальше: Глава 10. Книжное пиратство в вопросах и ответах

