Книга: Мировая история
Назад: 4 Политические перемены: Англосаксонский мир
Дальше: 6 Империализм и имперское правление
5
Европейское мировое господство
К 1900 году народы Европы и представители европейской расы в зарубежных странах считали себя хозяевами всей планеты. Свое господство в мире европейцы пытались устанавливать самыми разными способами, как откровенными, так и скрытыми, но результат для них всегда оправдывал средства. По большей части народы мира реагировали на европейские инициативы и все охотнее маршировали под европейские барабаны. В этом проявлялось уникальное явление всемирной истории. Впервые представители одной цивилизации диктовали свою волю народам во всем мире. Одно несущественное последствие состоит в том, что остаток настоящего труда будет все больше касаться единой, глобальной истории; на самом деле к 1914 году наступит первый кульминационный момент того, что теперь называют глобализацией. Важно думать не только о прямом формальном управлении большей частью поверхности земли в мире европейскими государствами (некоторые люди предпочли бы термин «западными», но не будем демонстрировать чрезмерную привередливость – в Северной и Южной Америке, а также Австралии с Новой Зеландией господство принадлежит культуре европейского происхождения, не азиатской или африканской – и к тому же оно может ввести в заблуждение из-за использования этого слова последнее время в узком политическом смысле). Нам предстоит рассмотреть экономическую и культурную гегемонию, и европейское господство часто выражалось во влиянии, а также в откровенном диктате.
Показательным аспектом европейской культурной гегемонии в мире можно назвать то, насколько быстро остальные народы реагировали на нее, создавая амальгамы из элементов собственной культуры и иноземных заимствований. Уже к концу XIX века в Азии можно было отыскать примеры такого рода гибридного общества на начальной стадии его становления. Разумеется, что в первую очередь речь идет о Японии, но от нее не отставали жители некоторых областей Китая, Юго-Восточной Азии, Индии, Персии и Ближнего Востока. Процесс европеизации коренных народов шел во многом под флагом так называемой оборонительной модернизации, заключавшейся в приобретении европейского оружия и заимствовании методов организации государства ради защиты хотя бы важнейших признаков своей независимости и суверенитета.
Но куда ценнее выглядят миллионы случаев, когда местное население перенимало у представителей колониальной или преобладающей державы то, что им больше всего нравилось, и постепенно превращало заимствование в национальную принадлежность (хотя не всегда проделывали это методами, одобряемыми самими европейцами). В зарубежных портах от Танжера до Каира, Стамбула, Бомбея, Сингапура и Шанхая молодые коренные жители приобщались к образу жизни, разительно отличавшемуся от образа жизни их отцов. Возникали непреодолимые разногласия между политикой властей и традиционной системой ценностей, возникали признаки революционной ситуации, терзающие население планеты в XXI веке.
Мир европейцев в 1900 году можно себе представить в виде концентрических колец. В самой середине располагается сама старая Европа, благосостояние и народонаселение которой на протяжении трех столетий росло благодаря, во-первых, совершенствованию мастерства своих собственных талантов, а во-вторых, эксплуатации ради собственной выгоды мировых ресурсов. Европейцы все больше отличались от других человеческих существ тем, что отбирали у прочих народов и потребляли растущую долю мировых благ, а также энергией и умением, с какими они приспосабливали к своим нуждам окружающую их среду. Их цивилизация в XIX веке уже считалась богатой, но ее носители останавливаться на достигнутом не желали. Индустриализация оказалась явлением, способным к подпитке собственного развития и сотворению новых ресурсов; более того, энергия, заключенная в накапливавшемся богатстве, послужила благоприятным условием для присвоения богатства, созданного в остальных уголках мира. Прибыли от сбыта резины из Конго, тика из Бирмы или персидской нефти вернулись в эти страны в виде капиталовложений очень не скоро. Европейская и американская беднота получила выгоду в виде низких цен на сырье, и благоприятное изменение статистики продолжительности жизни служит подтверждением положения о том, что в условиях промышленной цивилизации удалось отыскать возможность обеспечения народам определенной зажиточности. В Европе даже крестьянин мог себе позволить покупку дешевой готовой одежды и инструментов, в то время как его современники в Африке и Индии все еще жили в каменном веке.
Своим богатством европейцы делились со вторым кольцом европейской гегемонии, то есть с носителями европейской культуры, пересаженной на зарубежную почву. Величайшим примером приводят здесь Соединенные Штаты Америки; список продолжается Канадой, Австралией, Новой Зеландией, Южно-Африканской Республикой и заканчивается странами Южной Америки. Не все эти государства одинаково относились к Старому Свету, но вместе с Европой они совершенно определенно составляют пресловутый западный мир, отнюдь не представляющий собой географического единства. Тем не менее его изобретатели попытались выразить важный факт бытия: сходство представлений и атрибутов, лежащее в основе того, откуда они появились. Понятно, что формировались они под воздействием самых разнообразных факторов. Все эти государства окружали совершенно различимые границы, образовались они в условиях конкретной окружающей среды и в силу собственных исторических обстоятельств. Общими для этих государств следует отметить подходы к решению встающих перед их народами задач, а также государственные атрибуты, приспосабливавшиеся под природные условия существования самих стран. Официальной религией во всех этих странах провозглашалось христианство (никогда до XX века никто не заселял новые земли с лозунгами атеизма), отношения регулировались нормами европейских систем права, и у всех их народов имелся доступ к великой культуре Европы через общие языки общения.
В 1900 году западный мир иногда называли «миром цивилизованным». Его так назвали только потому, что в нем существовали общие стандарты; не знавшие сомнения люди, которые называли свой мир цивилизованным, элементарно не хотели видеть множество явлений их мира, заслуживавших категории принадлежности к цивилизации. Озираясь вокруг себя, эти люди, как правило, видели только языческие, отсталые, невежественные, безнадежные народы или немногие из них, стремящиеся приобщиться к западному цивилизованному образу жизни. Именно по причине великой самоуверенности европейцы добились больших успехов; то, что считалось внешними проявлениями врожденного превосходства европейских идей и ценностей, воодушевляло мужчин на штурм новых стран планеты и усугубляло непонимание европейцами нашего мира. Прогрессивные ценности XVIII века послужили источником новых аргументов в пользу превосходства, подкрепивших аргументы, изначально возникшие из религиозной веры.
К 1800 году европейцы практически растеряли все свое уважение, с которым когда-то относились к остальным цивилизациям планеты. Собственный опыт построения общественных отношений они считали бесспорно выше, чем у неразумных дикарей, встречавшихся им повсеместно. Защита прав личности, свободы прессы, всеобщего избирательного права, предохранение женщин и детей (даже скота) от эксплуатации провозглашались идеалами, отстаивавшимися вплоть до наших собственных дней европейцами и американцами во всех странах. Причем часто они совершенно не осознавали нелепость своих действий при взгляде на них со стороны. Филантропы и приверженцы так называемого прогрессивизма издавна носятся с идеей универсализма ценностей европейской цивилизации для всего человечества вроде ее медицины и санитарии, даже когда заслуживают сожаления прочие утверждения относительно европейского превосходства. Настоящие ученые тоже часто явно указывали в том же самом направлении, в сторону развенчания суеверия и благословения рациональной эксплуатации ресурсов, предоставления систематического образования и подавления отсталых общественных традиций. Существовало вполне авторитетное универсальное предположение о том, что ценности европейской цивилизации полезнее туземных ценностей, и все старались не замечать пагубных последствий от навязывания европейских ценностей ретивыми их поборниками.
Считалось так, что, к счастью для народов некоторых земель, над которыми «все еще висела густая тьма» (как пели викторианцы в одном из своих гимнов), ими к 1900 году часто управляли непосредственно европейцы или представители европейской расы: подданные народы составляли третье концентрическое кольцо, через которое европейская цивилизация испускала свои лучи просвещения наружу. Просвещенные наместники в многочисленных колониях упорно трудились над тем, чтобы облагодетельствовать железными дорогами, грамотой европейского происхождения, больницами, а также законом и правопорядком народы, собственные государственные атрибуты которых они считали несостоятельными (доказательство их несостоятельности европейцы видели в том, что они не выстояли в условиях нажима и противостояния «высшей цивилизации»). Даже когда удавалось отстоять и сохранить ведомства коренного народа, делалось это при условии предварительного признания превосходства культуры колониальной державы.
Ощущением такого своего превосходства уже больше никто не восхищается и даже терпеть не хочет, пусть даже многие европейцы в глубине души с ним не расстаются. В одном отношении тем не менее это ощущение сошло на нет, что большинство добросовестных критиков колониализма все еще воспринимают как благо, пусть даже осознавая истинные побуждения к этому. Ими они называют отмену рабовладения в европейском мире, а также развертывание силы и дипломатии ради борьбы с ним в странах, контроль европейцев на которые не распространялся. Решающие шаги на данном пути приходятся на 1807 и 1834 годы, когда депутаты британского парламента отменили сначала работорговлю, а затем и само рабовладение внутри Британской империи. Это действие главной военно-морской, имперской и торговой державы сыграло решающую роль; аналогичные меры в скором времени приняли власти остальных европейских стран, и в 1865 году с рабовладением покончили даже в США. Окончание процесса освобождения рабов можно наблюдать в Бразилии в 1888 году, и как раз в это время колониальные власти и командование Королевским флотом вплотную занялись деятельностью арабов-работорговцев на Африканском континенте и в бассейне Индийского океана. На исправление отношения к рабству пришлось мобилизовать большие интеллектуальные, духовные, экономические и политические силы. Европейцы мощнее всех остальных народов нажились на рабовладении, и они же первыми от него отказались. В этом откровенном парадоксе лежит множество противоречий в отношениях Европы с остальным миром.
За пределами внешнего кольца непосредственно управляемых территорий располагается весь остальной мир. Судьбу его народов тоже определяли в Европе. Иногда их ценности и государственные атрибуты порочились в ходе общения с европейцами (как это случилось в Китайской и Османской империях), а результатом становилось косвенное политическое вмешательство со стороны европейцев и ослабление власти традиционных авторитетов. Иногда представители коренного населения воодушевлялись такими контактами и использовали европейцев в своих интересах: Япония считается единственным примером влиятельной страны, власти которой успешно пользовались достижениями Европы с самого начала налаживания отношений с ней. От европейцев практически невозможно было укрыться: они казались вездесущими. Чего стоила одна только деловая, бьющая ключом энергия европейского купца! На самом деле европейская гегемония навязывалась откровеннее всего обитателям территорий, где непосредственной власти европейских колонизаторов не было вообще. Европейские ценности распространялись на мощных крыльях желаний и зависти. Единственное спасение могла принести географическая удаленность от Европы (но британцы в 1904 году вторглись даже на Тибет). Эфиопия представляется практически единственным примером сохранения настоящей независимости от европейцев; она выстояла британское и итальянское вторжения в XIX веке, а спасло ее не в последнюю очередь пропагандистское преимущество, заключавшееся в том, что это древнее царство числилось христианской страной на протяжении примерно 14 веков.
Кто бы ни открыл заветную дверь, представители любой цивилизации с радостью старались проникнуть в нее вслед за первооткрывателем, но одним из важнейших агентств, доставлявших европейскую цивилизацию к порогу остального населения мира, всегда служило христианство с его фактически безграничным интересом ко всем сторонам человеческого поведения. Территориальное распространение организованных церквей и рост в них числа официальных приверженцев в XIX веке послужили признанию его величайшей после периода апостольского служения эпохой экспансии христианства. Тогда наблюдалась возродившаяся волна миссионерской деятельности; католики учреждали новые ордена, в протестантских странах появились новые общества поддержки зарубежных миссий. Все-таки парадоксальным эффектом стало усиление европейского привкуса у всего, что должно было считаться убеждением людей всех сословий и любого материального достатка. Практически во всех странах-неофитах христианство долгое время рассматривалось в качестве очередного аспекта европейской цивилизации, а не как духовное послание свыше на местном наречии. Забавным, если не мелким примером можно привести озабоченность европейских миссионеров по поводу одежды своих прихожан. Тогда как иезуиты в Китае XVII века благоразумно переоделись в платье хозяев страны, куда они приехали в качестве незваных гостей, наследники их дела в XIX веке с большим рвением принимаются за переодевание коренных жителей государств Центральной Африки или островитян Тихого океана в европейские костюмы, совершенно нелепые в тех климатических условиях. Так выглядел один из способов распространения христианскими миссионерами далеко не духовного послания Небес. Часто к тому же они приносили своевременную материальную и техническую пользу: снабжали продовольствием во время голода, передавали передовые сельскохозяйственные методы, открывали больницы и школы, некоторые из которых могли сыграть подрывную роль в обществах, в которые их внедряли. Через них проникали представления о новой для коренных жителей цивилизации.
Идейная убежденность европейцев, как занимавшихся миссионерской деятельностью, так и воздерживавшихся от нее, в крайнем случае могла питаться пониманием того, что коренное население не может их просто так выгнать со своей земли, даже в странах, не подвергшихся европейской колонизации. Получается так, что на планете не найти укромного уголка, где европейцы не могли бы при желании навязать свое присутствие силой оружия. С развитием оружейного дела в XIX веке европейцы получили еще большее относительное превосходство над народами мира, нежели то, чем они располагали, когда португальцы первый раз дали залп орудиями одного борта корабля по Каликуту. Даже когда передовые устройства появлялись у прочих народов, им редко удавалось применить их с толком. В сражении при Омдурмане на территории Судана в 1898 году солдаты английского полка открыли по противнику огонь с дистанции 200 метров из штатных по тем временам магазинных винтовок британской армии. Чуть позже англичане шрапнельными снарядами и пулеметами искромсали на части массы алжирской армии, солдаты которой даже не приблизились к стрелкам первой шеренги британского полка. Сражение закончилось тем, что алжирцев полегло 10 тысяч человек, притом что британских и египетских солдат погибло 48 человек. И дело тут совсем не в том, что один англичанин чуть позже отобразил в стихах: «На всякий случай мы всегда везем с собой // Надежный пулемет «Максим» как сюрприз для тех, у кого его нет…» Ведь халиф тоже располагал пулеметами, но хранил их на складе арсенала в Омдурмане. И телеграфный аппарат у него имелся для связи со своими войсками, и мины с электрическим подрывом для уничтожения британских канонерских лодок на Ниле. Но ничем из достижений инженерной мысли правитель Алжира не воспользовался; прежде чем коренные народы повернут конструкторские находки европейцев против них самих, им потребуется не только техническое просвещение, но и перенастройка сознания на убийство себе подобных с помощью достижений научно-технической революции.
Существовал к тому же еще один повод, причем более доброжелательный и не такой уж спорный, из-за которого носители европейской цивилизации прибегали к силе. Силы требовало проведение в жизнь политики Британского мира, которая на протяжении всего XIX века стояла на пути европейских стран, борющихся друг с другом за овладение территориями за пределами Европы. В XIX веке невозможно было как-то переиграть колониальные войны XVII и XVIII столетий, хотя именно тогда наблюдалось самое масштабное в современные времена расширение прямого колониального правления. Купцы всех стран получили возможность для перемещения по морям без каких-либо разрешений или препятствий. Предварительным условием неформальной экспансии европейской цивилизации служило превосходство британского флота.
Оно считалось гарантией прежде всего существования международной сети торговли, центром которой к 1900 году числилась Европа. Старинные периферийные обмены товарами нескольких купцов и предприимчивых капитанов с XVII века постепенно заменялись интегрированными отношениями взаимозависимости, основанной на многочисленных отличиях роли между промышленными и аграрными странами; аграрные страны становились поставщиками продовольствия для урбанизированного населения промышленных стран. Но такое грубое разграничение требует значительного уточнения. Отдельные страны часто не соответствуют такой примитивной квалификации; США, например, в 1914 году считались одновременно крупным производителем сырья и ведущей в мире индустриальной державой, отдача которой приравнивалась к объему выпуска готовой продукции Великобритании, Франции и Германии, вместе взятых. Нельзя эти различия отнести однозначно по принадлежности к странам европейской и иной культуры. Япония и Россия в 1914 году проходили индустриализацию быстрее, чем Китай или Индия, но Россию, притом что отнять у нее такие критерии, как принадлежность к Европе, христианской вере и империалистическому пути развития, не получалось, англосаксы к развитым странам не причисляли, и большинство японцев (как большинство русских) оставалось крестьянами. Не находили они развитую экономику и в балканской Европе. Так что вывод следует свести к тому, что в 1914 году ядро передовых стран располагало социально-экономическими структурами, радикально отличавшимися от тех же структур традиционного общества, и что эти страны служили стержнем Атлантической группы стран, все больше становящихся главным производителем благ и их же главным потребителем в мире.
Так случилось, что центр мировой экономики сосредоточился в Лондоне, где предоставлялись финансовые услуги, за счет которых оплачивался устойчивый поток мировой торговли. Громадный объем сделок в мире заключался посредством переводного векселя, номинированного в фунтах стерлингов; фунт стерлингов, в свою очередь, оценивался по международному золотому стандарту, к которому привязывалась котировка валюты ведущих стран мира. Во всех крупнейших странах существовала золотая валюта, и куда угодно можно было пускаться в путешествие, прихватив с собой мешок золотых соверенов, пятидолларовых монет, золотых франков или любых других инструментов обмена, и их повсеместно принимали к оплате товаров и услуг.
Лондон служил центром мировой экономики еще и в том смысле, что Британия оставалась крупнейшим торговым государством в мире. И это несмотря на то, что к 1914 году по валовому продукту Соединенное Королевство по многим показателям уступило первенство США и Германии. Основное судоходство в мире и транспортная торговля находились в британских руках. Британцам принадлежала главная роль в экспортно-импортных отношениях на планете, причем только они додумались организовать за пределами Европы производственных предприятий больше, чем на ее территории. Великобритания к тому же числилась крупнейшим экспортером капитала, и ее предприниматели извлекали огромный доход из своих зарубежных инвестиций, особенно вложений в США и Южную Америку. Особая роль Лондона укладывалась в сложившуюся примерно треугольную систему международного торгового обмена. Британцы закупали товары, как промышленные, так и все прочие, в Европе и оплачивали их своими собственными промышленными товарами, наличными деньгами и заморскими изделиями. Внешнему миру они предлагали промышленные товары, капитал и услуги, забирая в виде их оплаты продовольствие, сырье и наличные деньги. Такая сложная система служит иллюстрацией того, как малая часть европейских отношений с остальным миром приходилась на примитивный обмен готовых изделий на сырье. Не следует забывать и об уникальном примере Соединенных Штатов, включенных в экспортные отношения слабо, но постепенно приобретающих все большую долю в собственном внутреннем рынке промышленных товаров и все еще остающихся импортером капитала.
Подавляющее большинство британских экономистов полагало в 1914 году, что процветание, принесенное этой системой, и накопление богатства, которое оно делало возможным, служит доказательством правильности доктрины свободной торговли. Благосостояние их собственной страны укреплялось быстрее всего как раз в период наибольшей популярности таких идей. Адам Смит предсказал так, что период благополучия должен продолжаться, если отказаться от закрытой имперской системы, внутри которой торговля резервируется для метрополии, и его предположение в скором времени оправдалось в случае с Америкой, так как в считаные годы после заключения мира 1783 года случилось мощное расширение объема англо-американской торговли. К 1800 году львиная доля британского экспорта уже шла за пределы Европы, а впереди уже ждал величайший период расширения торговли в Индии и Восточной Азии. Британская имперская политика меньше ориентировалась на потенциально сложное приобретение новых колоний, а больше на открытие областей, закрытых для торговли, так как они всегда обещали процветание. Вопиющим примером невиданной алчности английских купцов может считаться «опиумная война» 1839–1842 годов в Китае. Ее итогом стало открытие пяти китайских портов для европейской торговли и фактическая уступка Великобритании Гонконга как поселения фактории, на территории которой действовало британское право и свобода торговли.
В середине XIX века на несколько десятилетий приходится большой наплыв идей, посвященных свободной торговле, когда правительства большего, чем когда-либо прежде или после, числа государств оказались готовыми поддержать их. В этот период отменили тарифные барьеры, и относительное преимущество британцев – сначала среди торговых и промышленных стран – сохранилось. Но эта эпоха прошла в 1870-х и 1880-х годах. Из-за глобальной рецессии экономической активности и падения цен к 1900 году Великобритания снова оказалась единственной ведущей страной, лишенной тарифной защиты, и даже в этой стране усомнились в старинной догме, посвященной свободной торговле, так как конкуренция со стороны Германии становилась все жестче и тревожнее.
Как бы то ни было, экономический мир 1914 года в ретроспективе все еще видится царством поразительной хозяйственной свободы и непоколебимости. Долгий европейский мир обеспечил почву, на которой могли созревать торговые связи. В условиях стабильности иностранных валют у системы мировых цен появлялась большая гибкость; валютного контроля тогда нигде в мире не существовало, и Россия с Китаем к тому времени составляли единое целое с валютным рынком, как и остальные страны мира. Ставки фрахта и страхования понижались с каждым днем, стоимость продовольственных товаров долгое время шла вниз, зато заработная плата демонстрировала долгосрочное повышение. Процентные ставки и налогообложение никто не задирал. С точки зрения любого европейца, и особенно англосакса, все выглядело так, будто капиталистический рай суть явление достижимое.
Когда эта система выросла до таких размеров, чтобы включить Азию и Африку, их народы тоже стали изобретать способы распространения изначально европейских идей и приемов, которые в скором времени приспосабливались к условиям иных стран. Акционерные общества, банки, товарные и фондовые биржи распространялись по всему миру где насильно, где добровольным заимствованием; они начали теснить традиционные коммерческие структуры. С началом возведения доков и прокладки железных дорог, налаживания инфраструктуры мировой торговли одновременно с внедрением индустриальной занятости населения крестьяне в некоторых местах превращались в промышленный пролетариат. Иногда последствия промышленной глобализации могли пагубно сказываться на местных предприятиях; культивирование индиго в Индии практически рухнуло, когда в Германии и Великобритании появились синтетические красители. Экономическая история Юго-Восточной Азии и ее стратегическое значение поменялись из-за британцев, которые завезли туда каучуковое дерево (этим своим шагом британцы к тому же без особого злого умысла подорвали бразильскую резиновую промышленность). Уединение, изначально нарушенное землепроходцами, миссионерами и солдатами, ушло в историю с приходом телеграфа и железной дороги; в XX веке автомобиль повез путешественников совсем в медвежьи углы. Преобразованию подверглись и более глубокие отношения; открытый в 1869 году Суэцкий канал послужил не только формированию британской коммерции и стратегии, но еще и приданию Средиземноморью новой роли, но на этот раз не как центра особой цивилизации, а как транзитного маршрута.
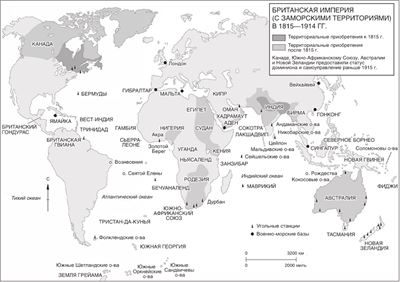
Экономическую интеграцию и институциональные нововведения нельзя отделить от культурных изменений. При этом речь идет далеко не только об одних формальных инструментах миссионерской религии, учебных заведениях и государственной политике. На европейских языках, отнесенных к официальным, например, передавались европейские понятия, а также открывалось для образованной верхушки коренных народов наследие не только христианской цивилизации, но к тому же еще светской и «просветленной» европейской культуры. Миссионеры занимались распространением не одной только догмы с оказанием медицинских и образовательных услуг; они к тому же стимулировали критику колониального режима как такового из-за того несоответствия, которое возникало между результатом и намерением по внедрению своей культуры.
С точки зрения европейца XXI века многое из того, что прижилось в мире из навязанного европейскими колонизаторами, можно назвать наследием не самым желанным и прекрасным. Прежде всего напомним примитивный призыв перенимать европейскую одежду, сколь бы нелепой она ни выглядела, но получилось так, что те, кто пытался сопротивляться европейской гегемонии, стали считать ношение европейской одежды отказом от родных традиций и подчинением европейскому образу жизни. Практически повсеместно радикалы и реформаторы выступали в пользу европеизации своих стран. Идеи 1776, 1789 и 1848 годов все еще волнуют активистов стран Азии и Африки, и в мире все еще ведутся дебаты вокруг его будущего на европейских условиях.
Такой необычный итог подчас ускользает из поля зрения. С точки зрения его распутывания 1900 год считается как раз началом, а не завершением всего дела. Японцев считают талантливым народом, унаследовавшим тончайшие художественные традиции, и все-таки они переняли не один только западный индустриализм (что вполне понятно), но и западные художественные формы с западным платьем, отказавшись от всего своего собственного. Японцы теперь считают модными виски и кларет, а китайцы официально почитают немецкого философа Карла Маркса, сформулировавшего систему взглядов, коренившуюся в немецком идеализме XIX века и английской социально-экономической практике. А между тем он практически ничего не говорил об Азии, кроме как с презрением, и никогда в жизни не бывал восточнее Пруссии. Тут обратите внимание на еще один забавный факт: равновесие культурного влияния однозначно склоняется в одну сторону. Мир отдавал в Европу случайные модные штучки, но никакие представления или атрибуты из Европы нельзя сопоставить по произведенному эффекту в мире с остальной экзотикой. Учение Маркса служило мощной движущей силой во всей Азии XX века; последним варягом для европейцев, речи которого звучали так же убедительно в Европе, числится Иисус Христос.
Физическая передача культуры коренным народам осуществлялась в первую очередь путем переселения европейцев на другие континенты. За пределами Соединенных Штатов две самые многочисленные заморские группы европейских общин находились (и находятся до сих пор) в Южно-Африканской Республике и в прежних британских колониях, которые формально числились субъектами прямого правления Лондона на протяжении практически всего XIX столетия, но на самом деле выглядели некими государственными гибридами – не совсем самостоятельными государствами, но и не полноценными колониями тоже. Обе группы пополнялись на протяжении XIX века, как и США, великой диаспорой европейцев, численность которой оправдывает название, присвоенное данной эпохе европейской демографии: «Великое переселение народов».
До 1800 года переселенцев из Европы выезжало мало, в отличие, впрочем, от тех, кто в массовом порядке покидал Британские острова. После 1800 года за море отправилось приблизительно 60 миллионов европейцев, и их поток обрел значительную массу в 1830-х годах. В XIX веке большая часть европейских переселенцев выехала в Северную Америку, чуть меньше отправилось в Латинскую Америку (прежде всего, в Аргентину и Бразилию), Австралию и Южно-Африканскую Республику. Одновременно латентное переселение европейцев шло в губерниях Российской империи, занимавшей одну шестую часть поверхности планеты и располагавшей обширными областями для заселения иммигрантами в Сибири. Пик переселения народов из Европы фактически пришелся на канун Первой мировой войны в 1913 году, когда больше 1,5 миллиона человек покинули родные дома; больше трети из них составили итальянцы, около 400 тысяч – британцы и 200 тысяч – испанцы. За 50 лет до того итальянцев в списках переселенцев встречалось совсем мало, гораздо больше было немцев и скандинавов. Все это время вклад Британских островов в эмиграцию отличался завидным постоянством; между 1880 и 1910 годами за море отправилось 8,5 миллиона британцев (число итальянцев-эмигрантов за тот же период времени чуть превысило 6 миллионов).
Основная масса британских эмигрантов отправилась в Соединенные Штаты (около 65 процентов от них между 1815 и 1900 годами), но большое их количество переехало также в самоуправляющиеся колонии; их соотношение после 1900 года изменилось, и к 1914 году большинство британских переселенцев оседало как раз в тех колониях. Многие итальянцы и испанцы также отправились в Южную Америку, а итальянцы еще и в Соединенные Штаты. США оставались местом переселения всех остальных национальностей Европы; между 1820 и 1950 годами в Соединенные Штаты переселилось больше 33 миллионов европейцев.
Объяснения такой поразительной демографической эволюции находятся на виду. Иногда притоку переселенцев способствовала политика властей, как это случилось после 1848 года. Увеличение народонаселения в Европе всегда ложилось бременем на экономические возможности континента, на что указывает открытие такого явления, как безработица. В последние десятилетия XIX века, когда эмиграция росла стремительнее всего, европейские фермеры ощущали прессинг со стороны зарубежных конкурентов. Прежде всего, дело состояло в том, что впервые в истории человечества появились совершенно очевидные возможности в других краях, где требовались трудовые ресурсы, в момент, когда совсем кстати появились простые и дешевые средства, чтобы туда добраться. С приходом парохода и железных дорог значительно изменилась демографическая история, и эффект от внедрения этих двух видов с полной силой проявился после 1880 года. Они позволили гораздо больше повысить региональную мобильность населения, поэтому перемещение сезонных рабочих и переселенцев внутри континентов намного упростилось. В Великобританию ввозили ирландских крестьян, валлийских шахтеров с металлургами и английских фермеров; эта страна в конце XIX века приняла наплыв еврейских общин из Восточной Европы, которые долгое время оставались отличительным элементом британского общества.
К сезонной миграции трудовых ресурсов, которой всегда характеризовалась жизнь таких приграничных районов, как Южная Франция, теперь добавились иностранцы, прибывавшие на длительное поселение, как поляки приезжали во Францию для работы на угольных шахтах, а итальянские официанты с мороженщиками вошли в британский фольклор. Когда в силу политических перемен открылось побережье Северной Африки, оно тоже подверглось нашествию переселенцев из ближайших стран Европы. Итальянцы, испанцы и французы тянулись туда, чтобы поселиться там или заняться торговлей в прибрежных городах. Таким вот манером создавалось новое общество носителей интересов, отличных от интересов общества, из которого вышли эти переселенцы, и одновременно отличных от интересов коренных сообществ, среди которых они оседали.
Упрощение путешествия облегчило переселение не одних только европейцев. Переселение китайцев и японцев на тихоокеанские побережья Северной Америки выглядело массовым уже к 1900 году. Китайские переселенцы к тому же двинулись в Юго-Восточную Азию, японские – в Латинскую Америку; тогдашнее зрелище переселения народов напугало австралийцев, стремившихся предохранить «Белую Австралию» за счет ограничения въезда на ее территорию по расовому критерию. Британская империя обеспечила громадную структуру, в пределах которой индийские общины распространились по всему миру. Но эти движения, какими бы заметными они ни казались, уступали по масштабу главному явлению XIX века в виде последнего большого Vo¨lkerwanderung (переселения) европейских народов. Причем для будущего оно представляло такое громадное значение, как в свое время вторжения варваров.
В Латинской Америке (само это понятие появилось в середине XIX века), которая влекла главным образом итальянцев и испанцев, южные европейцы могли найти многое из того, к чему они привыкли на родине. Там сложилась структура культурной и общественной жизни, основанная на католицизме; прижились латинские языки и социальные традиции. Имперское прошлое отразилось в политической и правовой структуре. Причем некоторые имперские атрибуты сохранились, невзирая на промчавшуюся эпоху политических волнений начала XIX века, которой фактически закончилось испанское и португальское колониальное господство на данном материке. Все случилось из-за событий в Европе, приведших к перелому, при котором пороки старых империй оказались фатальными.
Надо сказать, все произошло отнюдь не из-за недостатка усилий апологетов империй, по крайней мере, со стороны испанцев их вполне хватало. В отличие от британцев на севере правительство испанской метрополии в XVIII веке предприняло попытку радикальных реформ. Когда Бурбоны в 1701 году сместили на испанском престоле последнего из Габсбургов, началась новая эпоха испанского имперского развития, хотя потребовалось несколько десятилетий, чтобы эта эпоха показалась очевидной. Перемены сначала потребовали реорганизации общества, а потом «просвещенной» реформы. Два генерал-губернаторства в 1700 году преобразовали в четыре, два новых появились в Новой Гранаде (Панаме и области, занятой Эквадором, Колумбией и Венесуэлой) и Ла-Плате, простиравшейся от устья реки поперек континента до границы Перу. Вся эта структурная рационализация сопровождалась либерализацией закрытой купеческой системы, сначала неохотно и затем сознательно стимулируемой в качестве средства достижения процветания. Такие меры позитивно влияли на экономику одновременно колоний и тех областей Испании (прежде всего, средиземноморского побережья), что выиграли от отмены монополии на колониальную торговлю, прежде ограниченной портом Севильи.
Отчасти схожей с тем, что происходило на севере, выглядела возможность того, что такие испанские попытки в сфере реформирования внесли свой вклад в усиление напряжения в системе, которая уже в известной степени выглядела порочной. Колониальные верхушки ощущали себя все больше отстраненными от судьбы своей родины. Зловещим для Испании казалось то, что их вожаки часто представляли переселенцев в первом поколении или даже испанских чиновников, которые в Новом Свете увидели шанс поступать по собственному усмотрению, чего им в прежней стране позволяли крайне редко. Серия восстаний позволила увидеть застарелые недостатки; в Парагвае (1721–1735 гг.), Колумбии (1781 г.) и, самое главное, в Перу (1780 г.) возникали реальные угрозы колониальному правлению, которое удалось предохранить только энергичными усилиями военных. Среди прочего в этих целях требовались поборы на содержание колониального ополчения, неоднозначного по своему предназначению, так как креолы в его составе получали военную подготовку, которая могла пригодиться им в борьбе против Испании. Глубочайший раскол внутри испанского колониального общества был между индейцами и колонистами испанского происхождения, но непосредственную политическую важность представляли разногласия между креолами и иберийцами. Со временем пропасть раскола только расширялась. Обиженные отстранением их с высоких должностей креолы видели перед собой пример успеха британских колонистов Северной Америки, стряхнувших с себя обузу имперской власти. Французская революция к тому же сначала обещала большие возможности, а опасности пришли позже.
Пока разворачивались эти события, испанское правительство занималось совсем другими делами. В 1790 году спор с Великобританией наконец-то закончился отказом испанцев от остатков своего прежнего суверенитета в ряде районов Северной и Южной Америки, когда они признали, что право на запрет торговли или поселение в Северной Америке распространяется на территорию внутри 30-мильной зоны (50 километров) вокруг испанского поселения. А тут пришло время войн сначала с Францией, затем с Великобританией (дважды) и наконец-то опять с Францией во время наполеоновского вторжения. Эти войны стоили Испании не только Санто-Доминго, Тринидада и Луизианы, но к тому же еще собственной династии, представителей которой Наполеон принудил к отречению от престола в 1808 году. Конец испанской морской мощи уже наступил у мыса Трафальгар. В таком состоянии неразберихи и слабости власти, когда в конечном счете Испанию, как таковую, поглотило французское вторжение, правители ряда южноамериканских стран при поддержке крупных групп креолов решили разорвать оковы зависимости от метрополии. В 1810 году с восстаний в Новой Гранаде, Ла-Плате и Новой Испании начались войны за независимость.
С самого начала все эти восстания заканчивались неудачей, а в Мексике революционеры обнаружили, что напряженность в отношениях между разными народностями очень часто перевешивает конфликт с Испанией; индейцы устраивали вооруженные стычки с метисами (то есть с полукровками), а вместе они нападали на европейцев. Но испанскому правительству не дано было привлечь на свою сторону ни одну из мятежных групп, и накопить достаточно сил для подавления новых волн восстания не получалось. Британцы со своей морской мощью служили гарантом того, что ни одна консервативная европейская держава не выступит на стороне испанцев, и тем самым они практически обеспечили воплощение в жизнь «доктрины Дж. Монро». К 1821 году войска Испании терпели поражение за поражением, и казалось так, будто весь континент объяло восстание.
Ключевой фигурой в деле освобождения Южной Америки от испанского владычества числится Симон Боливар. Он родился в 1783 году в Каракасе в семье состоятельных родителей, предки которых поселились в Америке в XVI веке. Со своим неуемным характером и военным талантом Боливар успевал оказать влияние на все освободительные войны, хотя его надеждам на единую Латинскую Америку с либеральной политической системой управления не суждено было воплотиться в жизнь. За без малого семь лет он со своими единомышленниками уничтожил на континенте колониальную власть испанцев, правивших коренными жителями и переселенцами на протяжении 300 с лишним лет, и создал абсолютно новую конфигурацию государственной системы.
Боливар с небольшим отрядом прибыл с Гавайев в 1817 году и высадился на побережье Венесуэлы. Отсюда он двинулся на соединение с отрядами местного сопротивления испанскому владычеству и предпринял серию наступательных операций, позволивших в конечном счете выдворить колониальную армию со всей территории Южной Америки, а самого Боливара провозгласили либертадором (освободителем) областей говорящих по-испански народов к северу от Чили. Но вместо объединения, на которое рассчитывал С. Боливар, представители местной правящей верхушки провозгласили самостоятельные республики как раз в регионе, который он помог освободить (одну из них, образованную в верхней части колониальной Перу, даже назвали в честь великого либертадора). Но после попытки силового насаждения единой власти на континенте Боливар в 1830 году умер крайне разочарованным человеком на пути в Европу, куда его отправили в изгнание. При жизни он дал импульс к укреплению таких республик, как Колумбия, Венесуэла и Перу. На юге Чили и Аргентина получили фактическую независимость еще до 1820 года, а на севере Мексику объявили самостоятельным государством в 1821 году.
Судьба португальской Бразилии складывалась несколько иначе, так как, невзирая на французское вторжение в Португалию в 1807 году, вызвавшее новую волну переселения народа, это переселение отличалось от того, что происходило в Испанской империи. Принц-регент Португалии добровольно переехал из Лиссабона в город Рио-де-Жанейро, ставший тем самым фактической столицей Португальской империи. Притом что он возвратился в Португалию в качестве короля в 1820 году, в Рио-де-Жанейро оставался его сын, который возглавил сопротивление колонии попыткам португальского правительства по восстановлению своего контроля над Бразилией и без особых возражений в 1822 году провозгласил себя императором независимой Бразилии.
Причины того, почему не состоялся расширенный процесс объединения в Латинской Америке, занимают умы многих историков. Главной причиной можно назвать сочетание различий в культуре и изобилие природных богатств: правители отдельных районов верили в свою способность распоряжения ими самостоятельно и отказывались пускать посторонних людей в свои вотчины. Преобладание военного элемента тоже могло сыграть свою роль: никто не хотел отдавать свои вооруженные отряды в состав общей армии, к управлению которой допускали далеко не всех. Поэтому к тому же не получилось никакого силового воссоединения в XIX веке (или позже). Ни одно из новых государств не располагало достаточной мощью для завоевания остальных республик.
В Северной Америке дела складывались совсем по-другому. При всем разнообразии 13 британских колоний и стоящих перед ними трудностей после их победы между ними сложилось относительно легкое общение морем, а на суше возникло совсем немного непреодолимых препятствий. Их народы к тому же располагали некоторым опытом сотрудничества, возникшего еще при имперском правлении. Однако даже при наличии таких преимуществ их раскол оставался достаточно важным фактором, чтобы принять конституцию, положениями которой предусматривались весьма ограниченные полномочия национального правительства.
Латиноамериканские республики с самого начала ориентировались на внешнюю торговлю и международную коммерцию. Поэтому тесные связи, установленные многими из них с ведущей мировой торговой державой Великобританией, выглядели вполне естественными. Новые южноамериканские республики нуждались в капитале для строительства собственных предприятий и в выходе на внешний рынок товаров. Им к тому же требовалась защита от попыток европейских держав лишить их независимости и в конечном счете был необходим противовес возрастающему влиянию Соединенных Штатов на севере. С точки зрения британских интересов в Лондоне хотели получить доступ к южноамериканскому сырью и предотвратить приобретение решающего влияния на этом континенте остальными европейскими державами. Практически на всем протяжении XIX столетия внешняя политика государств Южной Америки оставалась привязанной к внешней политике держав Европы.
Внутренняя ситуация выглядела еще меньше урегулированной. Нравственные проблемы и социальное неравенство, порожденные неустроенностью, с обретением независимости никуда не делись. В разных странах народ ощущал их по-разному. В Аргентине, например, относительно малочисленное индейское население подверглось практическому истреблению от рук европейской армии. К концу XIX века эта страна отличалась той степенью, до которой она напоминала Европу с точки зрения господства среди ее населения европейских социальных напряжений. В качестве примера еще одной крайности можно привести Бразилию с ее населением, большинство которого имело африканское происхождение и уже во время независимости по большей части все еще находилось в рабстве. В этой стране сложились традиции расового смешения самых причудливых видов, и в результате получился этнический замес, который можно назвать самым спокойным на планете сегодня.
Так как колониальные власти в них проводили абсолютистскую политику и не создавали каких-либо атрибутов представительной власти, новым латиноамериканским государствам не досталось никаких традиций самоуправления, зато проблем вполне хватало. С точки зрения политических принципов, которые пытались внедрять главы этих республик, они в основном оглядывались на Французскую революцию. Однако ее идеи выглядели чересчур передовыми для государств, тончайшая правящая прослойка которых не могла договориться даже об общей практике поведения; им даже не удавалось создать структуру взаимной терпимости. Худшее приключилось после того, как революционные принципы очень скоро потребовали вовлечения в политику церкви. Это событие по большому счету представляется неизбежным, если исходить из огромной власти духовенства как крупного землевладельца и его влияния на массы народа. Но не стоит забывать о вражде к духовенству, усиливавшейся на континенте. При таких обстоятельствах не приходится удивляться тому, что на протяжении практически всего столетия народы всех республик наблюдали, как власть переходит в руки расплодившихся каудильо, военных авантюристов и их группировок, контролировавших вооруженные отряды, достаточно мощные, чтобы творить произвол до тех пор, пока не появлялся кто-то посильнее.
Встречные течения гражданской войны и войн между новыми государствами, отдельные из которых отличались большими кровопролитиями, к 1900 году обусловили карту Латинской Америки, сохранившуюся до сих пор. Обширные области самой северной из прежних испанских колоний Мексики отошли в распоряжение Соединенных Штатов Америки. Образовались четыре республики в материковой части Центральной Америки и два островных государства – Доминиканская Республика и Гаити. На грани обретения независимости находилась Куба. К югу от них располагались десять государств Южной Америки. Во всех этих странах установился республиканский общественный строй; народ Бразилии избавился от своей монархии в 1889 году. Притом что все эти государства пережили серьезные массовые беспорядки, степень стабильности внутри их и конституционная основа представлялись отнюдь не одинаковыми. В Мексике индеец на самом деле стал полновластным президентом в 1850-х годах, но все равно повсеместно сохранился раскол между индейцами, метисами и представителями европейского рода (серьезно укрепивших свое положение, когда после 1870 года приток переселенцев значительно увеличился). Население латиноамериканских стран в 1800 году оценивалось приблизительно в 19 миллионов человек; столетие спустя его оценивали в 63 миллиона.

Рост народонаселения всегда служил показателем повышения его благосостояния. Практически все латиноамериканские страны располагали крупными природными ресурсами в том или ином виде. Иногда по поводу их принадлежности вспыхивали вооруженные стычки, так как обладание полезными ископаемыми ценилось все выше по мере развития индустриализации в Европе и Соединенных Штатах. Самые просторные и богатейшие пастбища в мире находились на территории Аргентины: с изобретением рефрижераторных судов в 1880-х годах эта страна превратилась сначала в скотобойню Англии, а позже еще и в ее житницу. В конце XIX века Аргентина считалась богатейшей из всех латиноамериканских стран. Чили достались огромные запасы нитратов (отобранные у Боливии и Перу в ходе Тихоокеанской войны 1879–1883 гг.), а Венесуэле – месторождения нефти; ценность того и другого значительно выросла в XX веке. В недрах Мексики тоже находились большие запасы нефти. В Бразилии можно было отыскать практически все (кроме нефти), прежде всего кофе и сахар. Список можно продолжить, но он только послужит подтверждением того, что растущее благосостояние народов Латинской Америки поступало в первую голову от первичной переработки сырья и от ввоза капитала из Европы и США, предназначенного для освоения природных богатств континента.
Тогдашнее увеличение богатства тем не менее влекло за собой два неизбежных отрицательных момента. Одним из них следует назвать то, что с ростом общего богатства государства отнюдь не устранялось кричащее неравенство в его распределении внутри этих стран; на самом деле разрыв между богачами и нищим населением увеличился неимоверно. Последствием диспропорции в распределении богатства считается неразрешенность проблемы социальной, равно как этнической напряженности. Внешне вполне европеизированная жизнь сливок городского общества разительно отличалась от условий существования массы индейцев и метисов. Различие усугублялось на фоне зависимости Латинской Америки от объема поступлений иностранного капитала. Вполне обоснованно иностранные инвесторы требовали гарантий возврата собственного капитала. Их они получали далеко не всегда, и поэтому им не оставалось ничего иного, кроме как всячески поддерживать существующие социально-политические власти, наживавшиеся на нищете своих народов. В таких условиях с наступлением XX столетия потребовались считаные годы, чтобы при тогдашнем положении вещей в Мексике произошла социальная революция.
Раздражение и недовольство иностранных инвесторов, лишенных возможности для взыскания причитающихся им долгов, иногда становились причинами дипломатических конфликтов и даже вооруженного вмешательства. Сбор долгов, в конце-то концов, отнюдь не считался возрождением колониализма, и министры европейских правительств слали грозные предупреждения, подкрепив их на протяжении того столетия несколькими случаями применения силы. Когда в 1902 году власти Великобритании, Германии и Италии совместными усилиями устроили морскую блокаду Венесуэлы ради взыскания долгов, причитающихся их подданным, пострадавшим от революционных невзгод американцам пришлось пойти дальше тех мер, что предусматривались «доктриной Монро».
Со времен Техасской республики и дальше отношения США с их соседями никогда не считались простыми, остаются они сложными и сегодня. Факторов, их усложняющих, всегда хватало с излишком. В «доктрине Монро» сформулирован основополагающий интерес США в предохранении своего полушария от вмешательства европейцев, и первый Панамериканский конгресс (съезд) послужил еще одним шагом в этом направлении, когда американцы созвали его в 1889 году. Но его участники уже никак не могли предотвратить укрепление экономических связей с Европой, как это удалось после революции, когда прекратились все отношения Соединенных Штатов с Великобританией (северные американцы тоже вложили свои капиталы в южноамериканские страны, и в скором времени у них появились претензии, которые они не замедлили предъявить местным правительствам). Более того, к концу столетия всем стало ясно, что стратегическая ситуация, служившая фоном для обоснования «доктрины Монро», изменилась. Пароходы и повышение американского интереса к Дальневосточной и Тихоокеанской зонам послужили появлению в Вашингтоне трепетного отношения к тому, что происходило в Центральной Америке и Карибском море, где постепенно назревала готовность к строительству канала через перешеек.
В начале XX века появляется нынешний деспотизм и даже высокомерие в политике Соединенных Штатов Америки по отношению к своим соседям. Когда после скоротечной войны с Испанией американцы подарили диктатору Кубы самостоятельность (и отобрали Пуэрто-Рико у Испании для себя), в текст новой кубинской конституции внесли специальные ограничения, чтобы навсегда привязать Гавану в качестве сателлита Вашингтона. Территорию вдоль Панамского канала американцы приобрели за счет вмешательства в дела Колумбии. Проблему задолженности Венесуэлы вообще решили с применением американской силы под предлогом ее «логического происхождения» из «доктрины Монро». Тут же поступило заявление (практически мгновенно получившее практическое применение на Кубе и в Доминиканской Республике) о том, что США будут использовать свое право на вмешательства в дела любого государства, расположенного в Западном полушарии, внутренняя политика которого находится в таком беспорядке, что может послужить соблазном для вмешательства европейцев. Позже под этим предлогом в 1912 году один американский президент отправил морских пехотинцев в Никарагуа, а другой в 1914 году занял мексиканский порт Веракрус и тем самым попытался принудить мексиканское правительство к выполнению его требований. В 1915 году появилось соглашение об установлении протектората над Гаити, которому суждено было оставаться в силе на протяжении 40 лет.
На этом грустная повесть об отношениях между США и их соседями не заканчивается, хотя для понимания общей фабулы сказанного уже вполне достаточно. В любом случае ее роль заключается всего лишь в симптоматике двойственного положения латиноамериканских государств относительно Европы. Укорененным в ее культуре, связанным с ней экономическими интересами этим странам с политической точки зрения приходилось устраняться от сплетения с ней. Разумеется, все это совсем не означало, что их не считали, насколько это касалось европейцев XIX века, представителями белого большинства, в тех условиях, когда проводилось различие между бледнолицыми представителями европейской цивилизации и всеми остальными народами планеты. Когда европейские вершители политики говорили о «латиноамериканцах», они имели в виду их представителей европейского происхождения, прежде всего городское, грамотное, привилегированное меньшинство, а не массы переселенцев, индейцев и негров.
Дробление Испанской империи вскоре после бегства из нее целых 13 колоний подтолкнуло многих людей к мысли о том, что поселенцы остальных колоний, принадлежавших Британской империи, тоже могут в ближайшее время избавиться от власти Лондона. Это случилось, но вряд ли так, как кто-то мог рассчитывать. В конце XIX века в британском юмористическом журнале «Панч» появилась патриотическая карикатура, автор которой изобразил британского льва, одобрительно взиравшего на шеренги львят, вооруженных и одетых в форму заморских колоний Лондона. Все львята выглядели как лихие солдаты добровольческих контингентов, присланных из всех уголков империи для участия в войне на стороне британцев, в то время ведущих важную кампанию в Южно-Африканской Республике. Веком раньше никто даже думать не мог о возможности участия солдат из колоний в войне на стороне метрополии. События 1783 года оставили глубокие следы в сознании британских государственных деятелей. Колонии, которые они считали предельно для них знакомыми, оказались хитрыми, требующими денег, приносящими мало пользы, вовлекающими метрополию в бесплодную борьбу с другими державами и коренными народами. Причем в конечном счете явились теми, кто кусает руку дающего.
Недоверие к клубкам колониальных проблем, которые порождали такие представления, помогло в конце XVIII века сместить британский имперский интерес в сторону перспектив торговли с азиатскими странами. Казалось, что на Дальнем Востоке не возникнет никаких сложностей, создающихся европейскими поселенцами, а в восточных морях отсутствует какая-либо потребность в дорогостоящих вооруженных силах, которые не могли бы успешно заменить моряки Королевских ВМС. Короче говоря, такие настроения господствовали в британских официальных кругах на протяжении всего XIX века. При этом политики пытались улаживать сложные дела каждой из колоний, основываясь прежде всего остального на экономии и предотвращении бед. На огромных пространствах Канады и Австралии такая политика вела через бури к окончательному объединению отдельных колоний в федеральные структуры с назначением ответственными за них собственных правительств. В 1867 году появился доминион Канады, и в 1901 году за ним последовало провозглашение Австралийского Союза. В каждом случае образованию Союза предшествовало назначение в изначальной колонии собственного ответственного правительства, и в каждом случае возникали свои трудности.
В Канаде большой проблемой считалось существование французской канадской общины в провинции Квебек; в Австралии – противопоставление интересов поселенцев и уголовников, последнюю партию которых прислали в 1867 году. К тому же следует учитывать громадные просторы Канады и Австралии, заселенные очень неплотно, и с их населением требовалось вести большую пропагандистскую работу, чтобы оно в конечном счете почувствовало свое национальное единство. В каждом случае процесс продвигался медленно: последний костыль на трансконтинентальной магистрали канадской Тихоокеанской железной дороги вбили в 1885 году, а сдачу в эксплуатацию трансконтинентальной магистрали в Австралии долгое время откладывали из-за разной ширины колеи в отдельных штатах. В конце концов, укреплению национализма способствовало осознание потенциальных внешних угроз (например, в виде экономической мощи США и массового переселения народов Азии) и конечно же препирательства с британцами.
Новая Зеландия тоже доросла до собственного ответственного правительства, но недостаточно локального, подходящего намного меньшей стране. Европейцы начали прибывать на архипелаг с 1790-х годов, и они нашли там коренной народ под названием маори, находившийся на уровне передовой и сложной культуры. Его непрошеные гости решили уничтожить. Очень вовремя явились миссионеры, постаравшиеся отвадить от Новой Зеландии поселенцев и купцов. Но они все равно туда прибыли. Когда показалось, будто некий французский предприниматель вроде бы собирается открыть французское предприятие, британское правительство, по крайней мере, неохотно уступило нажиму, оказываемому на него миссионерами и кое-кем из поселенцев, и в 1840 году объявило о британском суверенитете над Новой Зеландией. В 1856 году этой колонии предоставили ответственное правительство, и только из-за войн с маори британских солдат оттуда не выводили до 1870 года. Прошло совсем немного времени, и старые провинции утратили остатки своих правовых полномочий. В последующие годы того столетия новозеландские правительства продемонстрировали завидную самостоятельность с замечательной независимостью и толковостью в проведении в жизнь мер передовой политики общественного благосостояния, а в 1907 году наступила эпоха полного самоуправления.
Она пришла через год после того, как участники Колониального съезда в Лондоне приняли решение о том, что впредь зависимые государства с системой самоуправления следует называть доминионами, причем фактически к ним относились колонии поселений белых людей. Еще одному такому образованию соответствующий статус присвоят перед 1914 годом – Южно-Африканскому Союзу, появившемуся в 1910 году. Так закончилась долгая и грустная глава, можно сказать, самая грустная глава в истории Британской империи. А за ней началась новая глава в истории Африки, которая через нескольких десятилетий выглядела ничуть не веселее британской.
До окончания 1814 года, когда власти Великобритании из стратегических соображений придержали прежнюю голландскую колонию на мысе Доброй Надежды, ни один британский колонист в Южной Африке не поселился. Эту территорию назвали Капской колонией, и в скором времени туда прибыло несколько тысяч британских поселенцев, которые, при численном превосходстве голландцев, пользовались поддержкой британского правительства в деле навязывания своих британских представлений и прав. С этого момента начался период сведения на нет привилегий буров, как тогда назвали голландских фермеров. В частности, их возмущали и раздражали любые ограничения свободы в общении с коренными африканцами по собственному усмотрению. Величайшее негодование у буров возникло, когда в результате общей отмены рабовладения на британской территории около 35 тысяч их рабов предоставили свободу, а возмещение выплатили недостаточное. Убежденные в том, что британцы не откажутся от политики, выгодной исключительно коренным африканцам (а с учетом нажима на британские правительства такой вывод представляется вполне разумным), в 1835 году буры решились на массовый исход из освоенных ими африканских областей. Это Великое переселение на север с форсированием Оранжевой реки сыграло решающую роль в формировании самосознания африканера (самоназвание жителей Южно-Африканской Республики нидерландского, а также французского и немецкого происхождения). Так начинался затяжной период, на протяжении которого англосаксы, буры и африканцы пытались выжить как порознь, так и вместе, но всегда мешая друг другу и нагнетая напряженность в отношениях.
Бурскую республику на территории провинции Наталь в скором времени преобразовали в британскую колонию на бумаге ради того, чтобы предохранить африканцев от эксплуатации белыми людьми. На самом же деле целью ставилось противодействие учреждению голландского порта, который однажды могла бы использовать враждебная держава для создания угрозы британским путям сообщения с Восточной Азией. Последовал очередной массовый исход буров, на этот раз на север от реки Вааль. Так случилось первое расширение британской территории в Южной Африке, зато оно послужило образцом, достойным повторения. Помимо человеколюбивых устремлений британским правительством и британскими колонистами двигала потребность в налаживании добрых отношений с африканскими народами, которые иначе (как это уже продемонстрировали зулусы в борьбе против буров) создадут непреодолимую проблему в установлении порядка, мало чем отличающуюся от устроенной коренными американцами в предыдущем веке. К середине столетия на севере Южной Африки существовали две бурские республики (Оранжевое свободное государство и Трансвааль), а в это время Капская колония и Наталь находились под британским флагом с выборными ассамблеями, депутатов в которые могли избирать немногочисленные негры, отвечающие необходимым имущественным критериям. Под британским протекторатом находилось к тому же несколько коренных государств. В одном из них под названием Басутоленд буры фактически подпадали под юрисдикцию негров, вызывавшую особое раздражение со стороны тех же буров.
При этих обстоятельствах рассчитывать на добрые отношения не приходилось, и в любом случае британские власти часто расходились во взглядах с колонистами Капской области, которые после 1872 года получили собственное ответственное правительство. К тому же появились новые факты. Открытие месторождения алмазов послужило поводом для аннексии британцами еще одного участка чужой территории, чем, поскольку он лежал к северу от Оранжевой реки, они возмутили буров. Очередным раздражителем для буров стала поддержка британцами басутов, которых те в свое время разгромили. Наконец, губернатор Капской колонии совершил недальновидный поступок, когда аннексировал республику Трансвааль. После успешного бурского восстания и позорного поражения британских войск британским властям хватило ума не настаивать на своем и в 1881 году восстановить независимость Бурской республики, но с этого момента от расчетов на возрождение доверия буров к британской политике в Южной Африке пришлось отказаться навсегда.
Через 20 лет в силу двух новых непредвиденных изменений все закончилось войной. Одним из них стала мелкомасштабная промышленная революция в республике Трансвааль, где в 1886 году обнаружили месторождение золота. В результате начался мощный приток старателей и спекулянтов, вмешательство носителей внешних финансовых интересов государства африканеров обеспечило финансовые ресурсы для выхода из британского сюзеренитета, который пришлось без особой радости когда-то принять. Свидетельством того, что произошло, можно считать Йоханнесбург, который за несколько лет вырос в единственный в Африке южнее Замбези город с населением больше 100 тысяч человек. Второе изменение заключалось в захвате другими европейскими державами остальных стран Африки в 1880-х и 1890-х годах, на что британские власти отвечали укреплением своих намерений всеми силами сохранять британское присутствие в Капской колонии, обреченной на ключевую роль в контроле над морскими маршрутами на Восток и все больше зависящей от состояния движения между Трансваалем, приносящего основной доход. Общий замысел состоял в том, чтобы заставить британские власти ощутить беспокойство по поводу любой возможности приобретения Трансваалем самостоятельного выхода к Индийскому океану. Это беспокойство сделало его податливым нажиму со стороны разномастной группы, состоявшей из идеалистически настроенных империалистов, капских политиков, английских демагогов и теневых финансистов, спровоцировавших конфронтацию с бурами в 1899 году, закончившуюся ультиматумом от президента Трансвааля Пауля Крюгера и развязыванием Англо-бурской войны. Крюгер питал глубокую неприязнь к британцам; мальчиком он принял участие в большом переселении буров на север.
Известные с викторианских времен традиции британской армии в полной мере подтвердились в последней войне за господство англосаксов, как на уровне беспомощности и некомпетентности, продемонстрированных некоторыми представителями высшего командования из интендантских служб, так и обходительности на уровне полкового офицерства с личным составом перед лицом храброго и хорошо вооруженного врага, боевая подготовка которого не оставляла шансов на победу над ним. Но сомнений в исходе начатого британцами дела не допускалось; как заявила сама королева, обладавшая совершеннейшими среди своих подданных стратегическими суждениями, возможностей поражения британской армии просто не существовало. Южная Африка представляла собой театр военных действий, изолированный британской морской мощью; ни одна из других европейских наций не могла оказать помощь бурам, а сосредоточение многократно превосходящих людских и материально-технических ресурсов оказалось всего лишь делом времени. Все это обошлось очень дорого (в Южную Африку пришлось отправить больше четверти миллиона британских солдат) и вызвало большие сожаления, когда речь зашла о британской внутренней политике; к тому же на международной арене картина тоже предстала не в лучшем виде. Буров все считали угнетенным народом; так оно и было, но либеральная одержимость XIX века национальной принадлежностью в этом случае (как и во многих других) не позволила добропорядочным обозревателям рассмотреть кое-что, скрытое в тени национализма. К счастью, британскую государственность удалось достаточно вразумить, чтобы ее деятели заключили великодушный договор, позволивший завершить войну в 1902 году, когда буров уже крепко потрепали на поле боя.
Так бурским республикам пришел конец. Зато моментально пошли уступки; к 1906 году у Трансвааля появилось собственное ответственное правительство, которое, несмотря на многочисленное негритянское население, привлеченное туда ради налаживания горной добычи, оказалось под контролем буров после победы на выборах в следующем году. Практически сразу они начали издавать законы, предназначенные для сдерживания переселенцев из Азии, прибывавших в основном из Индии. (Один молодой индийский юрист по фамилии Ганди как раз тогда занялся политикой в качестве защитника прав своего сообщества.) В 1909 году согласовали проект конституции Южно-Африканского Союза, в котором предусматривалось равенство голландского и английского языков, а главное – формирование правительства избранной ассамблеей в соответствии с избирательными процедурами каждой из провинций. В бурских областях избирательное право ограничивалось белым населением.
Теперь стоит поподробнее остановиться на примирении того времени. Когда европейцы в те времена говорили о «расовой проблеме» в Южной Африке, они подразумевали проблему отношений между британцами и бурами, примирения которых надо было срочно добиваться. Изъянам этого примирения предстояло проявиться через некоторое время. Увидев эти изъяны, все поняли, что они появились в силу исторического предназначения африканера, оказавшегося важнее, чем народ на это надеялся. Не стоит забывать и о преобразовании южноафриканского общества, начавшегося с индустриализации золотых приисков Ранда, придавшей невероятную инерцию проблеме черных африканцев.
В этом отношении будущее Южной Африки во многом определялось тенденциями мировой экономики не меньше, чем судьба остальных британских доминионов, включенных в мировые процессы. Канада точно так же, как США с прокладкой железных дорог на их равнинах, превратилась в одно из огромных зернохранилищ Европы. Жители Австралии и Новой Зеландии впервые использовали свои огромные пастбища, чтобы заняться заготовкой шерсти, пользовавшейся растущим спросом у владельцев европейских мануфактур; тогда изобрели систему искусственного охлаждения, которую стали использовать для хранения мяса, а в случае Новой Зеландии – молочной продукции. В результате эти новые народы стали массово производить товары, способные значительно повысить отдачу хозяйственной деятельности по сравнению с тем, что давали плантации табака с XVII века.
Относительно Южной Африки отличие состоит в том, что место данной страны на мировом рынке полезных ископаемых будет обнаруживаться постепенно (позже на этом же рынке появится Австралия). Начало всему было положено деятелями алмазной отрасли, но главным шагом вперед считается обнаружение золота на прииске Ранд в 1880-х годах. Освоение природных богатств потребовало вложения капитала и знаний, пригодившихся для освоения новых месторождений полезных ископаемых. Доход, обеспеченный Южной Африкой, далеко не ограничивался прибылями европейских компаний и акционеров. Он дал увеличение поставок золота в мировом масштабе, ожививших европейскую торговлю не меньше, чем калифорнийские открытия 1849 года.
С нарастанием человеколюбивых и миссионерских настроений в Англии, а также с появлением устоявшейся в министерстве по делам колоний традиции недоверия к требованиям поселенцев стало труднее забывать о коренном населении белых доминионов, чем американцам было смести со своего пути индейцев равнин. Все-таки в нескольких британских колониях концепции модернизма оказали свое влияние на беззащитные общества, не располагавшие доступом к техническим новинкам. Канадских индейцев и эскимосов отодвинули в сторону, чтобы открыть месторождения запада и северо-запада для освоения. Народы эти были относительно малочисленными, поэтому они не могли оказать того сопротивления, какое продемонстрировали в своей героической борьбе индейцы равнин, сражавшиеся за свои охотничьи угодья. Жителей Австралии тоже ждала кровопролитная судьба. Общество аборигенов – охотников и собирателей – потеснили из привычной среды обитания жители поселений, их племена настроили на вражду и насилие из-за непостижимой жестокости белых австралийцев, а принесенные ими заболевания стремительно косили коренное население. Первые десятилетия всех австралийских колоний обильно политы кровью истребленных аборигенов; последующие их годы печально известны пренебрежением к судьбе, запугиванием и эксплуатацией выживших коренных австралийцев.
В Новой Зеландии прибытие первых белых людей ознаменовалось появлением стрелкового оружия у народа маори, который сначала использовал его против соотечественников, нанеся им большой урон. Позже пришло время войн с правительством, поводом для которых послужило изгнание поселенцами народа маори с его родных земель. По собственному разумению министры правительства предприняли шаги с целью предохранения племенных земель от дальнейшей экспроприации, но с внедрением английских понятий частной собственности произошло дробление племенных вотчин и фактическая их утрата общинами к концу века. Численность маори тоже сократилась, но не настолько радикально, как численность австралийских аборигенов. В настоящее время маори насчитывается гораздо больше, чем в 1900 году, и их численность растет стремительнее, чем численность новозеландцев европейской расы.
Что же касается Южной Африки, то картина выглядит очень запутанной. Британцы с их покровительством обеспечили выживание некоторых коренных народов, дошедших до XX века на собственных землях предков практически в первозданном виде. Остальных с земли предков прогнали или просто истребили. Во всех случаях, однако, загадка ситуации заключалась в том, что в Южной Африке, как и везде, судьба коренных жителей всегда решалась европейскими пришельцами. Их физическое выживание зависело от налаживания равновесия интересов власти и ее экономических возможностей с потребностями и традициями поселенцев. Притом что на тот момент коренные жители могли доставлять большие военные неудобства (например, зулусы кетчвайо испортили на время жизнь колонизаторам, как и партизаны маори), самостоятельного сопротивления в большей степени, чем ацтеки тем же кортесам, они организовать не могли. Коренным народам, чтобы научиться сопротивлению колонизаторам, требовалось пройти обряд европеизации. Цену за основание новых европейских наций за морями всегда платили коренные жители, причем часто на пределе их способности.
Речь на этом еще не заканчивается. Остается головоломка собственного оправдания: европейцы наблюдали за всем происходящим со стороны и даже не пытались вмешиваться. Назвать всех европейцев огульно людьми испорченными и алчными представляется большим упрощением. Ответ должен лежать в складе мышления европейца. Как и представители многих других направлений культуры своего времени, европейцы считали, что только они заслуживают звания передового и цивилизованного народа и поэтому обладают правом на управление другими людьми. Однако вера европейцев в собственное превосходство часто достигала некоторой степени фанатизма, питаемого религией и этноцентризмом. Иногда такие воззрения служили основой примитивного расизма. Но гораздо чаще, особенно в Великобритании и во Франции с XIX века и позднее, они подталкивали на совершенствование мира, его рационализацию и преобразование в соответствии с европейскими понятиями прогресса. Убежденность в принадлежности к более высокой цивилизации не только служила разрешением на проявление хищнических привычек, чем раньше отличалось то же христианство, но и во многих случаях поддерживала настрой в духе крестоносцев. Европейцы свято верили в то, что они несут нечто лучшее этим слепцам, не видевшим собственное благо, когда им заменяли племенные права частной собственностью, превращали охотников и собирателей, носивших все свое добро с собой, в наемных работников или солдат.

