Книга: Чарующее безумие. Клод Моне и водяные лилии
Назад: Глава седьмая Большая мастерская
Дальше: Глава девятая Состояние непереносимой тревоги
Глава восьмая
Под огнем
В первые дни нового года в настроениях французов стал проявляться робкий оптимизм. 1 января, когда все празднуют Jour de l’An, бывший премьер-министр Луи Барту написал: «1916-й станет годом нашего освобождения и победы». Это было смелое предсказание. К тому моменту половина французских офицеров погибла или была ранена; германский генерал Эрих фон Фалькенхайн, командовавший Генштабом, доложил кайзеру Вильгельму: «Франция ослаблена почти до предела». В новом году Фалькенхайн собирался перейти в массированное наступление и вынудить французов защищаться, чтобы в результате — как сам он жестко и цинично выразился — они «истекли кровью». С такими планами в начале января германские солдаты начали рыть орудийные окопы и туннели, а также по десяти специально проложенным железнодорожным колеям подтягивать к линии фронта сотни тяжелых пушек, причем столь мощные орудия предполагалось использовать в сухопутных сражениях впервые.
Пока на позиции выводили тяжелую артиллерию, небо наполняли цеппелины. Вечером 29 января прохожие на парижских бульварах, вышедшие на улицу в этот по-весеннему теплый день, с удивлением наблюдали за специальными командами, лихорадочно гасившими газовые фонари и отключавшими электрическое освещение. Пожарные мчались по улицам, подавая сигнал тревоги. В последние двенадцать месяцев Лондон и английский берег не раз подвергались бомбежкам с цеппелинов, но парижская пресса успокаивала читателей: «Будьте уверены, парижане: гул моторов приближающихся цеппелинов вы не услышите». Из четырех аэростатов, пробиравшихся сквозь облака к Парижу в марте 1915 года, два повернули назад, не достигнув цели, а оставшиеся стали хаотично бомбить загородные дома в «Крае импрессионистов». «Парижане сохраняли присущее им спокойствие», — с гордостью рапортовала одна из газет. После десяти месяцев затишья в вышине вновь раздался гул цеппелина. Вместо того чтобы прятаться по тревоге, люди на бульварах смотрели в небо, рассеченное лучами прожекторов, и скандировали: «Смерть гуннам!» Вскоре отчетливо стал слышен грохот взрывов. Всего из этой стопятидесятиметровой устрашающей летучей сигары было сброшено восемнадцать бомб, двадцать шесть человек погибли, еще тридцать два были ранены.

Использованные снарядные гильзы под Верденом и погибшие деревья на заднем плане
Через три недели молодой немецкий солдат у стен французского города-крепости Верден, в двухстах двадцати пяти километрах восточнее Парижа, писал матери письмо: «Здесь будет битва, какой мир еще не видел». Его предчувствие трагическим образом сбылось. 21 февраля, по легенде, меч в вытянутой руке аллегорической фигуры Республики в скульптурной группе «Марсельеза» на Триумфальной арке отломился: дурное предзнаменование — если, конечно, оно имело место. В тот день, в семь часов утра, земля вдоль Восточного фронта задрожала. В течение последующих нескольких часов на французские позиции под Верденом градом сыпались сотни тысяч немецких снарядов. Когда от бункеров и траншей практически ничего не осталось под этим непрекращающимся шквалом огня, Пятая германская армия двинулась в наступление по изрытой взрывами территории, орудуя огнеметами. Немецкий летчик, увидевший опустошение, творившееся внизу, доложил командиру: «Все, можно проходить, там живого места не осталось».
Как известно, дальше германские войска не прошли: девиз «Они не пройдут», впервые произнесенный генералом Нивелем, стал боевым кличем французов. Но остановить наступление удалось лишь ценой множества человеческих жизней. «Мы понесли огромные потери», — сообщила газета «Пти паризьен». Такое заявление должно было потрясти и отрезвить многих простых читателей, заставить их задуматься, ведь вышло оно в «провоенном» издании, которое последние полтора года с неизменным оптимизмом поддерживало победный настрой, преуспев в пресловутом «промывании мозгов». Так, «Пти паризьен» однажды написала, что у французских солдат «пулеметы вызывают смех» и в бой они идут, «как на праздник. С радостью! С хохотом! С шутками!». Но теперь было не до смеха и не до шуток. Если бы Верден пал, сдался бы Париж, а за ним и вся Франция. Американка, оказавшаяся во время тех событий в Париже, вспоминала, что первые дни битвы под Верденом стали «самыми черными в ходе всей войны».

Верден в руинах, 1916 г.
Через неделю после начала Верденской битвы Моне из окна своей спальни смотрел на заснеженный сад. Зрелище привело его в уныние. Когда-то ему нравилось работать в снежную погоду. В 1868 году в Этрета он укутался сразу в три пальто, разжег жаровню и так, греясь и пряча руки в перчатки, принялся писать сугробы, вдоль которых ложились голубые и лиловые тени. В Аржантёе зимой 1874/75 года — когда перед Рождеством валом валил снег и люди передвигались по парижским улицам в салазках, а мальчишки швыряли в прохожих снежки — Моне написал восемнадцать картин, на которых изображались дороги, дома, тропинки вдоль речных берегов и железнодорожные пути под снежным одеялом. В одной сцене люди с зонтами, которые вырывал ветер, пробирались сквозь вьюгу по дороге, ведущей вдоль станции, к тому самому месту, где за мольбертом сидел Моне, — ему стихия была нипочем. Но к 1916 году семидесятипятилетний художник уже страдал от ревматизма и болей в груди, и подобные подвиги в зимнюю стужу были не для него. «Теперь я, увы, не в том возрасте, когда работают на пленэре, — писал он братьям Бернхайм, — и хотя снег красив, лучше бы он прекратился и пощадил наших несчастных солдат».
Судьба нескольких из этих «несчастных» особенно волновала Моне, но, когда в марте Мишель вернулся домой на побывку, повидав «много страшного», художник стал ворчать: мол, присутствие сына «изрядно нарушает мой покой и привычный образ жизни». Тяготы и тревоги, связанные с войной, он преодолевал как всегда: с головой уходя в работу. «Я одержим адским трудом, — писал он Жан-Пьеру, — утром, не успев проснуться, бросаюсь в свою просторную мастерскую. Прерываюсь на обед и снова работаю до конца дня». Затем он обсуждал газетные новости с Бланш — «она мое великое подспорье» — и отправлялся спать. «Что сказать об этой страшной войне, — продолжал он, — кроме того, что она слишком затянулась, что она отвратительна и нам нужна победа. Моя жизнь в одиночестве невесела».
Говоря о своем одиночестве, Моне, как обычно, преувеличивал. В начале 1916 года, не страшась цеппелинов, он несколько раз наведывался в Париж, правда поводом к этому стала необходимость посещения врача, а не потребность в общении: теперь больше, чем глаза, его беспокоили зубы. После того как достроили новую мастерскую, он начал страдать «от ужасной зубной боли, абсцессов и воспалений». Пришлось часто ездить к дантисту. Впрочем, зубная боль не отбила у него страсти к гурманству, и он следил, чтобы пребывание во врачебном кресле не совпадало с гонкуровскими обедами. «Если Вы планируете пригласить меня на следующее заседание, — писал он Жеффруа в апреле, — буду премного обязан, узнав от Вас точную дату как можно раньше, ибо мои бедные зубы вынуждают меня бывать в Париже довольно часто».
В то время Моне занимался также благотворительностью в пользу раненых солдат и их семей. В предыдущем году он пожертвовал несколько своих работ для розыгрыша в лотерее и сам купил билет за двести франков. В феврале 1916 года картина была пожертвована для лотереи, проводившейся, чтобы обеспечить теплой одеждой французских военнопленных. Он также переписывался с супругой министра торговли и промышленности Этьена Клемантеля, собираясь пожертвовать произведения на нужды сирот. Моне готов был к участию, однако мадам Клемантель весьма некстати пожелала получить от него рисунок. «Я не делаю рисунков, — попытался объяснить ей Моне, — это не моя техника». Взамен он предложил в дар «скромный живописный этюд», заверив, что его «не составит труда продать в пользу сирот». В итоге мадам Клемантель и сироты получили две пастели с видами Темзы, которые Моне лично отвез в Париж.
Моне бесспорно внес свою лепту в дело победы. Хотя жертвовал работы на благотворительные нужды госпожи Клемантель он, скорее всего, не без задней мысли. За день до того, как Моне предложил свой «скромный этюд», он узнал о том, что супруг госпожи Клемантель убедил Огюста Родена подписать документ, по которому произведения скульптора переходили государству и в «Отель Бирон», парижской резиденции мастера, за счет казны будет устроен музей. Роден постепенно становился знаковой фигурой в музейном пространстве. Его детища уже удостоились собственных залов в Лондоне и в Нью-Йорке. Осенью 1914 года он передал двадцать своих скульптур музею в Южном Кенсингтоне (ныне — Музей Виктории и Альберта), где они тогда были выставлены, — это был дар британской нации «как простой знак моего восхищения вашими героями». Двумя годами раньше галерея Родена открылась в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, где было выставлено сорок работ мастера, в том числе бронзовая статуя высотой около семидесяти сантиметров — «Мыслитель». Обширная коллекция — произведения из бронзы, мрамора, терракоты, гипса и рисунки — была совместно подарена музею правительством Франции, предпринимателем-миллионером Томасом Ф. Райаном и лично Роденом. Теперь имя скульптора могло быть увековечено созданием музея в его честь в роскошном особняке в сердце Парижа, где напротив, через улицу, возвышался золоченый купол Дома инвалидов.
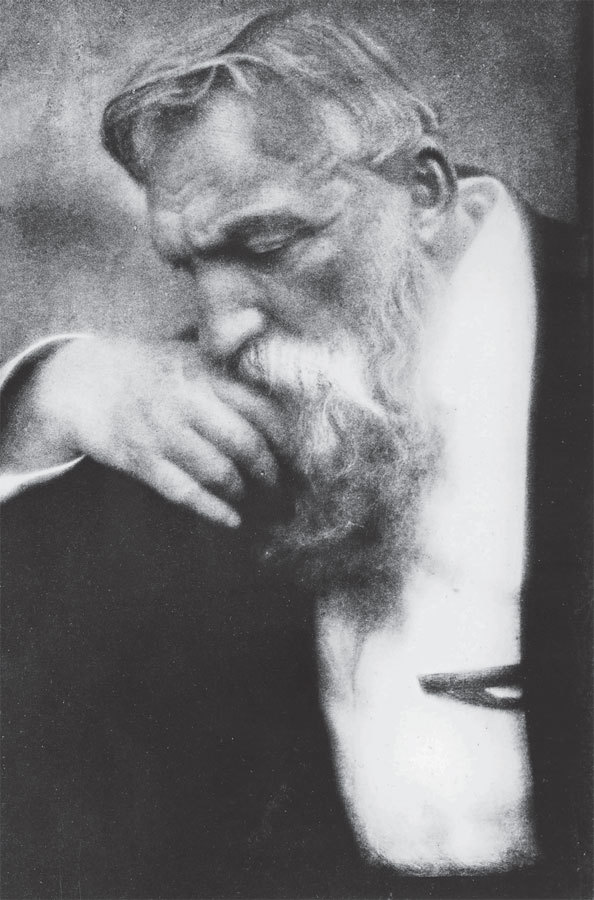
Скульптор Огюст Роден
© Getty Images
Как только вопрос стал обсуждаться, Моне примкнул к сторонникам идеи появления музея Родена в принадлежавшем государству «Отель Бирон», который скульптор арендовал с 1908 года. Моне и Роден издавна дружили, и их творческий путь во многом тесно переплетался. Они были ровесниками — хотя родились не в один день, как часто утверждалось, а с разницей в два дня. Успех тоже пришел к ним одновременно, когда они вместе показали свои работы в галерее Жоржа Пти во время Всемирной выставки 1889 года. Моне представил сто сорок пять полотен в просторном зале, где они чередовались с внушительными скульптурами Родена, — причем некоторые из них, к досаде художника, автор разместил непосредственно перед его вещами, закрыв обзор. Услышав, что Моне огорчен, Роден рассвирепел: «Плевать на Моне. На всех плевать, меня интересует только то, что касается меня!» Договориться им все же удалось, выставка пользовалась бешеным успехом, благодаря ей оба мастера сделали первый шаг на пути к славе и богатству. «Мы оба ощущаем наше родство, — так Роден однажды написал художнику, — оба любим искусство, так что мы друзья навеки».
Моне не был так честолюбив, как его собрат, который годом ранее в Риме заявил французскому посланнику, что он, Роден, «олицетворяет славу Франции, в то время как посол просто представляет государство». Однако Моне рассчитывал на равноценные почести, причем Этьен Клемантель и «Отель Бирон» сыграют в его планах важную роль.
Весной и летом 1916 года Моне, уже пожилой человек, очень спешил. «Я старею, — писал он. — Мне нельзя терять ни минуты». В мае он отправил срочное письмо своему поставщику холстов и красок: «Я обнаружил, что мне понадобится еще полотно, причем как можно скорее». Он заказал шесть отрезов размером два на полтора метра и еще шесть — два на один метр тридцать сантиметров, «если холст будет точно таким же». Срочность была главным условием: он просил выслать холсты «в запечатанном ящике скорым поездом до станции Живерни — Лимец», но если стоимость упаковки и перевозки окажется непомерной, «пожалуй, лучше было бы снова отправить автомобиль».
Моне заказывал холсты в парижской компании, известной под маркой «Л. Бенар» (или «Холсты, краски, планшеты»), недалеко от площади Пигаль. Художник договаривался обо всем с работницей магазина, некой мадам Барильон. Видимо, ей не впервой были лихорадочные заказы из Живерни, и она знала, что этот — не последний. Увлеченность Моне «той самой декорацией», как он теперь называл свой замысел, не ослабла в течение зимы и весны, он продолжал «упорно трудиться». Зрение его больше не подводило, но были другие поводы для беспокойства, в том числе плохая погода, в которой многие снова и снова винили массированные бомбардировки на Западном фронте.
Другая проблема была в том, что за полтора года войны Франция столкнулась с дефицитом. Не хватало табака: по сравнению с довоенными годами в стране стало на миллион меньше сигарет и сигар. В апреле Моне благодарил Шарлотту Лизес, подарившую ему сигареты. «Они спасли мне жизнь в тот самый момент, когда у меня все закончилось», — сообщил он ей. Способность к созерцанию зависела у Моне от того, насколько регулярно пополняются его запасы. Взявшись за кисть, он всегда закуривал и, увлекшись работой, часто бросал наполовину не докуренную сигарету, а домочадцы собирали окурки и складывали их в специальную коробку, в содержимом которой художник, жаждавший затянуться, рылся потом, «как нищий».
Помимо табака, трудно стало доставать некоторые продукты, и значительно выросли цены. Весной 1916 года сыр стоил на двадцать процентов дороже, чем до войны, масло — на двадцать четыре процента, говядина поднялась в цене на тридцать шесть процентов, а сахар — аж на семьдесят один, так что в мае правительству пришлось установить максимальную цену (которая к октябрю еще поднялась). В предыдущем году французские газеты упивались слухами, будто немцам приходится есть хлеб из соломы, однако в мае власти представили «национальный хлеб», в котором треть пшеничной муки смешивалась с рисовой и ржаной, — получалась грубая масса с твердой коркой, казавшаяся большинству несъедобной.
Нашлась газета, заявившая, что, коль скоро над всем возобладали нужды армии, «долг гражданского населения снизить уровень потребления». Моне теперь довольствовался, по собственному выражению, «скромным обедом военного времени». Перед Шарлоттой предстало душераздирающее зрелище: измученный нехваткой табака художник, который злится, что непогода не дает ему подойти к мольберту, а война — поесть в свое удовольствие. Как он объяснил гостье, ему довелось пережить «минуты полного отчаяния, тяжело отразившегося на окружающих — например, на бедной преданной Бланш, которая худо-бедно мирится с моими приступами меланхолии».
В июле в Живерни заглянул Мирбо. Моне беспокоило, что дела у его друга идут неважно. Весной — когда Мирбо перебрался обратно в свой дом в Шевершмоне — встреча была отменена: писателю нездоровилось. Два месяца спустя его появление в Живерни произвело обескураживающее впечатление. «В каком ужасном состоянии наш бедный друг», — с горечью делился Моне с Жеффруа в конце июля. Одним физическим недугом все и правда не ограничилось: примерно с 1916 года Мирбо начал впадать в полубессознательное состояние, порой длившееся не один месяц, и часто даже не узнавал друзей.
Немощь товарища, который при этом был моложе Моне на восемь лет, очевидно, показалась художнику эдаким маячащим призраком собственного будущего, пугающим видением, предвестием жизни, которая ждет его самого, если и он утратит работоспособность. Похожим образом болезнь выбила из колеи еще одного близкого друга: Роден один за другим перенес сразу два инсульта, причем второй — 10 июля в результате падения с лестницы в своем доме в Медоне, в окрестностях Парижа. Подобно Мирбо, он внезапно утратил возможность трудиться, хотя оставался «доволен жизнью — сохранял спокойствие и добродушие», как пишет его друг и биограф Жюдит Кладель. Как и Мирбо, он теперь страдал серьезным когнитивным расстройством. «Ему кажется, что он находится в Бельгии», — сообщала Кладель.
В то лето в Живерни приехал и Клемансо — заглянул перед тем, как отправиться на отдых в Виши. Несмотря на диабет и переутомление, его телесные и интеллектуальные силы, по крайней мере, могли служить вдохновляющим примером. Он продолжал вести войну на всех фронтах: журналистском и политическом. В феврале Клемансо председательствовал на заседании возглавленной им Франко-британской комиссии, волнуя и будоража как друзей, так и врагов своей бурной риторикой. «Клемансо взял слово, — сообщал репортер, — и произнес едва ли не лучшую речь в своей жизни — а ведь он, как известно, всегда был прекрасным оратором». Он осудил Германию, которая «бьется в агонии варварства», и сказал о жертвах Франции: «Мы отдаем своих детей, отдаем все, что имеем, — абсолютно все — во имя независимости и человеческого достоинства, тем самым себя вознаграждая, и, сколь велики ни были бы жертвы, мы ни разу не возроптали, назвав их непомерными».
Через неделю с небольшим, в начале марта, статья Клемансо о верденской мясорубке нарушила требования цензуры, издание его газеты вновь было приостановлено, на этот раз — на неделю; выход второй газеты, «Овр», перепечатавшей фрагменты скандальной статьи, запретили на две недели. Клемансо становился все более противоречивой и конфликтной фигурой. Его любили солдаты, которых он решительно защищал, но при этом он десять раз на дню получал послания с угрозами, особенно много их было от представителей религиозно-консервативных сил. Издатель газеты «Аксьон франсез» Шарль Моррас, считавший, что Клемансо подрывает национальное самосознание, называл его «разрушителем и обманщиком», а также «анархистом Клемансо». Обвинение в анархизме было безосновательным: в обращении Клемансо к Франко-британской комиссии говорится о главенстве закона как фундамента цивилизации, а газета «Фигаро», в целом не поддерживавшая его политические взгляды, оценила его «возвышенный патриотизм». Таким же абсурдным было обвинение в пораженчестве. На заседании Франко-британской комиссии он впервые произнес слова, которые затем станут боевым кличем: «Война до победного конца».
К концу лета в Живерни прибыл еще один гость: сын Моне Мишель, который получил шестидневный отпуск после «трех ужасных недель в Вердене». Битва все отчетливее обнажала ужас и бессмысленность Великой войны. В августе одна из газет отметила, что битва под Верденом уже продолжается столько же, сколько вся Франко-прусская война 1870–1871 годов. К лету 1916 года немецкое наступление удалось приостановить, однако потери с обеих сторон были колоссальными. Генерал Фалькенхайн частично преуспел в своем плане обескровить Францию — к сентябрю число убитых и раненых с французской стороны равнялось 315 тысячам. Впрочем, потери немцев были не менее ужасны. Эрих Людендорф, руководивший всеми операциями немецкой армии, в начале сентября посетил поле битвы — примерно тогда, когда Мишелю Моне дали отпуск. Даже закаленный в боях прусский генерал был ошеломлен масштабами кровопролития. «Верден был адом, — утверждал он. — Верден был кошмаром».
Однако менее чем в трехстах километрах от верденского ада находился рай — так многие гости Моне называли сад в Живерни. Контраст с Верденом, видимо, выглядел сюрреалистично — хотя это слово Гийом Аполлинер придумает только несколько месяцев спустя. Вырвавшись из разрушенного Вердена, Мишель Моне проехал через Париж, продолжавший жить неестественно нормальной жизнью. (Помимо фильмов, спектаклей и концертов, этим летом проводили футбольные матчи, а на дорогах между Парижем и Уданом проходила велогонка.) Приехав в Живерни, Мишель обнаружил там отца, прославленного певца красот сельской Франции, — тот, как и в былые дни, сидел за мольбертом, ничуть не взволнованный тем, что происходит в мире, — как не были взволнованы ветром пышные листья и сверкающие воды, которые он изображал на холстах.
Скорее всего, Мишель и не пытался поведать отцу обо всем ужасе Вердена. Тем, кто сражался в Великой войне, не удавалось найти словесного выражения для пережитого. «Рассказать об увиденном мы могли не больше, чем те, кто не вернулся», — писал один из них. Впрочем, военный кошмар адского лета 1916 года открылся читателям газеты «Овр», той самой, выпуск которой был приостановлен в марте за публикацию статьи Клемансо о Вердене. В августе газета начала печатать выпусками роман Анри Барбюса «Огонь», посвященный «Памяти товарищей, павших рядом со мной под Круи и на высоте 119». Барбюс пытался переломить романтические представления о войне, с обескураживающей честностью описывая ее ужасы. Один из выведенных в романе бойцов — по иронии, зовут его Паради, то есть Рай, — говорит рассказчику: «Война — это не атака, похожая на парад, не сражение с развевающимися знаменами, даже не рукопашная схватка, в которой неистовствуют и кричат; война — это чудовищная, сверхъестественная усталость, вода по пояс, и грязь, и вши, и мерзость. Это заплесневелые лица, изодранные в клочья тела и трупы, всплывающие над прожорливой землей и даже непохожие больше на трупы. Да, война — это бесконечное однообразие бед, прерываемое потрясающими драмами, а не штык, сверкающий, как серебро, не петушиная песня рожка на солнце!»
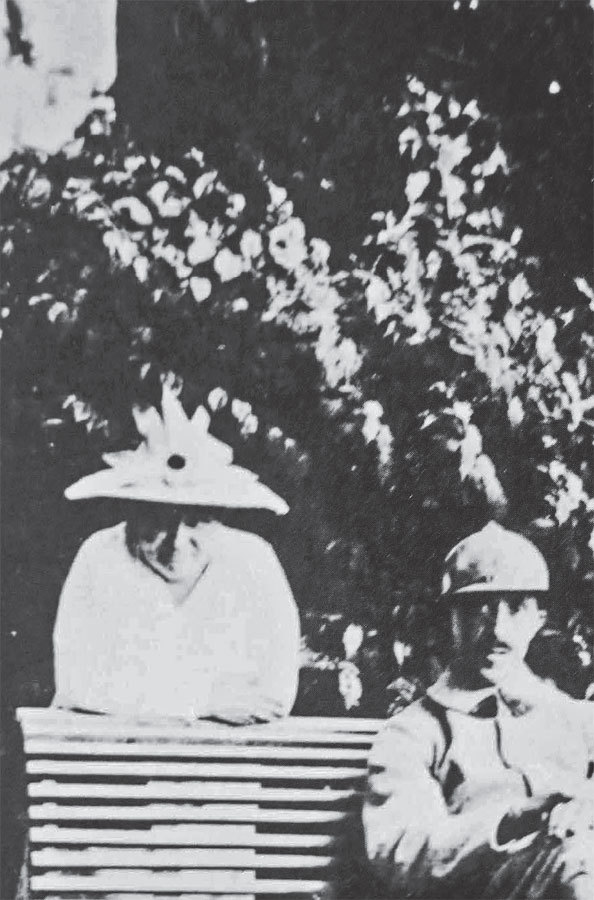
Моне и, слева направо, Бланш, Мишель Моне и Жан-Пьер Ошеде (стоит) в 1916 г.
Как это ни удивительно, «Овр» удалось укрыться от бдительности цензоров, и к концу 1916 года роман вышел в форме книги (и почти сразу был переведен на английский язык). Моне, возможно, не читал романа Барбюса ни в выпусках, ни в отдельном издании, однако изображенные в нем ужасы войны не раз становились предметом обсуждения на гонкуровских обедах. Моне с прежним рвением посещал собрания «гонкуристов», как он их называл, и даже просил перенести одну из встреч до того момента, когда Мирбо достаточно оправится, чтобы к ним присоединиться: собрание «десятки» без Мирбо было, как Моне сказал Жеффруа, «вещью невозможной». В 1916 году «десятка» постановила, что выдвигаться на премию будут только романы, написанные теми, кто служил в действующей армии. В декабре Гонкуровскую премию присудили Барбюсу.
В тот самый день, когда была присуждена Гонкуровская премия, сенат проголосовал за выделение бюджетных средств на основание Музея Родена в «Отель Бирон». Всю осень газеты бурно обсуждали «дар Родена»; палата депутатов проголосовала за выделение денег в сентябре, а сенат рассматривал этот вопрос в октябре и ноябре. Вопрос о принятии дара — его оценивали в два с половиной миллиона франков, сюда же входил дом Родена в Медоне — был весьма спорным: многие сенаторы считали недопустимым в военное время расходовать государственные деньги на основание музея. Один из них бросил гневно: «Хотел бы я знать, что солдаты в окопах подумают о наших дебатах». Сторонники идеи аргументировали свою позицию тем, что Роден — «поэт мрамора» и «великий национальный художник». Один сенатор заявил, что война — не повод отменить во Франции «культ красоты». Наконец 22 декабря дар Родена государству был «однозначно принят» — и это скрепили законодательно.
Впрочем, один влиятельный член сената отказался говорить хвалебные слова о даре Родена. Клемансо был невысокого мнения о прославленном скульпторе. «Он глуп, тщеславен и слишком корыстолюбив», — поведал он однажды своему секретарю. Может, оно и так, но у их разногласий имелась и другая причина. Роден и Клемансо разошлись во мнениях по поводу бюста последнего, который скульптор изваял несколькими годами раньше по заказу аргентинского правительства, — в 1910 году Клемансо был там с визитом. «Этот скульптор сварганил непонятно что, — жаловался Клемансо. — Его бюсты напоминают лучшие римские портреты и запечатлевают черты, о которых модель не имеет понятия. Я не тщеславен, но если уж оставаться в веках, то оставаться в образе, в котором меня изваял Роден, я не желаю». По мнению Клемансо, Роден сделал его похожим на «монгольского тысячника», на что Роден ответил: «Ну разумеется, Клемансо — он же Тамерлан, он Чингисхан!» Переделывать работу Роден отказался, а Клемансо не позволил выставить ее в Салоне в 1913 году. С тех пор они друг с другом не разговаривали.
Недалеко от «Отель Бирон», по другую сторону Дома инвалидов, шла работа еще над одним проектом — к нему власти относились куда с большим пониманием и энтузиазмом. Художникам Пьеру Каррье-Беллезу и Огюсту-Франсуа Горже понадобились новые просторные помещения. В ноябре для экспонирования их огромной панорамы «Пантеон войны» был специально построен зал в форме храма: средства собрали спонсоры и подписчики. Новое здание стояло на земле, принадлежавшей Военной школе, — художникам ее предоставил генерал Жозеф Гальени, военный комендант Парижа. Вместе с помощниками они переместили в новое здание все свои картины и эскизы — не только тысячи квадратных метров холста, но и тонны металлической арматуры, на которой полотна должны были крепиться.
Перед своей смертью в 1916 году генерал Гальени среди прочих позировал для портрета на бульваре Бертье. Один из многочисленных спонсоров этого начинания — газета «Голуа» объявила своим читателям: Каррье-Беллез и Горже «сообщают родственникам, что готовы создавать в своей мастерской портреты героев, имеющих награды, как погибших, так и уцелевших, как с натуры, так и по фотографиям, дабы обессмертить наших героев». В новое великолепное здание потянулись женщины в траурных одеждах, «рыдая, они несли портреты, священные памятки о дорогих им людях». Из этих мертвых героев, утверждал Каррье-Беллез, «создавался один живой». Недостатка в скорбящих женщинах не было: к тому моменту, когда Каррье-Беллез и Горже перебрались в новое помещение, потери Франции в войне приблизились к миллиону.
Жорж Клемансо нашел в своем плотном графике время позировать Каррье-Беллезу и Горже со сложенными на груди руками, в позе непреклонной решимости. Ему, скорее всего, не слишком нравился старомодный стиль этих художников, однако тут он, по крайней мере, не заявлял, что они «сварганили непонятно что». В любом случае он всем сердцем поддерживал этот проект увековечивания героизма французов. Осенью 1916 года он снова поехал на фронт с целью сбора фактов. Вскоре после этого, в ноябре, он нанес очередной визит в Живерни. «Только что приезжал Клемансо, — писал Моне Жеффруа, — с большим энтузиазмом отозвался о моей работе. Я сказал ему: мне очень нужно твое мнение по поводу этого грандиозного проекта, — по правде говоря, на мой взгляд, это чистое безумие».
Моне с удовольствием показывал свои работы друзьям, таким как Клемансо и Жеффруа, радовался их оценке и одобрению. Несмотря на дурную погоду, зубную боль и «тревоги и трудности этой войны», он почти весь год пребывал в оптимистичном настроении. Как он сказал Клемансо — видимо, имея в виду горькую участь Мирбо и Родена, — главный его страх состоит в том, что он «так и не закончит эту большую работу».
Отпраздновав в ноябре семьдесят шестой день рождения, Моне ответил на пожелания Бернхайма несколькими строками, исполненными спокойствия и оптимизма: «Рад тебе сообщить, что к работе своей я отношусь все с большей страстью и наивысшее для меня удовольствие — писать и наслаждаться природой».

