Песня перевала
VIII
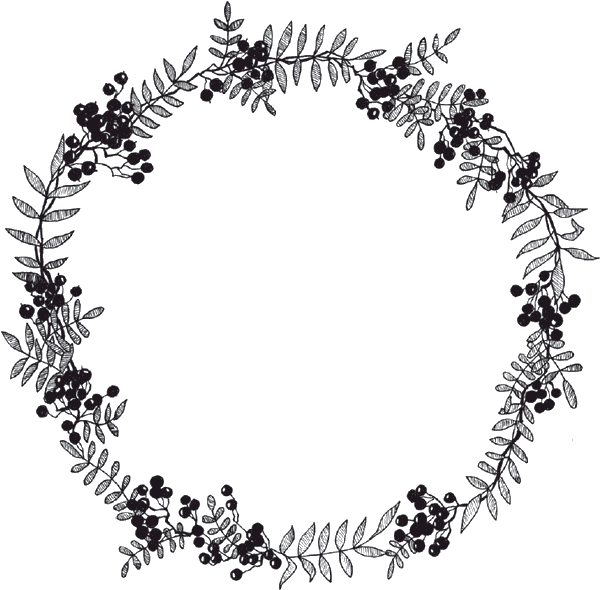
С Мглистого полога стекала река – быстрая, светлая, не скованная льдом. Сильное течение выносило во фьорд ее бурно пенящиеся воды. Бархатные травы на берегу – рдяные, бронзовые и зеленые, синие от инея – местами скрывали тонкие пласты снега.
Над рекой возвышалась крепкая мельница, и, поскрипывая, вертелось водяное колесо. Здесь жил хмурый одноногий мельник, и вот уже несколько лун люди из соседней деревни не находили с ним никакого сладу. Раньше Ингар, сын Вельша, был лишь чересчур молчалив и скрытен – а стал грозен и страшен.
Теперь, чтобы меньше пересекаться с ним, зерно Ингару отдавали целой деревней. Да и то делали торопливо, словно опасаясь. Говорили, недавно мельник едва не забил до смерти собственного отца. Братья оттащили, и младшему из них, Эйсо, Ингар чуть не свернул шею.
Неполный месяц он провел в утопающем в лесах Гренске, закупая для мельницы древесину. А как вернулся, узнал, что его любимую сестру увезли Сармату-дракону.
…Трещало колесо, и пузырилась речная вода – молочно-белая, будто бельма. Сгорбившись, Ингар, огромный и заросший – темно-русые лохматые волосы, густая борода, – сидел за столом. Из окна открывался вид на холодно-голубой залив и восстающие за ним массивы гор. Облака дремали на пиках, но теперь Ингара не трогала красота. Зачем эти холмы, и реки, и солнце, ласкающее мельничное колесо, если о них больше некому рассказать?
В последние несколько месяцев мужчина редко бывал трезв. За муку ему платили сыром и мясом, немного – серебром. И пенистой брагой. Он не напивался вусмерть, но в глазах никогда не исчезал нехороший хмельной огонек.
– Сколько тебе лет, Ингар? – говорил знахарь, живущий на лесном отшибе. Единственный, кто оставался на мельнице дольше, чем этого требовало дело. – Ты еще молод. Зачем себя хоронишь?
Ингару тридцать пять, его любимой сестре – девятнадцать. Зимой исполнится двадцать, и столько же останется навсегда. И пусть отец рыдал, мол, никто из них и подумать не мог, что Рацлаву захотят отдать дракону. Ты продал ее купцу, которому задолжал. Сказал увезти в Черногород, выменять на ее музыку прощение и покой. Ингар бы забрал ее назад, да было поздно. Поздно, поздно – как догонишь караван на одной ноге?
Он хотел убить и отца, и братьев, всех до единого, и его бы не остановили ни крики матери, ни плач сестер. Насилу удержали.
– Страдания не помогут горю. – От знахаря, коренастого, в рубахе с узорным поясом, всегда пахло шалфеем и чабрецом. Седая борода щекотала горло. – Ты хороший человек, Ингар, и должен оправиться. У меня есть дочь, светлокосая и кроткая. Женись на ней.
Только Ингар выплеснул всю любовь, которую боги когда-то вложили в его сердце.
– Уходи, старик. – Сидя на колченогом стуле, он упирался локтем в бедро. – Не надо мне твоей дочери.
Знахарь вздыхал и шел к двери, но позже возвращался снова.
Рацлава выросла у Ингара на руках. Она была его единственной отдушиной, и он любил ее до рези в груди – холил и опекал так, как не смог бы заботиться о собственном ребенке. Ингар не желал ни богатства, ни славы, ни женщин – ничего, только чтобы эта зима была лютая и снега бы намело по самую крышу. И чтобы они жили с Рацлавой, отрезанные от всего мира. Чтобы сестра засыпала под треск огня в очаге и завывание бурь, а пахло бы сухой душицей. Ингар сидел бы и, не смыкая глаз, сторожил Рацлаву, словно древний воин – ледяную княжну, уснувшую до весенних гроз.
«Это твоя вина, Ингар», – река дробилась о пороги. «Твоя вина», – гулял ветер во фьорде. Черногородский купец никогда бы не захотел его сестру – если бы не свирель древесной волшебницы. О Рацлаве не узнали бы в княжьем тереме, ее не отправили бы в дань дракону. Ради сестры Ингар мог принести звезды с неба и, стоило ей попросить, украл свирель. Твоя вина, твоя – сколько это причинило горя?
Поэтому хмурый одноногий мельник почти не бывал трезв. Поэтому его кулаки были искусаны и избиты в кровь, а те из деревни, кому случалось проходить мимо, рассказывали, что ночами он выл, будто зверь.
Ингар знал одно: он тоже не доживет до летнего солнцеворота.
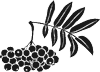
Караван спускался по склону. На густой мох наползала корка льда, и оттого земля казалась беловато-синей с вкраплениями зеленой поросли.
Недремлющий перевал остался позади – страшный, красивый, заволоченный туманами, и отряд ехал между хвойных деревьев, чьи ветви вдавались в еще не угасшее вечернее небо. Дорога уводила караван вниз, все дальше от горных вершин, и на нее медленно опускались крупные и влажные снежные хлопья.
Совьон держалась вровень со средней телегой и видела, как драконья невеста прижималась виском к оконной раме, а ее пальцы поглаживали отдернутую занавеску. После событий на Недремлющем перевале девушка стала еще тише, чем прежде. Ни криков, ни плача – Рацлава вновь была большой рыбой, плывущей по течению реки. Она мало двигалась, еще меньше говорила. И совсем не спрашивала о свирели.
Совьон думала, что руки девушки заживут за эти дни. Но нет: даже от ослабевших холодов набегала новая сыпь. И Рацлава остервенело сдирала корочки с заживающих ран, будто, мучаясь, хотела соскрести кожу с костей. Как-то Совьон предложила ей лечебный отвар, но девушка лишь рассеянно покачала головой.
Ворон кружил над хвойным прилеском, над холмами, которые лениво укрывал полупрозрачный снег.
– Где мы сейчас, Жамьян-даг? – Старуха-рабыня выглянула наружу. Теплая шаль обнажила веточку красной татуировки на тонкой руке.
Совьон погладила холку Жениха, идущего мерным шагом.
– Въезжаем на Плато Предателя.
Топкие болота и колдовская зелень трясин. Логова разбойников, а дальше – южное разнотравье и сгоревшие остовы лесов. Плато упиралось в Костяной хребет, одним из зубцов которого была Матерь-гора.
– Какого предателя?
Совьон невесело усмехнулась.
– Всё того же.
Тысячу лет назад на месте плато были острые скалы и глубокие ущелья. На этой земле Хьялма спрятал тюрьму брата-мятежника, и здесь Ярхо предал своего князя. Пахло хвоей и почвой, в вышине каркал ворон – Совьон снова повернулась, чтобы взглянуть в окно подрагивающей повозки. Рацлава – серебряный обруч с подвесками, единственная коса – по-прежнему лениво касалась занавески и пусто смотрела на дорогу. На ее мягкой шее до сих пор алели две полосы. Первая – царапина от ножа Скали. Вторая – ожог от сорванного шнурка.
Отряд уже достиг прилеска у склона, а Совьон так и не заговорила о случившемся. Да что говорить – несколько дней назад женщина была невероятно зла, но на кого ей следовало злиться? На Рацлаву, тогда то заходившуюся в мольбах – «отдай, отдай», – то лепетавшую, что не желала Скали дурного? Совьон понимала: девушка не лжет. И воительнице ли не знать, из чего певцы камня ткут свои лучшие истории. Совьон могла сердиться только на себя: упустила, не почувствовала, не расслышала, когда музыка изменилась, и это едва не обернулось бедой.
Вдруг Рацлава вытянула руку и почти коснулась бока Жениха изрезанными пальцами.
– Ты сломала ее? – Девушка заговорила впервые за долгое время, и голос у нее был мертвый. – Сломала, как приказал Тойву?
Совьон посмотрела на нее сверху вниз – темные круги под глазами, тревожно искусанный рот. Забрать у Рацлавы свирель – все равно что вытащить хребет из тела грозного чудовища. Она казалась ослабленной и выточенной слепотой.
– Ответь мне. – Слова – шорох песка в гортани. – Я не прошу большего.
Говорят, для того, чтобы победить ведьму, живущую в дремучем лесу, герои старой сказки вытащили самоцвет, пульсировавший в ее груди, и раздавили ногами. В самоцвете было спрятано великое волшебство – потеряв его, ведьма умерла.
Совьон не сомневалась: потеря свирели убьет Рацлаву, а Сармату-змею нужна живая невеста.
– Тойву – храбрый и умный предводитель. – Совьон понизила голос до глубокого шепота. – Но вы со Скали страшно его разъярили.
Даже Хавтора перестала дышать, лишь посверкивала из глубины повозки глазами цвета латуни. Совьон легко натянула поводья – и вцепилась взглядом в свое правое запястье. Лицо женщины вмиг посмурнело, будто она увидела нечто ужасное, выползающее из-под кожи.
Рацлава этого, конечно, не знала.
– Почему ты не продолжаешь?
Воительница нетерпеливо одернула рукав.
– Поэтому Тойву и забыл о важном. Мало купить тебе новую свирель – он слышал, как ты играла без колдовства певцов камня. Его не впечатлило. И вряд ли такая музыка понравится твоему жениху.
На щеках Рацлавы выступил лихорадочный румянец.
– Ты не сломала ее. – В горле мелко затрепетал смех. – Не сломала.
Совьон промолчала, хмуря иссиня-черные брови, а драконья невеста прильнула к оконцу, сжимая раму пальцами.
– Пожалуйста, верни мне свирель. Я не буду, клянусь, не буду ткать из людей каравана.
– Нет, – бросила женщина, и ее твердое, холодное, бесстрастное «нет» заставило Рацлаву отшатнуться. – Не сейчас.
Спорить девушка не посмела. Только втянула воздух – запахи заснеженных сосен, конского пота и стали. И, прикрыв незрячие глаза, откинулась на подушки.
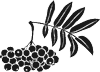
– Что твой безумный приятель? – На последнем слове Оркки Лис сплюнул под ноги. Так и не простил Лутому, что тот, рискуя собой, бросился спасать Скали от обвала.
Стемнело. Отряд разбил лагерь – ближе к земле дышалось легче и радостнее. Даже костры горели веселее, и один Оркки твердил, что веселье это нехорошее, опасное. Взяв лук и колчан со стрелами, он увлек Лутого в лесок – и не только для того, чтобы пополнить оскудевающие запасы. Следовало поговорить.
– Он не безумен, – мягко проговорил Лутый, поддевая носком сапога рыхлую землю. – Зуб даю, батенька: к Скали вернулся рассудок.
Не так давно Тойву позволил развязать мужчину и посадить его в седло.
– Скали вновь такой же, как прежде, – злобный и едкий. Только разговаривать ни с кем не желает. Стыдится.
– Он-то? – Оркки хмыкнул, а Лутый развел руками и поправил трепыхавшийся у бедра колчан. – Гнилая голова. Было разумнее перерезать ему горло.
«Выпустить кровь, отравленную этой девкой».
Когда воины начали спуск, то стали бить дичь в густеющих лесах. Сейчас, в темноте, от охоты, конечно, толку было немного, но ведь и не за тем пришли.
– Ничего я пока не узнал, батенька. Ни о Совьон, ни о драконьей невесте – уж прости.
А Лутый все равно надеялся высмотреть следы зверей под еловыми лапами, хотя находил лишь пылающие гроздья брусники. В небе слабо светился тоненький серп месяца – последняя ночь ущербной луны. Лутый вспомнил, как на предгорье со Скали искал оборотня, но отогнал эту мысль прочь.
– Узнаешь. – Оркки вздохнул. – В этом я уверен.
Поднимался ночной хвойный лес – влажно-темный, полный треска и шорохов. Ветер свистел в брусничнике, ухала сова. Нестерпимо пахло травой, сыростью и ягодами, раздавленными подошвой. Оркки Лис уже собирался объявить, что пора возвращаться, как заметил движение за одним из деревьев.
– Ну-ка, – проговорил почти неслышно. – Что там?
Лутый пригнулся, подбираясь ближе. И в неверном свете месяца разглядел выступающие за ветвями крупную мохнатую спину и продолговатую морду. Затем – тонкие, но сильные ноги.
– Лось, – прищурил единственный глаз. – Или лосиха.
Юноша не знал, о чем подумал раньше. Удивился ли подвернувшейся удаче или снова вспомнил Скали с его рассказами. Только вот у лосихи – луна очертила безрогую голову – копыта были не посеребренные. Животное, не испуганное неуловимым шепотом их шагов, казалось совершенно обычным: клонило короткую шею, перебирало копытами по мягкой земле.
Лутый никогда не слыл метким лучником, и его стрела потревожила разве что сов, охотящихся в ночи. Лосиха дернулась, приготовившись бежать, но Оркки успел прижаться к деревьям и спустить тетиву. Упругий звон, легкий свист и почти не различимый чавкающий звук – Лутый решил, что острие вспороло лосихе бедро.
Брызнул ее скрипящий голос, протяжный, полный боли. Хромая, животное метнулось в глубь леса, и темнота, густая и душистая, скрыла его от охотников. Гнаться было бессмысленно.
– Ничего. – Лутый взъерошил волосы, пока Оркки выпрямлял спину. – Раненая далеко не уйдет. Мы сможем выследить утром.
В вышине месяц изгибался, как лукавая ухмылка.
…Над горами забрезжил рассвет. Дымчато-голубой с розовым пятном у горизонта. За лесом в низину сбегала речка – берега ее тонули в камыше, по глади ползла рябь.
Каждый шаг давался с трудом. Ш-шух – покатилась набухшая земля под босой ступней. Х-хруст – рубаха, некогда спрятанная в узловатых древесных корнях, зацепилась за острую ветвь и разошлась по шву. Холодная вода сомкнулась у лодыжек, хлынула к коленям и накрыла бедра, окрасившись в багровый. Бок обожгла боль, но Та Ёхо стиснула зубы, удерживая крик. Вспотевшие черные волосы прилипли к шее, на лбу выступила испарина.
Девушка стояла по пояс в узкой реке, и лес шумел за ее спиной. Птицы перелетали с ветки на ветку, разгоралось утро, а в камышах остывала звериная шкура. Та Ёхо зажимала рукой рану, и между пальцев сочилась темная оборотничья кровь.
Назад: Топор со стола IV
Дальше: Зов крови V

