Хмель и мёд
IV
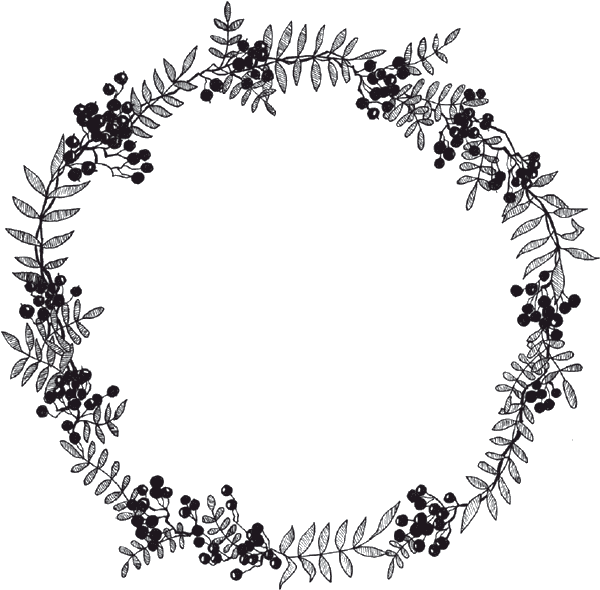
На перевале Рацлаву почти не выпускали из повозки – это было опасно и долго. Гуляла девушка только вечером, перед сном, и Совьон не уводила ее далеко от шатра. В пути мышцы Рацлавы дубели и затекали, от холода перестали спасать даже самые теплые покрывала. Она куталась в них до бровей, поджимала ноги, слушая прерывистое дыхание мерзнувшей Хавторы, скрип снега и колес и цокот копыт. Ей стало неуютно в неподатливом теле, которое с каждым днем все сильнее ломило и тянуло. Рацлава словно задыхалась, металась под слоями собственной кожи, не зная, как выскользнуть наружу.
И у нее это получилось. Три дня и три ночи Рацлава не притрагивалась к свирели, позволяя вылечиться гноящимся порезам. За это время Скали, из которого она решила ткать, уставал и снова набирался сил, утекающих сквозь его слабые нити, будто вода. Позже девушка не раз подбиралась к нему со своей музыкой, но сначала… в горах не оказалось ни диких уток, ни мышей, и отчаяние толкнуло Рацлаву вперед. Она так и не запомнила, сколько крови забрала у нее свирель, как это было больно. Шрамы, напоминающие след от хищного клюва, появились в одно утро, а зажили на второе.
Над Недремлющим перевалом кружил ястреб. Рацлава не могла повелевать ни его крыльями, ни когтями или голосом – с мелкими птицами ей было куда проще. Она лишь стелилась внутри ястребиного тела, зачарованно ощущая, какая под ней распростерлась высота. Дымки цветов ускользали, оставляя невесомые следы. Небо, сгустившееся вокруг горных пиков, – это ткань ее длинных рукавов, раскроенных холодным жемчугом и шершавыми петлями узора. Снежные вершины – это шитье изо льда и вербы, и изгибы гор вдавались в облака, как заливы – во фьорды, о которых Рацлаве рассказывал брат.
Она не слышала ни сухого кашля Хавторы, ни конского ржания, только вой ветра и музыку свирели, стучавшую глухо и горячо, будто ястребиное сердце. Рацлаве приготовили свадебный наряд, а она надела оперение. Конечно, ей не сбежать и не улететь, но сейчас снег опускался на крылья, взбивавшие воздух под утренним солнцем. Девушка будто трогала кончиками пальцев бескрайнее полотно: затканный шелком контур гор, витиеватые нити лучей и дорог. Повсюду – выпуклые орнаменты, будто мир задернули полотенцами, которые до поздней ночи шили ее сестры.
Если у Рацлавы есть ветер и сила, зачем ей возвращаться в ее слепое, усталое, коченеющее в повозке тело? Каждый раз она цеплялась за ястреба так долго, как могла, но птица оставляла под собой ползущий по перевалу караван и улетала прочь. Далеко-далеко, за сказочную пелену, к горизонту. Рацлава возвращалась на подушки напротив Хавторы – сводило ее скользящие от крови пальцы, но теперь рабыня старалась залечить их маслами и сухими травами Совьон.
– Ты играла сегодня страшную музыку, гар ину, – жаловалась старуха, по-кошачьи устраиваясь у окна. – Сыграй иначе.
И Рацлава играла – пусть жалея себя, не притрагиваясь к нитям Хавторы. Собирала из воздуха все, до чего могла дотянуться. Свирель пела о душистых соцветиях, распустившихся в горах, о легкокрылых птицах, о храбрых и одиноких путниках.
А после лилась музыка еще страшнее.
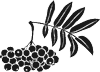
О Недремлющем перевале ходило много легенд, и Лутый не знал их все. Но чаще прочих рассказывали истории о сгинувших здесь странниках – недаром говорили, что перевал никогда не спал.
– Объявился Пропавший ровно через год. Одной ночью в деревне, где жила его невеста Бирте, а жила она на самом предгорье, поднялся страшный ветер. Ставни в домах хлопали, двери рвались с петель, летела посуда. Занавески надувались и лопались, будто паруса. В мерзлые яблони вцепилась когтями целая стая ворон.
«Бирте, – закаркали вороны, – милая Бирте, то не горе с востока и то не твоя печаль. Твой любимый сошел с перевала…»
– Иди встречать. – Лутый прикрыл ладонью глаз от яркого солнца и расправился в седле. – Гъял, если тебя услышит Оркки, то надает по шее.
Рассказывать о покойниках прямо над их костями – кликать беду. Так считал Оркки Лис, и его мало утешало, что в это время года Недремлющий перевал обычно бывал спокоен. Гъял, жилистый и темно-рыжий, с клочковатой порослью бороды и шрамом через горло, задумчиво одернул поводья.
– А ты меньше ори, – мягко предложил он. – Вот и не услышит.
Поднимались горы. Темно-серые в белых жилах снега, в клочьях голубоватого тумана. Дорога лежала мимо ущелий, на дне которых, казалось, разводили исполинские костры: марево выливалось, словно из котла. Лутый едва успевал следить за цветами Недремлющего перевала. На закате – розовато-лиловый, с золотом угасающего солнца. На рассвете – в хрустящей белизне, укутанной медовым. Днями перевал бывал и вьюжно-седым, и безоблачно-голубым, и неоднородным, будто собранным из осколков горных пород. Недремлющий перевал – это и высокий статный старик, грозный, сухопарый, с длинной бородой и крючковатым носом-утесом. Это и молодая женщина, чью фигуру обволакивали клубы небесных шелков. Она была убрана серебром и перламутром: венцы и кольца, браслеты и расшитые мерцанием пояса. В ее гортани гуляли ветра и песни, а в широкие ладони падали звезды.
Не изменялся лишь туман, льнувший к обманчиво спокойному, клокочущему в недрах хребту. И оставалась музыка драконьей невесты. В последние дни Лутый старался подобрать нужное слово – какая она была, эта мелодия? Тоскливая, неспешная? Старинная? Тревожная? Пугающая. Свирель тянула звуки – скрипяще, как струны, низко и плавно. Музыка поднималась и опускалась волнами, будто повторяла за караваном. Она перекатывалась, одновременно вплетая в себя и подрагивающий высокий перезвон. Эта песня была тихая и живая, она отдавалась в горле, просачивалась сквозь трещины породы, вила себе гнезда и рассыпалась, чтобы взлететь снова.
– Иногда мне кажется, что Лис прав, – сказал Скали, когда они проезжали особенно узкий участок пути и бока их с Лутым коней почти соприкасались. Мужчина смотрел на крапчатый склон горы – камень с кляксами снега. – И за каждым нашим шагом следят погребенные здесь странники.
Почему-то Лутый думал, что музыка рвала Скали сильнее всех.
– Иногда мне кажется, что я слышу, как шепчут их кости. Они взывают из своих каменных крипт, из-под древних завалов, неупокоенные и скорбящие. Зовут лечь рядом с ними, врасти в гору под покрывалом из снега.
– Ты бы спал покрепче, – посоветовал Лутый. – Перестало бы мерещиться.
Но Скали взглянул на него отчаянно и злобно, посылая коня вперед.
Что-то с ним творилось в последние дни – Лутый чувствовал это, но не мог понять. Скали смотрел не так, говорил не так, делал мелкие, несвойственные ему движения. Касался лба, рассеянно гладил сбрую, вцеплялся в сальную прядь волос. А потом смотрел на собственные пальцы, будто не узнавая. Он не отдыхал ночами: если Лутый просыпался, то видел, как темная, согнутая крюком фигура Скали сидела на соседних шкурах, а его шея упиралась в низкий навес палатки.
– Тише, – просил он, невесомо царапая грудь. – Тише, тише…
А потом кто-то, Гъял или Корноухий, грозился пересчитать Скали зубы, если тот не закроет рот. Лутый не раз пытался выяснить, что с ним случилось, но Скали делал вид, что не понимает, рявкал и просил оставить его в покое.
– Ты бредишь, – шипел он Лутому. – Со мной все в порядке, иди приставай к кому-нибудь другому.
Скали говорил про шепот погребенных под завалами путников. Пусто смотрел сквозь барашки вихрей на дороге, глядел в небо, пощипывал ворот и больно стегал коня. Лутый знал, что с ним точно не все в порядке. Неужели его добивает болезнь? Юноша косился медовым глазом, поглаживал между ушами гнедого жеребца. Скоро октябрь пойдет на убыль, до зимы – меньше двух месяцев.
Скали, Скали, недолго тебе осталось.
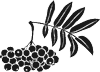
Вода камень точит. Рацлава – это река, широкая и ледяная, она льется по порогам, выедая дорогу, срывается с обрывов, неумолимо течет вперед, и в ее чистых волнах растворяются капли свежей крови. Когда она всласть налеталась в ястребином теле, то решила взяться за дело. Это было и жутко, и больно, но боги не дали ей много времени. Ткать – что ходить по ножам. Первые шаги – самые страшные, потом становится легче. Лишь бы не искалечить себя, перейдя за грань.
Перевязав пальцы лоскутьями, Рацлава осторожно перебирала нити Скали. Повозку снова трясло, и тело снова затекало, но теперь девушке не было холодно. Жар стучал у нее в висках. Она, к удивлению Хавторы, отбросила шерстяные одеяла и даже распустила на платье кусочек шитья у ключиц, обнажив кипенную кожу. Горячим пульсировала свирель в пальцах, и воздух вокруг стал животным и прелым.
Рацлава отслаивала от Скали по струнке. Порезы на ее ладонях пролегали, как морщинки, – дюжина, две, три. Перекрещивались, изменяя гладкость кожи, заживали выбоинами и кровоточили, оплетали запястья и фаланги пальцев. Но теперь Рацлава вошла во вкус: она ткала из Скали не первый день и отдалилась от боли.
– Как бы ты не простыла, ширь а Сарамат, – заметила Хавтора. Ее карие глаза посверкивали в прорези шафранно-желтого покрывала: в тканях рабыня пряталась от мороза.
Рацлаву грела ее плавная и глубокая, человеческая музыка. Хоть сейчас она была похожа на нераскрывшийся бутон, а не цветок. Мимолетные движения – не верность и самопожертвование, но каждая могучая река берет где-то узкое начало. Девушка, увлекшись, отняла свирель и вытерла губы рукавом. На ткани остался длинный багряный след. Рацлава вновь начала играть – пальцы над костью запорхали быстрее, быстрее… Она погрузила их глубже в незримые нити и вывела свирелью полукруг, пытаясь отыскать ту слабую струну, что смогла бы извлечь.
И тогда раздался грохот. Земля всколыхнулась, а телега опасно накренилась, но устояла. В окно ворвался ветер: Хавтора гортанно вскрикнула, когда с нее стащило покрывало. Рацлаву отбросило на подушки, ударило о стену, и, не осознавая, девушка рванула к себе погруженные в нити пальцы.
Ей казалось, что ее жилы растянулись, а мышцы разметались по полу повозки. От жара едва не лопнула голова, но тепло тут же сменилось могильным холодом. Кровь пошла горлом, заслезились незрячие глаза, а телега подпрыгнула во второй раз – крик Рацлавы утонул в каменном треске. Она даже не сразу поняла, что натворила и с кем, – так ее напугало нечто, бурлящее снаружи.
…Об обвале не успел прокричать даже ворон Совьон.
Недремлющий перевал никогда не спал. Никогда, даже в самое спокойное для него время года. Лутый видел, как с вершин впереди них сходила лавина. Она перескочила через ущелье слева, ударилась в склон – Лутый чувствовал, до чего сильна одна только невидимая волна мощи, добравшаяся до них по земле.
«Далеко. Мы достаточно далеко, чтобы нас не задело».
Но со склона сорвалась первая глыба – Лутый даже мог видеть, как она раскололась на части. Валуны обгоняла пыль, снежная и каменная, сминающая под собой туман.
– Назад! – кричал Тойву, и телеги разворачивались. Отряд спешил убраться подальше, чтобы точно оказаться в безопасности: лавина ускорялась, пыль и осколки глыб заполнили впадину к востоку от каравана. Лутый заметил, что Совьон, не желая рисковать, выволокла из повозки драконью невесту и посадила к себе на коня. Не успели телеги развернуться, а новый грохот – докатиться до них, как женщина уже умчала Рацлаву по дороге назад. За ней весь отряд сумел сползти за ущелье – сдвинулся достаточно, чтобы его настигла одна лишь пыль, от которой никак не удалось бы скрыться. Боги оказались милосердны, дав им время, потому что место, где воины услышали лавину, начали бить осколки гряды.
Сейчас Недремлющий перевал напоминал Лутому многоликое божество. И статный старик, и молодая женщина, ловящая руками звезды, – до этого божество лишь ждало своего часа. Могущественное, заключенное в тесную оболочку из мирных гор, сейчас оно набрало силу, заставив неудобное тело треснуть. И небо стало самым красивым за дни их пути – дымчатое, смеющееся, бездонное. Звук гулко отпрыгивал от его купола. И снежная пыль мешалась с каменной, катилась и стучала, заполняла мир от края до края…
Только рысий глаз Лутого мог это увидеть – фигура, стоявшая слишком далеко, на земле, которую еще дробили валуны. Фигура была черная и худая и почти терялась в тумане.
– Стой! – Оркки Лис брызгал слюной, но его голос терялся. – Вернись, дурака кусок!
Лутый ударил пятками в гнедые бока трепещущего жеребца, дернул поводья и нырнул вниз по тропе, надеясь воротиться до того, как все, что он видит, утонет в плотном снежном облаке.
– Скали! – завопил он. – Уходи! Ты что, совсем больной?
Многие лошади испугались и не разбежались только чудом. Конь же Скали сбросил всадника и унесся прочь с жалобным ржанием – молодой человек поднялся, не отряхиваясь, и застыл на месте. Вытянутый, как палка. Обездвиженный.
– Убирайся прочь! – Лутый сорвался на хрип, но Скали не повернулся. Глупо смотрел, как на него неслись облака пыли и как его грозили затянуть подбирающиеся, срывающиеся со склонов валуны. Наконец Лутый оказался достаточно близко, чтобы схватить Скали за шкирку.
– Лезь сюда! – заорал он, указывая рядом с седлом, но Скали не отмер. Лутому пришлось криво втащить его на конскую спину: когда он делал это, его захватили клубы пыли. Крошка, белая и серая, оцарапала лицо и руки, залетела в разинутый рот. Но куда страшнее, что Лутый потерялся в снежном облаке. Он кашлял и хрипел, протирая глаз, подбирая поводья. Возвращаться пришлось по памяти, слыша, как ломалась порода за спиной.
Лутый как никто боялся слепоты. Его била дрожь, когда он спешивался в безопасности, за ущельем, тоже укутанным пылью. Повязка, которую юноша никогда не снимал прилюдно, косо съехала, открыв часть щеки, – показался грубый рубец. Воины сняли с коня Скали и трясли его за плечи, стараясь привести в чувство.
– Почему ты остался, тупая твоя голова? – кричал кто-то ему на ухо. А Скали, начиная приходить в себя, словно силился объяснить, что не мог сделать ни шага. И на его ресницы и посиневшие губы ложилась наледь, и взгляд был потерянный и до смерти напуганный – Скали никогда так не смотрел. Он хватался за запястье Лутого костлявыми пальцами, сжимая до красноты; его лицо было бледнее, чем у покойника.
Перевал успокоился лишь к вечеру. Мутное небо прояснилось, а эхо затихло. Многоликое божество надело на себя земную кору, снова притворившись спящим.
Назад: Топор со стола III
Дальше: Зов крови VI

