Зов крови
VI
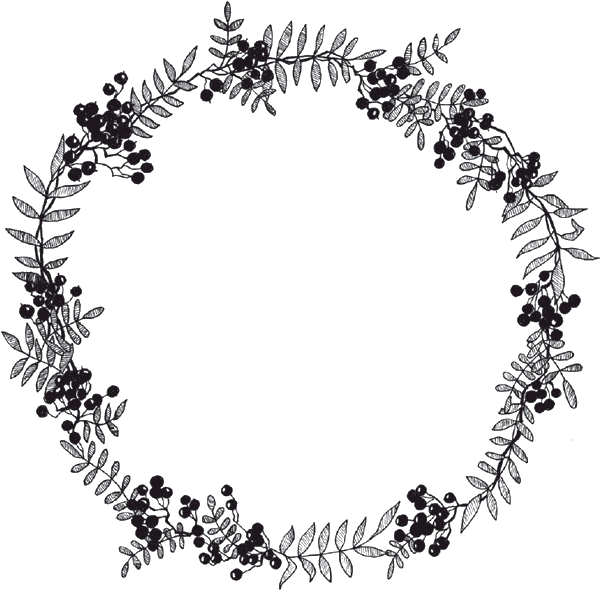
Красный всегда был ему к лицу. Цвет огня, отражающегося на лезвии кривой сабли, цвет заката и крови. Медь, киноварь и гранат – ряды чешуй, закрывающих его драконье тело. Сармат давно привык, что вместо ног у него была пара мощных лап – когти, длинные и острые, венчали стопы. Вместо рук – два кожистых крыла. Ему бы любоваться каждой крепкой мышцей, выступающей под гребнем, прощупывать суставы и связки, трогать граненые пластинки чешуи. Что ему дали за тело, что за тело – золотые, с вертикальным зрачком глаза различали бронзовые и багряные жилки листьев, видели линию горизонта так близко и четко, словно это была часть его самого. Его ноздри расслаивали тысячи запахов: железо и мясо, серебро и дым, горная порода, страх и рыба, плещущаяся в реке. К ее берегу Сармат опускался в полуденный зной, раскрывал пасть и в полете захлебывал прозрачную, будто стекло, воду. Его тень накрывала речную ленту – он разгонял крыльями воздух, и по воде бежала зыбь. Блики играли на песочных звеньях брюха, когда Сармат переворачивался и взлетал. И деревья у русла качались туго и звонко, а птицы шуршали над курчавыми кронами.
Все, что он видел, было его. И горы в медовой шапке света, и леса, и топкие болота. Море, перекатывающееся за Матерь-горой, деревни, в которых люди пели зычно и тягуче. Сармат здесь господин, и его княжество – целый мир, лежащий под ним, как на пестром блюде. Чащобы, в которых прятались хижины вёльх и землянки разбойников. Взрытые плугом пашни. Заметенные снегом дороги, по которым пробирались торговые обозы. Сармат рассматривал этот мир в дождь, солнце и буран. Помнил его корчащимся под каменной ордой Ярхо, в огне и дыме. Помнил и на рассвете весны, когда каждая проталина дышала хрупкой жизнью. Видел, как на деревянные идолы повязывали длинные, танцующие на ветру ленты, и видел, как эти идолы валили наземь.
Красота – бесконечная пляска. Сотни отзвуков и событий, тесно переплетаясь, рождали ни с чем не сравнимый образ.
Сармат летел, и холмы, деревни и рукава рек под ним были мелко и искусно вырезанными деталями – лакированная шкатулка с выведенным узором. Горы же щерились гигантской пастью. Сармат летел над грядами, наслаждаясь тем, как сокращались мышцы его спины и крыльев – чешуйки расправлялись, и между медными пластинами пробегали тонкие золотые нитки. Они огибали наросты гребня, спускались к груди, пролегали вдоль боков и тут же гасли, чтобы вспыхнуть с новым вдохом. Из ноздрей дракона шел горячий, рокочущий воздух. Ветер разнес выпущенный из горла радостный рев – эхо подхватило его и раздробило о горные вершины. Раскатало над долинами: отзвук еще долго дребезжал латунным листом.
Близилось очередное полнолуние, и Сармат хотел провести в вышине больше времени. Запечатлеть за ребрами ощущение полета и власти – уже завтра жилы станут лопаться от напряжения, а драконья кожа начнет жечь его, привариваться к костям. Ничего не останется, кроме как стащить ее с себя, полоса за полосой.
«Может, у тебя и будет чешуя дракона, Молунцзе, – говорил шаман айхов, вытирая разбитый рот, – но никакой обряд не даст тебе драконье сердце».
«Молунцзе» на языке высокогорников означало «вор».
Тогда Сармат еще не знал, что ему так часто придется возвращаться в человеческое обличье. Слишком часто для того, кому не было равных по силе и кто отвык от хрупкой беззащитной оболочки. На словах Сармат даже завидовал Ярхо, которого время обходило стороной и не ставило под удар. Вместе с каменным телом ему достались и мощь, и умение говорить – даром что тот пользовался только первым. Раздвоенному змеиному языку не хватало второго. Но все же Сармат бы не пожелал участи Ярхо. Внутри брат был мертв, давно мертв и холоден ко всему, что его окружало. Его не трогали ни радости завоеваний, ни вопли жертв, ни красота жен Сармата, пляшущих в мерцании самоцветов.
Сармат не мечтал о вечной жизни – он умрет, но будет в этом мире до тех пор, пока не устанет. И сейчас он влюблен в Княжьи горы и сокровища, в моря и легенды, в леса, фьорды, хижины колдуний и в закаты, отливающие красным по его чешуе. В каждую из девушек, которую однажды отдадут ему в невесты, – Сармат любил многих женщин, недолго и несильно, но любил.
Он летел, и ветер гулял под его крыльями.
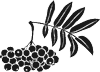
Малика Горбовна уже бывала в этой комнате. Блеклой по сравнению с драгоценными палатами – к ней вела спиральная лестница, скользкие ступени с вкраплениями слюды, а на двери поблескивал витраж. Крылатый змей с выпавшим у спины кусочком стекла. Как прежде, на скамье сидела старая вёльха: в рогатой кичке и с лунными камнями, вставленными в мочки. Седые волосы лезли ей на виски, а глаза, желтый и черный, следили за танцем веретена. Скрипело колесо, и морщинистые, с длинными ногтями пальцы ведьмы тянули пряжу.
Когда ей впервые открылась эта комната, Малика только начала плутать в горе и задыхалась от ярости. Княжна и сейчас была готова отшвырнуть прялку, плюнуть под ноги старухе и наброситься на первого каменного воина, встретившегося на ее пути, но понимала, что следует ждать удобного момента. Когда ее ненависть развернется в груди и выжжет не только Малику, но и всех, кого она пожелает. И княжна, подобрав юбки, остановилась за порогом, поглядывая на вёльху. Матерь-гора не вывела бы ее просто так.
Ведьма по-прежнему не обращала на нее внимания, лишь оглаживала пряжу и, посмеиваясь, бормотала колдовские слова. Но вскоре в неизвестной речи Малика смогла различить отголоски родного языка.
– Ша хор хайлэ, иркко аату. – Ведьма обнажила гнилые зубы. – Витто, вино, вэйно, несите княжне церемониальные одежды. Кио эйл ниил: княжна мертвого города, паа вайли, мертвому – мертвое.
Малика помнила, как старуха говорила, что прядет ей смерть, и стиснула губы. На это ее терпения уже не хватило.
– Зачем я снова здесь? – спросила она громко. Ведьма, улыбаясь, выдохнула на пряжу.
– Звонкий у нее голосок, – сказала колесу. – Бархатный, грудной, но у Хиллсиэ Ино был лучше.
– Кто это – Хиллсиэ Ино?
Старуха подняла глаза, прищурив черный, без зрачка.
– Славное у нее личико, – повернулась к веретену. – Волосы что мед, брови что смоль. Породистое, родовитое – но у Хиллсиэ Ино было лучше.
Вёльха расправила на скамье белое полотно с орнаментом по краю.
– Я – Хиллсиэ Ино, и несколько веков назад из меня можно было выкроить две таких красавицы, как ты. Мои волосы походили на дым, а кожа – на снег. Я была высока и статна, как подгорная царевна, и, если бы Хозяин горы не спал, он бы любил мою тугую толстую косу, летящий голос и разные очи. Один – цитрин, второй – обсидиан.
Малика с сомнением взглянула на висящую морщинистую шею, гнилой рот и согбенную фигуру. Скрипящий старческий голос резал ей ухо.
– Княжна мне не верит, – захохотала Хиллсиэ Ино. – Может, тогда мне забрать ее молодость? Зачем она ей?
– Каждому отмерено свое, – бросила Малика. – И ни вёльхи, ни хшыр-гари, степные людоедки, не могут обмануть время.
Ведьма посерьезнела и нежно прикоснулась к прялке. Малика же медленно сделала несколько шагов вперед – у лодыжек всколыхнулись юбки другого, но такого же киноварно-красного платья.
– Лишь над Хозяином горы годы не имеют власти, – сказала вёльха. – И над его женами, застывшими в хрустальных домовинах. Проходят десятки лет, а они остаются неизменны. Ты видела их, княжна?
Малика сузила глаза.
– Все ты знаешь, вёльха-прядильщица. Но так и не ответила, зачем я здесь.
– Богиня Сирпа разворачивает перед человеком тысячи путей, – произнесла она. – Расстилает один шаг за другим, и не всегда мы, ее слуги, ведаем, какой будет конец.
Колесо прялки закрутилось само по себе то в одну сторону, то в другую. Потеряв к Малике интерес, Хиллсиэ Ино достала из-за скамьи ритуальный нож, которым обрезала нити. С одной стороны его лезвие было закругленным, и под стальным слоем туманной дымкой расползались письмена. Ручка была резная, железная.
– …но порой вёльхи-прядильщицы догадываются, что может привести к концу. И не мешают, ибо каждый путь должен быть пройден.
Малика смотрела на нож не моргая. Она сжала юбки так сильно, что на ткани остались выемки ногтей, а Хиллсиэ Ино проследила за ее взглядом, и на дне глаз ведьмы разлился довольный огонек.
– Завтра ты станешь женой Хозяина горы, княжна. А теперь убирайся.
Девушка была слишком занята своими мыслями, чтобы рассвирепеть в ту же секунду: никто не смеет так ей указывать. Ни ведьма, ни ее боги. Пусть Малика сейчас была узницей и драконьей невестой, усталой и простоволосой, – она не желала плести кос, и медовая волна лизала пояс. Пусть завтра ее возьмет Сармат – кровь заклокотала в горле, – ничто ей не помешает вырвать чужой наглый язык.
– Убирайся, – повторила Хиллсиэ Ино беззлобно, но страшно, и у ее черного глаза лопнул сосуд. – Нечего тебе здесь больше делать.
Лицо Малики исказилось, хотя с губ не сорвалось ни слова.
Стены комнаты задрожали, и княжна поняла, что у нее очень мало времени. Она не могла потратить его на гнев.
– Я уйду, – зашипела княжна. – Но сначала ты ответишь на мой вопрос.
Словно бы ее не слыша, вёльха вернулась к веретену.
– Если ты та, за кого я тебя принимаю, то пророчишь судьбу многим людям. И тебе известно многое.
Скрипело колесо – громче, громче, голос Малики тонул в шуме. Вёльха отрезала моток пряжи и убрала нож обратно в сундук, а прялка сыто заурчала под ее рукой.
– У меня есть брат, он изгнанник и трус, но… – Девушка сглотнула, по-прежнему не сходя с места. – Я хочу знать, жив ли он.
Хиллсиэ Ино молчала так долго, что ноги Малики затекли.
– Твой брат? – переспросила вёльха тихо, когда колесо прялки замедлило ход, а нити потекли в морщинистую ладонь шелком. – Подпаленный сокол. Выжженная степь.
Мгновение – и нити в ее пальцах скрутились жесткой проволокой.
– Нет у него ни дома, ни надежного приюта, лишь соль и холод. – Старуха скривила рот. – И путь его нелегок и длинен.
Малика покачнулась на месте – в голове помутилось. Она не понимала, почему Хиллсиэ Ино говорила о «выжженном» и «подпаленном», едва слушала про путь. Единственное, что важно, – Хортим жив. Он все-таки жив, и значит, он придет.
– А теперь убирайся.
И, бросив скользящий взгляд за спину вёльхи, Малика ушла.
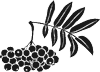
В детстве Малика знала, какой будет ее свадьба. Она – единственная дочь великого рода, и обряд выберут ей под стать. Ее не спрячут в несколько покрывал, как тукерскую невесту, чтобы покорную и скромную отдать жениху. Ее лицо закроют лишь тончайшей газовой тканью – достаточно, чтобы избежать недоброго глаза. На ее запястья наденут украшения прародительниц Горбовичей, и лучшие мастерицы пошьют Малике платье. Ритуальные цвета Пустоши – зеленый и желтый, но княжна сможет пожелать себе красное. И божий человек окропит ее лоб миром и окутает благовонным дымом, а затем положит в колесницу, как мертвую. Кони лучших кровей отвезут Малику к помосту, где в кругу соратников будет сидеть ее жених. Знатный и сильный – а иначе ей незачем за него выходить.
Малика знала и то, что без свадьбы с ней ничего не случится. Если ей не найдут достойного мужчину, она все равно останется гуратской княжной, богатой и вольной. Она не разделит ни свое имя, ни постель с тем, кто ей не ровня. Мысль об обратном вызывала у Малики отвращение. К тому же отец любил ее и дорожил ей так же, как своим городом. Он бы никогда не выдал ее замуж силой.
Княжна согласилась бы стать женой великого родовитого человека, но непросто было отыскать того, кто понравился бы ей и ее отцу. Кивр Горбович и Малика брезгливо отвергали сватовство тукерских ханов, не говоря об их отпрысках и полководцах. Не надменная ли гордость и презрительное обращение заставляли тукеров ненавидеть правителей Гурат-града? Не поэтому ли так мечтали уничтожить братьев Малики? Сын хана Гатая послал Кифе переломанное копье – как пристало воину, Кифа согласился, и та битва стоила ему жизни. Спустя девять лет юный хан Агмар вызвал на бой Хортима. Агмару было восемнадцать, и он водил за собой сотни. Хортиму – пятнадцать, и никто бы не назвал его хорошим воином. Брат не принял вызов, посчитав, что живой княжич послужит Гурат-граду лучше, чем мертвый, и языки разнесли по Пустоши его позор. А отец проклял его и приказал не возвращаться.
К Малике сватались северные князья, но Кивр Горбович относился к ним с подозрением. А когда изгнал Хортима, то твердо решил оставить княжну в Гурат-граде, да и девушка слишком любила город, чтобы с ним расстаться. Ни отец, ни Малика не соглашались на предложения гуратских вельмож, стоявших ниже их и жаждавших власти. А когда его дочь пожелал воевода, колодезников сын, Кивр рассвирепел настолько, что едва не придушил бывшего соратника и друга, как пса.
…Ш-ширк – скользил гребень в медовых волосах. Руки каменных дев расчесывали волосы Малики – княжна могла видеть в зеркало и их перемолотые фигуры, и свое лицо. Ш-ширк – пел гребень и шуршала ткань.
Разве ее жених не знатен? Его предки правили Халлегатом, который был уничтожен еще в первые годы правления Горбовичей в Гурат-граде. Разве он не богат? Гора ломилась от его сокровищ. Разве он не силен? Малика помнила чудовище, которое не брали ни копье, ни стрелы. Силен Сармат – слабый не способен крошить стены и уничтожать в одиночку княжеские дружины. Но он плут и убийца, вор и многоженец, который под конец года вновь становится вдовцом. Существо, изуродовавшее то, что Малике было дорого.
Хоть бы ей хватило сил не вцепиться ему в глаза. Пока – нет, нельзя, не время. Малика криво усмехнулась в зеркало: Хортим бы гордился ей. Слабый, осторожный, отверженный брат – он всегда был терпелив и вежлив.
Малика почти по нему скучала.
Каменные девы марлы расчесывали ее волосы, и княжна смотрела то в зеркало, то на свои лежащие перед ним руки. Правое запястье оплетал красный шнурок с бусиной – Малика взяла его из сундуков, потому что его цвет был точь-в-точь как гуратское знамя. Светлый, алый с рыжиной. Когда пальцы марл трогали ее виски, Малика не дергалась, лишь касалась ладонью шнурка. Она привыкала к перекошенным каменным девам достаточно, чтобы к ее щекам прилила отхлынувшая кровь, но не могла успокоить тревожно бьющееся сердце. Стук, стук, шорох – это уже не гребень. Это мягкий сапог, опустившийся на ковер.
Впервые Малика увидела его в зеркало. Семь рыжих кос, кольцо в носу, мягкая щетина. Узорный кушак, обхватывающий стан поверх дорогой рубахи, медь и золото одежд. Марлы за ее спиной испуганно рассыпались в сторону – настолько быстро, как могли их каменные тела, и застыли, будто изваяния, у стен чертога. Этот чертог переливался оранжевым топазом – очень маленький и уютный, хорошо натопленный, с тукерскими коврами, пахнущими чем-то пряным. Словно созданный для того, чтобы обряжать в нем невесту.
Малика медленно поднялась с обитого тканью низкого кресла. Она была в одной длинной исподней рубахе, бледно-желтой, с бронзовыми кольцами шитья по вороту, подолу и рукавам. Из украшений – лишь шнурок с бусиной на запястье. Клубы густых волос лились по спине Малики – княжна выпрямилась в полный рост, расправив округлые плечи.
Мужчина, прислонившись к косяку, поскреб щетину на шее.
– Прежде всего я должен извиниться.
Голос у него был глубокий и гулкий, словно поднимавшийся из горнила вулкана.
– Видят боги, – он коснулся груди пальцами, – я не хотел этого делать. – Мужчина подался вперед, лениво отлипнув от косяка. Ковер шуршаще отозвался под его шагами. – Я любил Гурат-град и восхищался им немногим меньше, чем своим Халлегатом. Мне очень жаль, Малика Горбовна.
Он знал ее имя. Кто рассказал ему о нынешнем правителе Гурата и его детях? Какая-нибудь степняцкая девушка, готовая целовать ему ноги? Тукеры любили Сарамата-змея, о да, любили. Если верить легендам, он тоже был неравнодушен к их культуре и быту.
– Я могу сказать, что твой отец вынудил меня, и не солгу – но что говорить? Былое не вернешь.
Марлы сгорбились у стен. Сармат подошел к Малике на расстояние вытянутой руки, а девушка даже не шелохнулась.
– Так Сармат – это ты? – Горло у княжны пересохло, и она сказала фразу так, будто выплюнула горсть песка.
– Звучит как оскорбление. – Он широко улыбнулся, обнажив просвет на месте одного клыка.
У чудовища, разрушавшего Гурат-град, не хватало исполинского зуба.
Сармат приблизился еще на несколько ленивых шагов – потрепал переплетение кожаных шнурков, почти таких же, как у Малики, на собственном запястье. Браслет кочевников с письменами и бусинами.
– Болтают, видеть жениху лицо невесты перед свадебным обрядом – к несчастью. Но это глупость, разве нет?
Малика не отвечала. Лишь, вскинув голову, глубоко выдохнула: расширились ноздри. Черный цвет глаз слипся до сажи. Больше Сармат не двигался, только разглядывал ее, и не так, как мужчина мог бы смотреть на молодую женщину, стоявшую перед ним в одной рубахе. В его глазах не было ни похоти, ни страсти, ни желания обладать – лишь любопытство и очарование моментом. Отсвет пламени в очаге ударялся о волны топаза на стенах, рассеивался над коврами и зеркалами, сундуками и каменными фигурами марл. Его блеск танцевал на руках и волосах Малики, скользил по ее лицу.
– Дурная примета, – хрипло сказала княжна, – если муж убьет жену перед летним солнцеворотом.
Она вскинула подбородок, сжала губы, а Сармат негромко и тепло рассмеялся.
– Малика Горбовна, Малика Горбовна. – Он по-кошачьи повел плечами. – Я отношусь к красоте трепетно. Я люблю то, что рождает мир, и то, что рождают в нем люди. Сожжение Гурат-града – даже это было красиво. – Малика дернулась, будто ее ударили по щеке. – Прости, но мало когда я видел зрелище более великое. Всполохи пламени в пряной гущине степной ночи. Высверки огня на саблях и наконечниках копий и стрел. Гуратские соборы во всепоглощающем свете – они были чудовищно, страшно хороши за мгновение до гибели. А когда глазурь на куполах горела, то разлеталась снопами брызг – ее орнамент вспыхивал киноварным, и синим, и желтым с зеленым, прежде чем начинал чернеть. А колокола на башнях звенели, и их отстукивающий от неба гул был почти различим глазу…
Выдавить бы ему его темные с прожилками глаза, чтобы они больше никогда не знали такого наслаждения.
– Однако, – Сармат развел руками, – я уверен, что пройдет время, и Гурат-град станет еще краше, чем прежде. Не я первый его сжег, и не твой род его первым восстановит.
Да остался ли в ее роду кто-нибудь, способный поднять Гурат из пепла? Один Хортим, и Малика верила в него, но все же брат был слишком далеко.
– Я рассказываю, чтобы ты поняла, княжна: я могу разрушать, но все же ставлю красоту превыше налетов. Могу ли я убивать? Да, конечно. Могу ли я убивать женщин, которыми любуюсь? Нет.
Он резво шагнул к ней и осторожно коснулся волос.
– И тебя я не убью, Малика Горбовна.
Прежде чем девушка могла бы его оттолкнуть, Сармат развернулся и щелкнул пальцами, заставляя марл пробудиться.
– Обряжайте драконью невесту, – приказал он весело. – Ночь будет длинной, но не настолько, чтобы тратить ее попусту. И подайте княжне мой подарок – да поживее!
Сармат ушел, а марлы обступили Малику кругом, опустили ее на низкое кресло и поставили на колени тяжелый медный ларь. Пока ее заплетала дюжина каменных пальцев, Малика ватными ладонями подняла крышку: на оранжевом бархате лежал массивный золотой венец. Высокий, словно бы кружевной. Сейчас от венца спускались две крупные подвески – в остальном же он был таким, каким Малика его помнила. Княжеский венец, гуратский, некогда украшавший головы ее предков.
Ложь. Глаза подернуло мутной поволокой. Гурат-град сгорел, и все его золото расплавилось. Говорят, дракону прислуживают легендарные кузнецы – в их силах сотворить подделку. Мед и отрава – он ли не лгал, когда говорил о мертвых женах? Верить Сармату-змею – мало толку, об этом учит любая сказка.
Малика не догадывалась, что в этом Сармат был искренен. Он не убивал ни одну из дев, лежащих в хрустальных домовинах под Матерь-горой, – это по его просьбе делал Ярхо.
Заплетая княжну, марлы начали тихо и утробно петь.
Назад: Хмель и мёд IV
Дальше: Песнь перевала VII

