Книга: Мир, который сгинул
Назад: Глава XII Совет мудрецов; игры Джима и Салли; Безумный Джо Спорк и Песочница Правды
Дальше: Глава XIV Изучение Системы; бумажный след и мистер Крабтри; мне надирают задницу
Глава XIII
Математика любви; пчелы добра и зла; Гонзовы раны
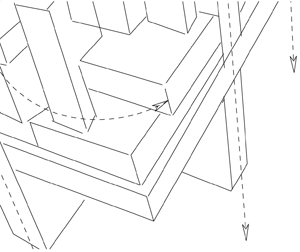
Я даже не учел, что на дворе ночь. Дом спит. Я стою между двумя медными фонарями у входа на закрытую веранду Любичей, слышу, как в коридоре тикают часы, и понимаю, что уже поздно. Они решат, что дело срочное. Надо вернуться завтра. С другой стороны, я уже их разбудил. Слышатся осторожные, тяжелые шаги Ма Любич по ступеням, а следом – топоток Гонзова отца. Старик Любич носит тапочки с замшевой подошвой, аккуратно облегающие ступню. Его жена круглый год ходит в сандалиях, потому что ее ногам слишком жарко в меховых тапочках, привезенных сыном в подарок из Джарндиса. В холодную погоду она надевает шерстяные носки, и ремешок сандалии плотно обтягивает тканью (огромный) большой палец. Не очень качественные носки быстро рвутся по шву или протираются на ногтях, поэтому Ма Любич часто берет купленные и пришивает к ним нижнюю часть собственного производства: лодыжку греет скучный серый носок, а ступню – буйство красок, остатки дюжины распущенных свитеров.
То ли в этом году Ма Любич стала чувствительнее к холодам, то ли время года выдалось суровое, но именно такой носок я вижу в приоткрытую дверь: нога с буханку хлеба в костюме Деда Мороза, а за ней вторая, с фиолетовыми пальцами и зеленовато-желтой пяткой. Медные фонари загораются, и низкий подозрительный голос спрашивает: «Кто?» (Вернее: «Хто-о?») Я вдруг сознаю, что мне стыдно поднять глаза. Почему стыдно – неясно, но сам факт моего существования будет для них большим ударом. Однако я пришел и жду поддержки, сострадания или даже каких-нибудь сведений о Гонзо и его планах, не имея на то никакого права. Но, опять же, дом Любичей – мое единственное убежище. Только здесь мне продезинфицируют ссадины или угостят тостом после падения в речку. Да, я чудовище, но что поделать? Это мой дом.
– Кто там? – настойчиво переспрашивает Ма Любич. – У меня муж дома! – добавляет она на тот случай, если я собираюсь посягнуть на ее честь. – Он позаботился о моей безопасности!
Уверен, она не лукавит. Старик Любич непременно защитит жену посредством грубой силы или какого-нибудь хитроумного приспособления. Быть может, медные фонари подсоединены к электросети, и в любую секунду между ними проскочит молния. Или старик обзавелся ружьем. Времена сейчас тяжелые, Криклвудская Лощина наверняка повидала немало мародеров и всякого прочего.
Пристыженный, я молча свешиваю голову. Надо бежать, зря я сюда пришел. Путь к позорному отступлению в темноту открыт, и спастись бегством было бы не так ужасно, как сказать этим людям: я – плод воображения и скорби вашего сына, я вырос и пытался присвоить его жену, меня застрелили, но я все равно явился в его дом, чтобы свести счеты (а именно об этом мне стоит задуматься в свете последних открытий). Куда проще выпалить извинение – мол, ошибся домом, уж простите, малость перебрал, – и исчезнуть навсегда. Я бы мог поселиться с Найденной Тысячей, среди своих. У них наверняка найдется местечко для человека с вымышленным прошлым.
Однако что-то стряслось с моими ногами. Их словно приклеили к земле. Быть может, так действует охранная система старика Любича – если не объяснюсь, меня сразит очистительный электрический огонь. Я все еще жив. Могу поднять одну ногу. И вторую. Даже попрыгать. (Чудесно! Я продолжаю безумствовать, на сей раз перед родителями Гонзо. Отлично придумал.) Но попятиться я не могу. Вернее, не стану. И это необычайно интересная мысль: я не скроюсь в темноте. Подниму голову. Меня увидят.
И меня видят. Я смотрю в лицо старику Любичу, пока он проталкивается к двери через жену (для этого нужны обе руки). Трудно сказать, кто из нас больше поражен.
Отец Гонзо не столько состарился, сколько обрел рельефность. Его кожа складывалась, раскладывалась и перегибалась столько раз, что стала почти гладкой. Глубокие разломы пролегли вокруг рта и глаз. Его лицо – это вода и скалы, книзу густо поросшие лишайником. Я изучаю старика Любича, он рассматривает меня. Широко открывает глаза, затем щурится: узнавание, смятение, подозрение. Я подаюсь назад и уже наполовину разворачиваюсь, пока меня не успели прогнать, но тут старик выкидывает вперед сучковатую руку и крепко смыкает пальцы, испытанные поколениями пчел, вокруг моего запястья. Он останавливает меня и тянет к себе, касается раз, второй, точно собирает пыльцу; наконец кладет руку на плечо и ставит меня поближе к медному фонарю. Разглядывает со всех сторон и, ничуть не смущаясь, теребит щеки. Затем он с силой давит мне на плечи, вынуждая либо нагнуться, либо оторвать старика от земли. Я нагибаюсь, и он трогает мое лицо, словно лепит. Кожа у него как оберточная бумага. В конце концов он пятится, завершив осмотр, но по-прежнему не представляет, что думать или делать. Он обращается к жене: «Йэ-ле-наа?» Ах да, так ее зовут: Елена Любич. Она фыркает: «Ненормальный!» и отходит в сторону.
– Входи, – говорит Ма Любич.
Она не спрашивает, кто я и зачем явился. Помимо прочего, я просто молодой человек, попавший в скверное место, и течение прибило меня к ее берегам. Елена Любич не уклоняется от ответственности – но и не принимает решения, основываясь на коротком осмотре у крыльца, между качающимися фонарями, среди ночи. «Входи», – повторяет она уже тверже, потому что я стою с разинутым ртом, точно пес, не могущий понять, куда ему больше хочется – к теплому камину или в сад. Ма Любич не выдерживает и цокает: этот звук в ее исполнении означает, что все мужчины – идиоты, а молодые люди и подавно (Господь наказал ее вечно молодым мужем). Она хватает меня за рукав, приложив лишь малую толику своей силы, и решительно тащит через порог. Новый запах: меда, угля и мебельного лака. Не противный, но крепкий.
– Поставь чайник, – говорит Ма Любич.
Лишь оглядевшись по сторонам и не заметив нигде старика Любича, я понимаю, что обращается она ко мне.
Старый железный чайник, как и прежде, висит над плитой, похожий на добродушную летучую мышь. Этот чайник творит чудеса, неизменно снабжая хозяев водой для готовки, мытья, лечения людей и иногда животных. В то же время он представляет опасность. Не очень серьезную, но коварную и болезненную. На кухне Ма Любич нет мест, где его можно охладить. Он либо стоит на плите, когда им пользуются, либо висит над ней, в следствие чего возник особый порядок снятия чайника с крючка. Порядок этот неписан. Он просто есть, и я следую ему, не задумываясь.
Сперва проверь, нет ли под ногами игрушек, животных и малых детей. На всякий случай обернись – нет ли желающих сбить тебя с ног. Далее: сними с потайного крючка за плитой ветхую салфетку (стеганую и набитую песком и глиной), обмотай руку. Убедись, что никто (Гонзо, к примеру) не подвесил чайник с водой, повтори шаг первый и, не ставя чайник на плиту (если холодная вода попадет на раскаленное железо, она брызнет на тебя), наполни его водой из-под крана. Осторожно: не лей слишком много, а то уронишь. Поставь чайник на плиту. Наконец, повесь ветхую салфетку на крючок, чтобы следующий пользователь знал, где она.
Дело сделано. Ма Любич наблюдает за мной из-за пухлых щек. Я замечаю, что даже лоб у нее толстый.
Ма Любич говорит «хех» или «нхех», давая понять, что я не нарушил заведенного порядка. Потом она гонит меня из священных покоев в коридор и велит идти в гостиную, где ее муж растопил камин. Я медлю. Она вновь прогоняет меня и начинает свой трехфазовый разворот на месте.
Мы посидели в тишине. Подумали друг о друге и о том, что предрекает наша встреча. Посомневались, сколько могли. В итоге я просто спросил про Гонзо: давно ли его видели. Старик Любич вздыхает и чувствует в воздухе запах бури. Возможно, он чувствовал его уже давно.
– Они с Ли недавно приезжали, – говорит старик Любич. – Елена была так рада. Явились, как гром среди ясного неба, и спали в гостевой спальне. Зачем? Я всегда задаю себе этот вопрос. Они ждут ребенка? Деньги у них точно есть. Ищут жилье? Нет. У Гонзо новая работа, так он сказал. Особенная. Он делает мир лучше. Безопаснее. Он был очень горд собой. Но за гордостью что-то скрывалось. Что-то плохое.
Отсветы пламени рисуют зигзаги на горных хребтах его лица. Старик Любич тянется к огню. В комнате пахнет сосновым дымом.
– Из Гонзо вышел бы никудышный дипломат. Он не может думать одно, а говорить другое. Он не умеет лгать матери, потому что любит ее, и не умеет лгать мне – я не говорю, что он меня не любит, просто так уж повелось между матерями и сыновьями, а между отцами и сыновьями повелось иначе. Я – прозорливый старикан, и лгать мне он пока не научился. Гонзо лгал всем своим существом. Почти орал: «Все замечательно, все прекрасно, смотрите, как я счастлив и непринужден!» Ха.
Старик Любич берет кочергу и поправляет дрова. Он начинает осторожно, слегка подталкивая отбившееся полено к огню. Полено круглое, изогнутое, как банан, и постоянно откатывается назад. Старик Любич толкает сильнее. Кочерга соскальзывает, полено замирает на месте и вновь катится в сторону. Он принимается яростно тыкать и молотить кочергой, пламя опасно искрит. Я терпеливо жду, пока старик Любич успокоится и уберет кочергу на место. Затем он продолжает:
– На руке у него была повязка, грязная по краям – старая повязка. Синяки и ожоги. Ли начала ее снимать. Нежно, аккуратно – как она сама. Гонзо разозлился. Он вообще был очень зол, и напуган, и пристыжен. – Старик Любич задумчиво умолкает. – Гонзо достойный человек. Мы с детства втолковали ему правила, что хорошо и что плохо, и он все понял. Маркус… – Он запинается на непривычном имени. – …Маркус тоже учил брата жить правильно. Поэтому в его злости не было насилия. И он не сдерживался, понимаешь? Гонзо не может вдруг вспылить и ударить любимого человека. – Оно, конечно, правда, вот только шрамы на груди говорят мне о другом, хотя Песочница Правды радикально изменила мои взгляды на стрельбу и выбрасывание из грузовиков. – В общем, Гонзо страдал от гнева и ужаса, не зная, что с ними делать. Он был весь такой спокойный, но губы его выдавали. Я думал, его стошнит, или он заорет. А он просто сидел, как деревянный, в кресле – в этом кресле… – Старик Любич показывает на самое обычное кресло с вельветовыми подушками. – …И очень тихо попросил Ли сделать это в другой раз. Она так быстро отдернула руки… Лучше бы он заорал. Так было бы проще. Повязка выглядела старой, Ли уже пыталась ее снять. Она не знала, почему он так противится. Как он поранился? Обжегся? Порезался? Что значит для него эта рана? Она понятия не имеет и боится спросить. Может только предлагать свою помощь и мириться с отказом и пробовать вновь. Когда-нибудь это ее убьет.
А Гонзо… боится ее доброты. Она словно ломает его решимость. Он боится любви, потому что недостоин ее. Ему очень стыдно. И он зол. Ужасно зол на эту рану, будто не заслужил ее, и, как ребенок, он не понимает, в чем дело. Новая работа все исправит. Он опять станет хорошим. Чистым. Все плохое сгинет.
Ма Любич ставит рядом со мной чай; при желании она может двигаться бесшумно, как кошка. Ма Любич замечательно приспособилась к самой себе. Лишний вес придал ей силы и одновременно изящества. Чай она заварила с дымком: уже за полночь, и нам нужен резкий вкус, немного смягченный каплей молока. В этом доме только Ма Любич решает, каким чаем тебя угостить. Судя по обстановке, она заваривает дарджилинг, лапсанг сушонг, ассам или пеко, не жалея молока и сахара. Чашки она тоже выбирает с умом: маленькие для жаркого летнего дня и большие, с толстыми стенками для зимы. Сегодня мы пьем из незнакомых мне чашек, густо покрытых треснувшей глазурью, под которой виднеется терракота. Чашки для крайней нужды, на черный день.
– Я разговаривал с Джеймсом. – Старик Любич имеет в виду Джима Хепсобу. Он не признает сокращений, и Джим для него всегда Джеймс, как будто его недюжинную силу нельзя уместить в коротеньком прозвище. – Вернее, пытался. Он был так любезен, болтал о пустяках. Выходило у него очень плохо. Он передал трубку Салли. Вот кто умеет лгать. Она мастер недомолвок, полуправд, экивоков и изворотов. Салли была очень весела. И несчастна. – Старик Любич вздыхает. – А теперь пришел ты. С таким лицом, явился среди ночи… Прямая их противоположность. Хочешь убежать, будто тебя травят. Будто ждешь, что тебе дадут от ворот поворот. Но ты не сделал ничего дурного и всем сердцем в это веришь. Ты не виноват, но зол. Почему? Кто ты? И зачем пришел? Секретов хранить не собираешься. Если хотел солгать, мог бы просто пройти мимо. Словом: что сделал тебе мой сын? Почему он бежит так далеко и так быстро?
Прямо я ответить не могу, но в этом и нет нужды. Время в гостиной остановилось. Огонь будет гореть вечно: старик Любич подкладывает еще одно полено, смола шипит, дымит и загорается. Чай не иссякнет никогда. Я в самом сердце мира и в безопасности. Собираюсь с мыслями и выкладываю свою историю. Я не пытаюсь отделять свои воспоминания от Гонзовых или судить о том, что происходило на самом деле. Прошлое – это память, и нет на свете двух людей с одинаковыми воспоминаниями. Я знаю свое прошлое и рассказываю о нем так, будто оно мое. Ничего не утаивая о миге своего истинного возникновения. Никаких уверток. Ясно даю понять: я – тень Гонзо, его вымышленный друг, обретший плоть и кровь. Я новый.
Ма Любич распахивает глаза и подается назад, рычит. В следующий миг она осторожно тыкает меня жирным пальцем, внимательно наблюдая, что будет. Ничего не происходит, и она вновь устраивается в кресле. Старик Любич кивает, словно до него только сейчас дошло очевидное. Никто особо не огорчается при мысли о том, что у них в доме раздвоенный.
– Я чудовище, – на всякий случай поясняю я.
– В самом деле? – осведомляется старик Любич.
– Да.
– И что чудовищного ты натворил?
Ну, откровенно говоря, ужасных преступлений я не совершал. Да, я участвовал в Сгинь-Войне. Но то же самое делали и обычные люди. Гонзо.
Я высказываю предположение, что быть чудовищем – скорее факт, нежели действие, и старик Любич отвечает: «Ха!»
Поскольку им больше нечего добавить на этот счет, я продолжаю свой рассказ.
Ранним утром на Аггердинском утесе холодно. С океана дует влажный ветер, воздух пропитан солью и запахом водорослей. Волны едва плещут, скользкие, цвета неба, – не прячься за тучами белое солнце, горизонт было бы невозможно найти. После теплых красок гостиной мир предстает в монохроме. На старике Любиче нелепая меховая шапка, куда больше смахивающая на крысу, чем мне запомнилось. Ма Любич шапку не надела, зато обмотала шею твидовым шарфом, прикрывающим мочки ушей. На ней теплое пальто цвета горохового супа. В солнечных лучах, изредка пробивающих тучи, она сияет золотом, и в эти минуты видно, какой красивой она была, да и остается. Мне приходит в голову, что именно такой старик Любич всегда видит свою Елену.
Сначала мы долго разглядывали сквозь двери дом на Аггердинском утесе. Я предложил войти, но, открыв дверь, подумал, что это будет бессмысленное вторжение. Я теперь должен показать им дом и вещи, которых никогда не было? Вот тут я не спал? А вот здесь мама не готовила мне завтрак на несуществующей плите? Такого желания у меня не было, и у Любичей, по счастью, тоже. Я отвел их к песочнице и показал, как мы играли. Здесь сидел Гонзо. А вот там стоял фургон с мороженым. Вы были тут. Да, конечно, Ма Любич прекрасно помнит тот день – каждый день того страшного месяца, во всех подробностях. Я разравниваю песок, и она кивает. Да, именно так играл Гонзо. Со мной. Она улыбается, вспомнив давнюю любовь и давнюю боль.
Над Криклвудской Лощиной небо еще темное. Это мои улицы. Они пока в тени, но уже проступают силуэты зданий, и сквозь окна видно, как ранние пташки чистят зубы и бродят туда-сюда по комнатам. Мы прибавляем шагу, потому что нас начало угнетать молчание. Воздухом мы уже надышались, теперь надо делать выводы. И завтракать, конечно. Через полчаса проснутся пчелы, следом – вся Лощина, и меня начнет искать Айк Термит.
В коридоре опять стоит этот запах зимнего камина и нектара, и в горле застревает горький ком. Еще чувствуется животный душок, может псины. Не удивлюсь, если Ма Любич приютила у себя бродячего пса-людоеда. (Так и вижу, как она треплет огромную лохматую голову и муштрует зверя звонкими щелчками по большому черному носу. «Ну-ка! Нельзя кушать! Нельзя кушать гостей! Только игра-а-ать… Где мой хороший песик? Вот он где!» Пес крутит головой и виляет ободранным хвостом, изъявляя полное согласие быть вечным слугой Ма Любич в обмен на ее веру – совершенно невероятную и распространяемую на всех – что доброту можно найти в каждом, если не пожалеть пирожка и дружеского слова.) Но нет, у неуловимого аромата другой источник. Быть может, так пахнет сам дом: влагой, старой мебелью и хорошей едой.
– Ты пришел за ним, – резко говорит Ма Любич.
Я опять сижу в кресле у камина, и мне только что подали свежий холодный сок и хрустящий бекон. Такой бекон можно засунуть в рот, как карамель, или проложить между кусочками ржаного хлеба. Если запивать его ассамом с кипяченым молоком, то вкус чем-то похож на ирис.
– Не знаю, – отвечаю я.
Ма Любич цокает. Она уже привыкла, что люди ничего не знают. На то она и нужна: знать все за них, пока они не узнают сами; ворчать и брюзжать, пока они не включат мозги и не сообразят, что к чему.
– Ты пришел из-за того, кто ты и кто он, разумеется. И ты знаешь, чем он сейчас занят.
Нет, понятия не имею. С другой стороны, отлично знаю. Гонзо сейчас делает что-то важное и глупое, начинает жизнь с чистого листа. С помпой, фейерверками и фанфарами реабилитируется перед миром. Геройствует. Но его некому спасти, когда он даст маху. Гонзо действует в одиночку. Ему нужна помощь. Ему нужен взгляд со стороны.
Кем бы я ни был, друга в беде я не брошу. Я по определению другой человек. По определению Гонзо. Я мог бы стать иным, но не хочу. Знавал я таких – они мне не нравятся.
Я выдал свои чувства – жестом ли, выражением лица, вздохом. Старик Любич кивает и издает свою версию фирменного цоканья Ма Любич – что-то вроде «хинхф».
– Он теперь работает в городе, – говорит старик Любич. – За ним пришли. Большие начальники, собственной персоной. Он очень обрадовался. Возгордился. Нехорошо вышло. Елена огорчилась. Гонзо не нужны такие люди, чтобы поверить в себя. Оказалось, нужны. Без них он как тряпочная кукла. Ли тоже огорчилась. Она не сказала, почему, но дело было в новой работе, конечно. Ее покоробило, о чем те люди просили Гонзо. Она расстроилась, потому что он согласился.
– На опасное задание?
– Да, но не только опасное. Плохое.
Тут терпение Ма Любич заканчивается. Мужские разговоры излишне подробны. Она шлепает мужа по руке, чтобы он замолчал.
– Ты должен помочь моему сыну, – говорит она. – Ты всегда ему помогал, в этом твоя суть. Потом у вас будет время на отдых. Сможешь злиться на него сколько угодно. Но сейчас это не имеет значения. Ты нужен Гонзо.
Ма Любич разбирается в математике любви. Любовь безжалостна. Любовь не знает цен, ей важна лишь ценность. Я пришел сюда из-за любви к двум людям, которых на самом деле ни разу не видел. Я не ждал, что они меня признают и ответят теплом. Не ждал, что обрету в этом доме семью и все причитающиеся обязательства. Я сделаю то, что делал всегда: найду Гонзо и спасу его от самого себя. Несмотря ни на что, буду ему другом. Где же он сейчас? Осуществляет вражеский план.
«Премило устроился, Пентюх. Само воплощение шарма и личностного роста. Но давай все-таки вернемся к вопросу «cui bono?». Ты тут устраиваешь групповые обнимашки, а твой недруг – назовем его Злым Разумом, чтобы в твоем тараканьем мозгу все прояснилось, – не дремлет и строит мерзкие козни, лежащие в основе всякого хаоса и смертей. Я прав?»
Да, Ронни.
Одновременно с этим пониманием ко мне приходит другое, еще менее отрадное. Я стою. Мои глаза бегают из стороны в сторону, руки и ноги легки. Что-то неладно. Я прислушиваюсь. Вот оно: тишина неполная. Это промежуток между двумя еле слышными звуками. Опять. Та… па… [тишина] Та… па…[тишина]… Шаги, очень тихие.
Я отставляю поднос с завтраком, макаю пальцы в жир от бекона и смазываю им дверные петли. Тише, не торопись. Слушай… вот так. Этот человек не в коридоре. Он – или она – наверху. Еще шаг… давай, самое время открыть дверь. Она беззвучно отворяется, смазанная жиром и другими, более привычными маслами – старик Любич не запускает дом. Я прокрадываюсь в коридор. На кухне полно безобидных предметов домашнего обихода, из которых выйдет отличное оружие. Надо было спросить старика, что за охранную систему он придумал. Может, это просто палка. Большая палка мне бы сейчас не помешала.
Кухня расположена в северной части дома. Там еще темно. В коридоре светло. Живее!
Дверь кухни. Открывай. Входи.
Мимо пролетает пчела – сверкающая железная пчела с острыми крыльями. Как и всякая другая пчела в истории, она убеждена, что волшебным образом пройдет сквозь стекло. В отличие от остальных, она права. Стекло разбивается. О нет, это не пчела старика Любича. Какой-то другой вид. Стекло крошится. Я продолжаю движение – верней, мое тело продолжает: оно уворачивается, плавно и хладнокровно, подается в одну сторону, в другую, моя рука отталкивается от дерева, и я перепрыгиваю кухонный стол. Прочной и основательной конструкции нет до этого никакого дела. Мимо летят другие пчелы, явно чем-то взбешенные. Одна из них ведет себя очень плохо и вгрызается в дверь кладовки. Пчела диковинная, с пятью острыми лезвиями. Пчела-сюрикен, редкий вид. Крайне редкий и необычный. Пять лучей вокруг основания, можно метнуть ее, как фрисби или игральную карту. Убить ею. В сущности, это орудие убийства. Мое тело по-прежнему двигается; выдираю пчелу-сюрикен из двери и швыряю ее в обратном направлении, ускользаю от других, летающих по темной кухне. Настоящие пчелы нипочем не стали бы так себя вести: они любят свет и солнце. Пчелы старика Любича всегда крутились вокруг фонарей и ламп дневного света. А эти – злые жители ночи. Берегись злой пчелы. Я и берегусь. Но вечно прятаться от них я не могу, равно как и оставить родителей Гонзо наедине со Злым Пасечником.
В коридоре мелькает темный силуэт. Плохой ниндзя! Тебя заметили! За такую промашку учитель поколотит тебя бамбуковой палкой! Если сперва ты не попадешься мне. Швыряю в него медную кастрюлю и вновь прячусь за доступное укрытие. В данном случае доступное укрытие – это стена кухни. Таким образом, ниндзя теперь знает, что я так или иначе должен пройти в дверь. Он решит, что я появлюсь слева или справа. Жду. Тишайшие шаги – один, два. Намеренно слышные. Враг приглашает меня поиграть. Выйди слева, и, быть может, он ошибется и не успеет среагировать. Хо-хо-хо! У него есть какое-то оружие, острое. Он держит его горизонтально. Неважно, с какой стороны я выйду, – попадусь в любом случае. Не играй с домом, дом всегда побеждает.
Это мой дом.
Я делаю шаг назад, отталкиваюсь от края кухонного гарнитура и хватаюсь за дверные косяки. Проскальзываю в проем примерно на уровне глаз, ногами вперед, держась одними руками. Притолока едва задевает волосы. Пасечник весь в черном и в пыльце, потому что на второй этаж он забрался по шпалерам, увитым цветами. В руках у него грозного вида штуковина с острыми стальными клювами на концах. Мои ноги пролетают над ней и бьют ниндзя в грудь, он пошатывается. Я неуклюже приземляюсь, пытаюсь вернуться на кухню. Ниндзя резко вскакивает. Жаль, у меня нет под рукой «Таппервера». На кухне нашлась бы парочка, но это далеко.
Проклятие.
Ниндзя не убивает меня лишь потому, что недооценивает, как сильно у меня кружится голова после падения на старую кожаную стойку для зонтов. Тупой край штуковины бьет меня по плечу. Белый свет. Боль. Дурак, ты дерешься как Гонзо! Не вполне уверен, чей голос произносит эти слова, но он совершенно прав.
Ниндзя взмахивает штуковиной и наносит удар сплеча. Я откатываюсь. Моя рука безвольно повисает. Она не сломана, просто отключилась. Значит, в моем распоряжении только левая. Не торопись. Успокойся. Подумай. Он силен, а я опытен. Мой единственный враг – это время. Единственная угроза – страх. Сад мастера У, бесконечные занятия. Молчаливое одобрение Элизабет Сомс, вытаскивающей меня из пруда. Опять взмах штуковиной. Я шагаю вперед. Все мои конечности на месте. Штуковина с лязгом отлетает в сторону. Локтем бью ниндзя в нос, он бьет в ответ, и мы выкатываемся на улицу. Настоящие драки неприглядны. Лишь истинные мастера дерутся без видимых усилий. Я – не истинный мастер. Ниндзя тыкает меня в глаз. Мастер У бы жутко огорчился. Это никуда не годится. Я не в состоянии найти у себя в голове тихий уголок, чтобы драться с достоинством. Полегче, это мой первый бой!
Нинздя наносит второй удар и встает в защитную стойку, раздумывая, как меня убить. И тут раздается весьма характерный звук: БАЦ-ШКРрыч-хрусть-хрусть.
Ниндзя совершенно неподвижен. Он тоже издает звук – тихий и печальный, как детский упрек. И падает ниц. За ним оказывается Айк Термит с доской в руках.
– Я все правильно сделал? – спрашивает Айк. – Он на тебя напал. Вот я его и шмякнул. – Он помахивает доской, из которой торчат два гвоздя. К стене дома, готовые к использованию, прислонены запасные доски для забора. Подозреваю, старик Любич хотел использовать их иначе. – С ним все будет хорошо? Я ведь только хотел его вырубить.
В голове ниндзя две большие дырки, из которых лезет белая пакость. Он весь трясется.
– Я просмотрел все доски, – весело говорит Айк Термит. – Бог мой, сколько их там было! Никак не мог выбрать. А потом подумал: какая на фиг разница, чем его вырубать? Но разница, видно, была. Да? Из этой торчат гвозди…
Ниндзя затихает. В воздухе довольно сильно пахнет кровью.
– Мамочки! – говорит Айк Термит. У него на ботинке мозги. – Какая досада. – Он роняет доску и теряет сознание.
Мою жизнь спас мастер физического театра. Плохо дело. Увы, это еще не самое плохое в моем положении. Выясняется, что у покойника есть пять друзей – или, по меньшей мере, коллег – и сейчас они стоят в азалиях.
Ма Любич выплескивает из окна гостиной ведро мебельного лака. В основном попадает на Айка Термита, но и мне достается немало. Если это была попытка разбудить Айка и выпустить на свободу его чудовищные Мимские Силы, она провалилась. Айк лежит. У меня на брюках медовая дрянь. Если придется драться – а придется в любом случае – я буду весь липкий. Тут раздается на удивление невозмутимый и полный достоинства голос:
– Минутку вашего внимания, пожалуйста, – говорит старик Любич. – Вы на частной территории. Вас сюда не звали. Вы причинили ущерб моему дому. Я бы попросил вас уйти.
Пять ниндзя удивленно смотрят на него. Я тоже. Любич стоит рядом с ульями. Вернее, рядом с большим черным ульем, который он строил, когда я последний раз приезжал в Криклвудскую Лощину. Улей высокий, причудливой формы, остальные же – аккуратные белые домики. По всей видимости, отец Гонзо убежден, что этот улей представляет некоторую опасность.
Ниндзя так не считают. Они делают шаг вперед. Старик Любич пожимает плечами и открывает крышку улья. Затем, демонстрируя, что на старости лет он окончательно выжил из ума, дает улью крепкого пинка.
Из улья доносится низкий харли-дэвидсоновский гул. Очевидно, там обитает пчела-мутант. Отец Гонзо вырастил единственную свирепую пчелу в человеческий рост и с острыми, как бритва, зубами. Сторожевую пчелу. Даже ниндзя замирают на месте. Ближайший стоит в восьми футах от меня и Айка Термита. Всем своим видом он дает понять, что не хочет драться с гигантской пчелой.
Старик Любич опять пинает улей. Тот взрывается.
Не совсем взрывается, конечно, но по виду очень похоже на взрыв. Раздается такой шум, словно на небесах началась война. По небу пробегает черная тень, будто наступает конец времен, и вскоре эта тень покрывает всех нас: тысячи легчайших касаний, точно дождь из мелкой гальки. Пчелы садятся, налетают, пробуют.
Остального я не вижу. Пчелы – по всей вероятности, африканизированные Megachile pluto – благодаря медовому запаху принимают нас за сородичей (пусть бестолковых и выглядящих как-то чудно). Ниндзя в их глазах – агрессоры, с которыми надо разобраться. Прежде чем их настигает пчелиная месть, они видят, как старик Любич в облаке крупных, длиной в дюйм, насекомых, шагает им навстречу с садовыми граблями в руке.
– Вы хотели обидеть мою жену, – говорит он сквозь жужжание пчел.
Но когда я отворачиваюсь (смерть от пчелы – не самое приятное зрелище, а смерть от грабель немногим лучше), то вижу не его жену, а свою.
Ли пряталась наверху, между гостевой спальней и сушильным шкафом. Ложная стена образует коридор, который ведет в маленькую комнатку под свесом крыши, похожую на мансарду художника. Старик Любич построил ее в пору Овеществления. Они с Ма Любич укрывались там от бандитов, а потом, когда негодяев прогнали и в городе повисла неопределенность, прятали там одного молодого человека. Сейчас Ли делит убежище с кошачьим семейством, въехавшим туда нелегально. Говорит, кошки поселились тут первыми. Они ей нравятся. Ли скучает по собаке, но собака теперь с Гонзо. Он уехал, а Ли оставил здесь, потому что с ним опасно. Так что теперь она живет вместе с Джокондой (кошкой-мамой), Подсолнухом, Нимфеей, Поклонением (сокращенная кличка от Поклонения Волхвов) и Блохой. Ли хотела назвать всех котят в честь известных картин, но потом поняла, что помнит не так уж много названий. Блоху зовут Блохой, потому что она умеет прыгать вертикально вверх. Ей тут ужасно скучно (Ли, не Блохе), но Гонзо сказал, что здесь она будет в безопасности. От кого, непонятно. Он ничего не объяснил. По утрам кошки ходят ей по лицу. Должно быть, вид у нее кошмарный.
– Ли… – говорю я, но она еще не закончила, ей нужно так много мне сказать, столько важного.
Она умолкает, потом начинает заново. В мансарде по ночам страшно холодно, и Ли даже рада кошкам, а им она нужна для защиты от сов. Совы представляют большую угрозу для котят. За год они съедают больше котят, чем собака за десять. Собаки только гоняют кошек, а не питаются ими. Совы же едят все без разбора. К счастью, они боятся пчел-мутантов старика Любича, поэтому в саду котятам ничто не угрожает. Ли купает их медовым шампунем, от чего они страшно злятся (и становятся такие миленькие), а пчелы вроде как зависают над ними и хмурятся. Вообще-то пчелы не умеют хмуриться, но эти умеют. Прошлой ночью Ли не спала и все слышала через пол, теперь у нее мешки под глазами – она выглядит даже хуже, чем после кошачьего массажа. Она все слышала, но понятия не имеет, куда поехал Гонзо, он только объяснил ей, что я новый и сделан из него, и запретил говорить об этом кому-либо. Ли понятия не имеет, что мне сказать.
Поскольку я тоже не знаю, что ей сказать, мы просто сидим и молча глядим друг на друга.
Вид у Ли истощенный. Она черпала силы у гор, но в основном – у любви. Любовь доставляла ей удовольствие. Этот переезд больно ударил по источнику ее сил. Мое первое желание – обнять Ли. Я протягиваю ей руку, и она в нерешительности на нее смотрит. Мы сидим друг напротив друга. Чтобы взять мою руку, ей надо подвинуться вперед. Она двигается, но кладет свою ладошкой вверх. Вот так, и не больше. Ее ладонь подобна невидимой стене Айка Термита. Хочется взять эту крепость приступом. Я бы мог. Возможно, Ли ответила бы мне взаимностью. Но что потом? Наставить Гонзо рога в доме его родителей и похитить его жену? «Что чудовищного ты натворил?» О да, я знаю! Знаю!
Итак. Мы сидим друг напротив друга. У меня болит спина. Никогда не умел сидеть на полу, даже в пору юности и гибкости. Когда я учился в Джарндисе и мог – в результате долгих тренировок в школе Безгласного Дракона – без подготовки сесть в позу лотоса или сделать поперечный шпагат, даже тогда сидеть на полу было для меня сущей мукой. Алину это неизменно бесило. Мебель буржуазна, когда ее нет у хороших людей. А удобная мебель совершенно точно контрреволюционна. (Вот какой армии столь отчаянно боялась правительственная Машина Джорджа Копсена.) Когда у меня начинают болеть бедра, я меняю позу, что сделать совсем непросто, если я не хочу выпустить руку Ли. Морщусь.
– Все нормально?
– Я тебя люблю.
Черт!
Она потрясенно смотрит на меня. Что ж, назвался груздем…
– Я тебя люблю и всегда любил. Я помню твое больничное письмо. Помню, как просил Гонзо найти нам местечко для свидания. Он раздобыл мне костюм, а на тебе было потрясающее платье, где ты его только взяла? Мы всю ночь занимались любовью в замке. Запах жасмина напоминает мне о тебе, о нашей свадьбе и о том, как ты возненавидела город, а Джим Хепсоба помог нам найти дом в горах. Помню, как перенес тебя через порог и упал, и мы просто валялись и смеялись. – Единственный раз, когда мне было удобно на полу…
Ли трясет головой, ее тело разрывается от противоречивых чувств. Она не отпускает мою руку. Мы спаяны болью.
– Ли, прошу тебя… – Прошу о чем? Я не знаю и потому извиняюсь. Говорю, что мне очень жаль. Я ляпнул лишнего, это было неуместно.
Она бросает на меня твердый взгляд. Уверенный. Я все испортил, поставил крест на своей любви. Ли любит человека, которому нет дела до приличий и уместности. Который отмел бы все возражения и обнял ее, и, возможно, получил бы пощечину. Ли любит того, кого нельзя загнать в угол.
Гонзо.
А я кто? Где заканчивается Гонзо и начинаюсь я? Мы всегда были одним целым. Я задаю прямой вопрос: «Кто я для тебя?» и тут же жалею об этом.
– Допустим… – бормочет Ли. Уничтожая меня, она не смотрит мне в глаза. – Допустим, Гонзо ударили по голове. Или он упал с крыши. У него травма головы, он изменился. Многого не помнит. Ему нужна моя помощь, чтобы поправиться и стать прежним. Допустим, Дрянь и монстры тут ни при чем. Просто его ранили. Он больше, чем когда-либо, нуждается во мне. В любви. – Она безразлично пожимает плечами. Это диагноз. Ли лжет. Заставляет себя поверить. – Между нами ничего не изменилось.
Медсестра Ли видит во мне болячку. Я ее люблю. А она считает меня ходячей афазией. Говорю ей, что это не так.
– Ты помнишь, как сделал мне предложение?
Конечно. В саду на крыше «Трубоукладчика-90».
– Нет, я про первый раз.
А, в больничной палате. Это сделал Гонзо. Я мог бы солгать…
Но не могу.
Ли кивает.
– Мне так жаль. Тебе, наверное, очень больно.
Да.
– Но мы с тобой… – Она полна решимости. – Ты помнишь, как любил, но разве ты любишь меня сейчас, в эту самую минуту? Нет. Тебе нужно разобраться с Гонзо, не со мной. Мы чужие.
Да. Ты медсестра. Я – болезнь.
– Мне очень жаль.
Я страдаю. Но люблю ли? У меня мало опыта по отделению воспоминаний от настоящего. Это любовь? Вот это мягкое, топкое чувство в груди? Наверно, Ли права. Страдания – не любовь. Разве что любовь имеет разные формы, вкусы и текстуры, и эта разновидность очень болезненна. Возможно, любовь – как ад, и их великое множество.
В моих глазах вода. Ли не отпускает руку. Мы сидим. Она ждет, пока я проплачусь. Итак. Мне надо разобраться с Гонзо. Мы чужие. Сказанное стало правдой. Моя Ли никогда бы так со мной не поступила. Черт тебя подери, Гонзо! Мог бы намечтать мне вымышленную девушку, раз уж на то пошло. Тогда ничего бы этого не было.
У Ли есть вопрос. Она ждет, пока я приду в себя. Киваю.
– Гонзо… часто шутил насчет Салли. – Ах да, конечно, шутил. Якобы он с ней спал и вытворял всякие штуки.
– Просто дурачился, – говорю я. Может, это и правда.
Она меня отпускает. Я ухожу.
Айк Термит валяется на диване в гостиной. Ма Любич потчует его тортом и каким-то мутным серым отваром, который готовит из травок на подоконнике, и у которого, как у меня, нет имени. Ее муж в саду, хоронит ниндзя. Ему помогает Артель мимов Матахакси – не знаю, хорошо это или плохо. Тоже иду помогать.
Трупы – мертвый груз. Ха-ха-ха. Старик Любич разработал технологию: он подкладывает доску под одно холодное плечо и толкает тело граблями. Мимы, вооруженные шестами и палками, тоже толкают. Трение между трупом и доской меньше трения между трупом и травой, так что тело никуда не девается, а доска заходит под него. Если оно начинает скользить, мимы его придерживают. Затем старик Любич пинками водружает его на доску. Наконец он прилаживает к доске колесики и тащит тележку к западному загону, приспособленному для утилизации ниндзя. Самое тяжелое (и, по-видимому, самое приятное) – запинать труп на доску. Я не хочу лишать старика Любича этого удовольствия, однако он видит, что мне срочно надо кого-нибудь пнуть, и великодушно отдает мне последнего ниндзя. Мы сбрасываем труп врага в яму, и я закидываю его землей. Потом сажусь на камень и вою. Без слез – лишь глухой рев отверженного сердца. Мимы стоят рядом и смущаются. Старик Любич кладет мне на плечо твердую руку, но от этого становится только хуже. Я не выдержу его одобрения – нет, не сейчас. Я поступил правильно, наперекор себе. Все вокруг такое яркое.
Он садится на корточки.
– Я должен был ее приютить, – говорит он и виновато отводит глаза.
Мне хочется ответить: нет ничего дурного в том, чтобы в странные времена укрыть у себя жену сына. Но вместо этого я издаю какой-то сухой звук. Видимо, старик Любич меня понимает. Мы сидим молча. Надеюсь, он больше ничего не скажет.
– Тебе сейчас нелегко, – говорит старик Любич. – Но ты все сделал правильно.
Против собственной воли. Я хотел быть злым и не смог. Это не одно и то же.
– Ты все сделал правильно, – повторяет старик Любич. Мы сидим. Он смотрит прямо перед собой, видя впереди что-то свое, личное и очень далекое.
– Ты на него похож, – говорит он.
На Гонзо?
– Нет, – качает головой старик Любич. – Не на Гонзо. – Голос у него надламывается.
Мимы шеренгой вышли из сада, и мы остались одни. Я не смотрю на старика – боюсь, не вынесу его слез.
– Не на Гонзо, – говорит он, встает и уходит.
Тут что-то происходит с моим ртом. Он перекашивается и открывается, в глазах вода, в горле и в животе какие-то низкие, болезненные шумы.
Странные тонкие руки обвивают мои плечи. Они сильные и теплые. Меня согревают черные полы театрального плаща. Доктор Андромас. Руки раскачивают меня из стороны в сторону, ладонь в перчатке гладит волосы, и я прижимаюсь лицом к странной голове в летных очках. Доктор Андромас на ощупь довольно бугорчатый, зато очень мягкий и податливый. Ах да. Товарищ Корова – это он. Знает толк в объятиях. Но почему вы плакали надо мной, доктор? Или вы плачете над всеми пациентами?
Доктор Андромас раскачивает меня, и раны затягиваются. Вновь.
– Мне так жаль, – обращаюсь я к предплечью Андромаса. – Так жаль…
Вроде бы из-за москитной сетки доносится успокаивающее «Ш-ш». Узкие плечи расправляются, и руки ползут дальше по спине, обнимая меня еще крепче. Единственный, кто сейчас может меня утешить, – чужак.
Я решил ехать в Хавиланд один. Гонзо там. Диковошь приезжал оттуда. Вражеский план тоже разрабатывается в Хавиланде, хотя неизвестно, возник он там или его откуда-то завезли. Надо ехать, и ехать тихо. Нельзя, чтобы меня сопровождала маленькая армия нео-марсоистов в беретах. Мне придется задавать вопросы, встречаться с людьми в потайных комнатах. Артель мимов Матахакси не годится для секретных операций. Для группы абсолютно безмолвных людей они потрясающе громкие. Вот почему я предложил Айку временно разделиться. Удивительно, но это далось мне нелегко. Айк стал моим другом.
Впрочем, Айк – не проблема.
Доктор Андромас сверлит меня недоуменным взглядом, затем косится на Айка. Тот пожимает плечами. Андромаса передергивает – он словно бы говорит, что я идиот, но это ничего не меняет. В частности, неизменным остается намерение доктора поехать со мной в Хавиланд.
– Нехорошо это, – говорит Айк Термит. – И не смотри на меня так.
– Он же работает на тебя.
Андромас закатывает глаза, Айк вздыхает:
– Он работает на самого себя.
– Я еду один.
Айк кивает, доктор нет. Он лишь смотрит в пустоту, как кошка, которой велели слезть с кровати. Он любуется горизонтом, точно говорят вовсе не о нем. Я машу рукой перед его очками.
– Слышишь? Один!
Кивает. Да, я поеду один, Андромас просто двинется туда же в то же самое время. Нет, это не слежка, мы лишь попутчики. Какое чудесное совпадение, Утренняя звезда – это Вечерняя звезда, нет поводов для волнения. Я оглядываюсь на Айка. У него такое же лицо: разбирайся сам, ничего не могу поделать. Меня окружают воинствующие идиоты.
Андромас расправляет плащ и задирает одну руку, прикрывая ею нижнюю часть лица (и без того прикрытого сеткой, – кстати, когда это перестало меня настораживать?). Он обходит нас по кругу, задирает вторую руку и идет обратно. Андромас будет прятаться. Невидимый, как ветер в кронах и тень тигра в лунном свете. Его никто не заметит.
Кроме тех, кто не ослеп.
Может, я смогу оторваться от него по пути.
– Не мешайся под ногами, – говорю я.
Андромас радостно кивает и бежит прогревать грузовик. Анабелль – у грузовиков должны быть нормальные имена, а не идиотские вроде «Магии Андромаса» – ждет.
– Извини, – говорю я Айку Термиту, – просто я должен сделать это сам.
Он улыбается.
– Я мим, а не супермен. Только и гожусь, что мешаться под ногами! Но если понадобится помощь, Андромас знает, как нас найти. И К тоже, разумеется.
Мои ударные части. Я попросту не могу проиграть.
– Андромас может тебя удивить.
Да уж, почти наверняка.
Раздается похабный звук, нечто среднее между клаксоном и трубой: доктор Андромас (который вовсе не едет со мной, даже не думал об этом, а только двинется в том же направлении) зовет меня в путь. Я забираюсь в кабину. Артель мимов Матахакси выстроились в шеренгу вдоль дома Любичей и машут нам на прощание, каждый чуть не в такт другому. С крыльца за нами наблюдают родители Гонзо. Мы уже распрощались, и тому есть доказательство. Оно лежит рядом на пассажирском сиденье Анабелль: узел с одеждой, «Таппервер» и конверт. Одежда частично Гонзова, частично непонятно чья – такие таинственные вещи всегда появляются в большом доме с годами (больше всего мне нравится канареечный жилет; понятия не имею, при каких обстоятельствах я смогу его надеть). Кроме того, в узле есть две черные гладкие тряпки – костюм ниндзя примерно моего размера для сбивания с толку врагов. От него едва слышно пахнет пчелами. Спешно убираю его подальше и вскрываю конверт. Деньги. Не состояние, но сумма приличная и куда более крупная, чем у меня была: деньги, облегчающие задачу. И карточка с двумя словами, нацарапанными ужасным почерком старика Любича, – имя того начальника, что предложил Гонзо новую важную работу. Знакомое имя. Ричард Вошберн.
Салют, Диковошь!
С «Таппервером» все просто. Он старенький, молочного цвета и с плотно сидящей крышкой. У последней есть тонкое ушко, помогающее ее снять. В коробке лежит сэндвич – домашний хлеб, проложенный таким количеством цыпленка, бекона, салата, помидор, яиц, сыра и майонеза, которое не вместила бы в себя ни одна здравомыслящая буханка, – и бутылка домашней шипучки. Есть даже яблоко и баночка меда.
Ма Любич приготовила мне обед и вместе с ним упаковала в коробку свою любовь.
Назад: Глава XII Совет мудрецов; игры Джима и Салли; Безумный Джо Спорк и Песочница Правды
Дальше: Глава XIV Изучение Системы; бумажный след и мистер Крабтри; мне надирают задницу

