Книга: Мир, который сгинул
Назад: Глава XI Неправильная загробная жизнь; дьявол; цирк да и только
Дальше: Глава XIII Математика любви; пчелы добра и зла; Гонзовы раны
Глава XII
Совет мудрецов; игры Джима и Салли; Безумный Джо Спорк и Песочница Правды
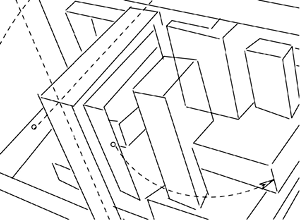
Ронни Чжан может показаться довольно странным ментором. Пока я стою в темноте у циркового шатра и галлюцинирую, мне скорее должен явиться мастер У или старик Любич. Сам бы я вряд ли выбрал Ронни Чжана. С другой стороны, какая-то часть меня выбрала именно его, ведь сейчас я разговариваю с ним. Не с настоящим Ронни, понятное дело, – ходят слухи, что он пережил войну, но куда-то исчез. Я беседую с призраком.
Все мы носим с собой множество призраков – воспоминаний о других людях, ярких и блеклых, от долгих знакомств и мимолетных встреч. Эти призраки – карты, с каждой новой встречей становящиеся более подробными. Мы начинаем их судить, они нам нравятся или не нравятся. Они, если спросить философа, – все, что нам известно о других людях. Но я бы поостерегся о чем-либо спрашивать философов: им свойственно впадать в то, что на фарси называется sanud – долгие бессмысленные разглагольствования на досадные и незначительные темы. В любом случае, мастер У и старик Любич – даже в портативной версии – чересчур мудры для такого момента. Мучительно признаваться в своих неудачах столь просветленным призракам. Сказать им, что жизнь моя пошла прахом, что мне наставили рога и пустили пулю в живот сразу после спасения мира – это слишком. А их прощение нанесет мне еще одну глубокую рану.
Ронни Чжан, напротив, знает толк в лаже. Его советы будут погрубее, и говорит он их с тактом человека, не раз бывавшего в переделках, хорошо знакомого с чувством вины и болью жертвы. Ронни Чжан – Будда, которого можно встретить в пивнушке. Он спасет твою душу, а потом разделает под орех за бильярдным столом. Он будет колошматить тебя сырой треской по башке, если это поможет вернуть тебя к жизни. Мое подсознание выбирает его. Вот почему призрак Ронни Чжана сейчас слушает мою печальную историю и дает мне советы.
Ночь прохладная. Нерешительная луна повисла над шатром, сквозь полотно которого просачиваются одобрительное бормотание публики. Я сажусь на пенек и встаю, опять сажусь. Встаю. Нам нравится считать себя высокоорганизованными созданиями, но иногда нас просто зажимает между двумя противоборствующими силами, и тогда мы дергаемся: туда-сюда, вверх-вниз. Я похож на пса, разрывающегося между стейком и теплым креслом. Меня рвет на части. Встаю, сажусь. Хмм, нет. Встаю.
– Пентюх. Нет, ты просто шило в… Не скажу где. Дислокация шила слишком интимна и ужасна – от одной мысли о ней твои причиндалы стекут в канаву. Я не шучу.
Голос Ронни. Я прекрасно знаю, что моего тренера здесь нет, и в то же время слышу его голос и вижу, где он стоит, и как его мерзкие толстые пальцы изображают непристойный жест.
– Давай колись.
И я колюсь – выкладываю все, выпаливаю одним страшным предложением, без обиняков и жалости к себе. Ронни нетерпеливо шагает туда-сюда.
– Ну дела… – говорит он, когда я умолкаю и роняю голову. – Знаешь, что я думаю?
– Нет.
– Врешь! Но я все равно скажу.
– Уходи.
Бестелесный Ронни мощно бьет меня в нос. Боль не сильная, но от удара по всему лицу расходится холодная волна. Я вздрагиваю, и в голове начинается какое-то шевеление. Оно немного рассеивает туман.
– Пентюх, я не развлекаться сюда пришел. Для этого мне бы хватило своих рук и жидкого мыла. Я пришел, потому что тебе, тупице, нужна моя соображалка. Усек? Хорош тупить и слушай внимательно.
Я слушаю внимательно, но с таким видом, будто делаю Ронни одолжение. Не нужны мне его советы. Мне вообще советы не нужны.
– Все эти годы дядюшка Рон шептал тебе не ухо важные тайны, и теперь он хочет знать: слушал ты его или валял дурака? Помнишь мои уроки тактического вождения?
– Да.
– Во всех подробностях?
– Не знаю.
– Наверняка нет, потому что я фонтан мудрости, а ты дурень. Попробуй вспомнить не основной курс, а продвинутый. Ты же его посещал?
– Да.
– На занятиях мы говорили о долгосрочных миссиях, где у тебя больше возможностей спланировать действия. Другими словами, о стратегическом вождении с упором на логистику. И в этом контексте мы упоминали, как важно знать местность, понимать цели врага и мыслить глобально. Без более-менее картины происходящего любое принятое решение – дерьмо собачье. Ты меня слушаешь? Я понятно выражаюсь?
– Не знаю.
– «Да, Ронни!!!»
– Да, Ронни.
– Вот и хорошо. Итак, ты в дерьме. Верно? – Ронни Чжан жестом дает понять, что я должен ответить.
– Да, Ронни.
– Верно, ты в дерьме. И ты хочешь отмыться. Отмыться гораздо труднее, чем запачкаться. Второй закон тер-мо-динамики – если ты хоть на секунду счел себя умнее и круче меня, Пентюх, ты ошибся – не хочет, чтобы ты отмывался. Уровень дерьма в изолированной системе стремится к максимуму. Хуже того, Пентюх, твое собственное дерьмо тебе не принадлежит. Ты не можешь оценить масштаб случившегося с тобой дерьма. И ты не можешь исправить ситуацию, пока не узнаешь, что с тобой случилось.
– Я это знаю.
– Вряд ли.
– Знаю!
– Тогда объясни мне, Пентюх, почему ты не умер и сидишь тут бодренький, когда тебе недавно пустили пять пуль в пищеварительный тракт; почему лучший друг завел тайную интрижку с твоей женой и умудрился незаметно переехать в твой дом, поменять мебель и купить собаку?! Как он мог провернуть все это, пока ты жил со своей ненаглядной?
– Не знаю.
– Ну надо же! Тогда тебе лучше узнать. А между делом спроси себя, кто и зачем хотел уничтожить Джоргмундскую Трубу; и как можно назвать человека в черном, который появляется откуда ни возьмись и рубит в фарш целый взвод неплохо обученных ребят? Помимо этого ты наверняка захочешь выяснить, кто сделал тот таинственный звонок и посоветовал тебе не браться за дело – очень кстати, между прочим, – будто это не дело, а тухлая монгольская колбаса. А раз ты у нас преданный ученик и близкий друг У Шэньяна, попробуй задуматься: не может ли этот свирепый козел в черном, который устроил вам с приятелем душ из самой мерзкой и ужасной дряни со времен последнего альбома братьев Госс, и который чуть не оторвал тебе башку, иметь отношение к другим свирепым козлам в черном, по слухам убившим твоего учителя и спалившим его дом. Все это должно навести тебя на последний вопрос, Пентюх: с какой стати тебя не покорежило, не сплющило и не умудохало после душа из ядовитой крови мира, и не мог ли этот тесный контакт стать причиной твоих нынешних проблем? Дело я говорю?
Киваю.
– «Да, Ронни»! Что думаешь предпринять?
– Не знаю!
– Кардан мне в жопу, Пентюх (хотя нет, довольно сомнительное предложение, считай, ты его не слышал), не много же ты знаешь, а?! Я прямо теряю всю свою напускную строгость и хочу пообниматься.
– Ронни, я честно не знаю.
Тут он приглядывается ко мне повнимательнее, плюхается на пенек, достает из-за уха окурок и закуривает.
– Короче, Пентюх, ты попал. Ты ни хрена не знаешь. Так больше продолжаться не можешь, иначе тебя шлепнут. За последнее время ты целых три раза чудом избежал смерти. Вокруг тебя все играют по-взрослому, а ты возишься с кукольным домиком младшей сестры или – боже упаси – с собственной писюлькой. Они на своей территории. Ты – на вражеской. А теперь, Пентюх, слушай припев моей песенки: тебя подставили. Ясно? Кто-то об этом знал и хотел тебя предупредить. Все было спланировано. Логично предположить, что план был не в твою пользу. Таким образом, это вражеский план. Ты должен разобраться, выяснить, сui bono? что в переводе означает «кому это выгодно?» Нужны карты и таблицы, метеорологические сводки и разведданные. Потому что у них это все уже есть. Удача тебе не светит, пока ты не выяснишь, что происходит.
– И много я должен выяснить?
Ронни Чжан пожимает плечами.
– Желательно все.
– Да плевать мне на это. Я хочу знать только про себя.
– Пентюх, – говорит Ронни Чжан, затягиваясь папиросой и склоняя голову на бок, – а с какой стати кого-то должно волновать, чего ты хочешь?
В следующую секунду я еще чувствую вонь его окурка, но его самого нигде нет.
Из темноты за моей спиной прилетает порыв ветра, а вместе с ним слабый запах театрального грима.
– Да уж, – тихо говорит Айк Термит, – ничего себе история.
Рейнгольд остается позади, и Айк Термит (он очень умен, хотя всю жизнь рисует себе лицо и падает с воображаемых роликов) просит меня сесть за руль. Я гляжу в зеркало заднего вида и вижу – за подпрыгивающими матерчатыми сиденьями и округлыми окнами в следах от наклеек и грима – горизонт. В автобусе непривычно тихо. Мимы, как водится, молчат. Некоторые дремлют, похожие на жутких белолицых детей, и тихонько посапывают, а один бормочет: «Гад! Положи на место!» и переворачивается на другую сторону. Остальные просто смотрят в окно. Когда мы проезжаем что-нибудь примечательное – придорожное кафе, одинокий дом или фонарь, льющий желтый свет на груду мусора или старых газет – они дружно поворачивают головы в одну сторону; круглые черные глаза следят за пятном света, пока оно не исчезает за дальним краем окна и не растворяется в темноте. Я везу колонию сов.
Дорога прямая и пустая, никаких ограничений скорости, да и дорожной полиции не видно. Меня сдерживает лишь двигатель старого корыта – в сущности, автобус умер, добравшись до Рейнгольда, но там его приласкал К, любитель саронгов. Он читал библию кузнеца (последнее издание) и свободно говорит на языке распределительного вала. К поднял капот развалюхи, поколдовал там, перемазался мазутом, тормозной жидкостью, мутной водой и объявил машину исправной, но жестоко покалеченной неправильной эксплуатацией. На пару с К – красоткой в рабочем комбинезоне, обольстительно стирающем различия между полами, – они тщательно надраили, смазали и заправили маслом древний автобус. Процедура состояла из интимных поглаживаний, промывок и сложных манипуляций эротического характера. Они разобрались с зажиганием, свечами, генератором и прочими сложными, неподвластными простому смертному материями. Затем они прочитали Айку Термиту короткую лекцию о том, как надо ухаживать за двигателем (очевидно, до сего дня он делал все ровно наоборот), и удалились куда-то для постремонтного совокупления. Только тогда я узнал, что они любовники.
Айк Термит не говорит ни слова, пока Рейнгольд не превращается в слабый отсвет оранжевого на горизонте, – ждет, когда я отъеду подальше от места своего пробуждения. Конечно, мои демоны никуда не делись, но город, где они последний раз дали о себе знать, остается далеко позади. И тогда, в безопасной гипнотической темноте, Айк Термит спрашивает, не ведет ли машину влево. Подумав, я отвечаю, что вроде бы К это исправили. Он соглашается, и какое-то время мы едем молча. Затем Айк говорит, что давно знаком с К и тайно подозревает, что у него начисто съехала крыша.
Хотя наше знакомство с К было недолгим, я пришел к такому же выводу, однако не могу точно сказать, чем мировосприятие К отличается от нормального. Это потому, предполагает Айк Термит, что все мы немного спятили, но более общепринятым образом. Я соглашаюсь. Решив, что К – самый явный безумец на планете душевнобольных, мы хихикаем, и Айк делится со мной жевательным мармеладом, которым его угостила одна жительница Рейнгольда – за обещание будущих любовных утех. До сих пор я не задумывался, что Айк Термит может притягивать женское внимание. Сама мысль о том, как мим занимается сексом, противоестественна. Озвучиваю это Айку, и нас снова разбивает приступ безудержного смеха. Один из бодрствующих мимов сердито и даже язвительно показывает мне, чтобы я следил за дорогой.
Наконец Айк Термит говорит:
– Ничего себе история!
Я чуть не спрашиваю: «Какая?» – но вовремя понимаю, что это был бы самый глупый вопрос за всю историю Вселенной.
– Да уж.
– Тебе, наверное, много чего надо сделать.
– Ага.
Айк Термит кивает. Это не жуткий мимов кивок, а нормальный, человеческий.
– Куда поедешь?
Хороший вопрос. Я хочу поговорить с Ли. Но не могу, не знаю пока, что ей сказать. Есть вариант поговорить с Джимом Хепсобой. Салли Калпеппер устроила бы нам встречу – сказала бы Игону, Игон сказал бы Ли… А вдруг Гонзо объявил меня чудовищем, убийцей и врагом народа? Тогда у меня больше нет друзей. Но Джим Хепсоба – верный друг, а Салли Калпеппер хорошо соображает. Они придумают, что делать.
– К горам, – отвечаю Айку. – У меня там друзья. – Хоть бы так оно и было!
– У нас маршрут. Гастроли.
Киваю.
– Правда, так уж повелось, что гастроли есть всегда. Можно и отложить. – Айк замолкает и внимательно смотрит на меня.
– А остальные? – Под остальными я имею в виду К, К-любовников и К-шотландца, пастушьих собак, индийских уток и прочих К, сейчас занятых разбором шатра – завтра или послезавтра они нас догонят.
Айк пожимает плечами:
– Обойдутся пока без нас.
Он предлагает мне помощь в ущерб собственным интересам. С лица воду не пить. А какие у мимов лица? Бледные и странные. Насмешничающие.
Айк Термит трет глаза кулаками. Я буквально слышу, как в них скребет песок.
– Задай себе вопрос, – говорит он. – Оглядись и подумай, есть в этом автобусе явный весельчак? Кто носит одежду красного, оранжевого цвета? Желтого? Голубого? Словом, не черного?
В этом автобусе – нет. Зато бойкие друзья К и он сам любят пестрые наряды.
– К раньше был врачом, – говорит Айк Термит. – Потом его повысили, он стал администратором, а затем и начальником. Работал на Систему, жил и дышал ею. У него была семья. Однажды утром он проснулся и осознал, что не видел родных два месяца и даже не знает, где они. Может быть, в Новом Париже, или в Константинополе, или в Тавистокских Виллах. Тогда он стал разбирать почту – стопка была высотой фута четыре. Там нашлись счета, реклама и открытки на прошлый день рождения… В конце концов он обнаружил письмо от своего адвоката, где сообщалось, что вся его семья погибла в аварии. Авария была крупная, о ней писали в газетах и прочее. Но К даже не знал, что его родные куда-то поехали, а новостей не смотрел, ведь они не имели отношения к его работе. Работа требовала, чтобы он убрал личную жизнь в отдельный отсек мозга и выключил его. Так он и поступил, потому что это было правильно и профессионально. Может, К только хотел быть хорошим Папой, но это другое, это личная мотивация, а о ней на работе лучше не думать. Короче. Исполняя свой профессиональный долг, он пропустил похороны. Наверное, ты решил, что он сразу же бросил работу. Ничего подобного. Или у него случился нервный срыв. Нет, не случился.
К – Джоэл Этенс Лантерн, так его звали, но больше этого имени не существует – попросил несколько выходных и вернулся к работе. Он знал, что так делают профессионалы, а раз он больше не отец и не муж, то почему не быть хотя бы профессионалом. У него в голове были все нужные модели поведения, каждая с набором приоритетов и правильных реакций, но он смел их под ковер профессионализма, и больше у него ничего не осталось. Одна работа. Через некоторое время К пришел в ужас от этого решения – какое оно хладнокровное, нечеловеческое, анти-Папино, – вышел из конторы, сел в единственный принявший его автобус (этот самый) и уехал прочь, не оглядываясь. С тех пор он звал себя К. Нашлось еще несколько человек, готовых делать то же самое: всякий раз задумываться о людях, об их отношениях и контексте, только чтобы понять, о ком идет речь. Это непросто, они вынуждены постоянно работать головой и анализировать все подряд. Ярлыками их не обманешь. Иначе говоря, К назвался К, чтобы не превратиться в машину и каждую минуту помнить о своей человечности.
Айк Термит откидывается на спинку сиденья и трясет рукой, рассеивая неловкость, – точно смахивает прилипший к указательному пальцу фантик.
– Это я все к чему, – говорит он. – У людей, которые тебя окружают, тоже бывали скверные времена. Мы тебе поможем.
От этих слов я вдруг становлюсь ничтожно маленьким и выдавливаю:
– Спасибо.
Мы едем дальше. Дорога больше не производит впечатления закрытой, а мимов автобус пышет жизненной силой. В зеркале заднего вида появляется фургон доктора Андромаса, и Айк Термит, в отличие от остальных мимов, явно ему рад.
– Кто он? – спрашиваю я, потому что К мне так и не ответил.
– Андромас?
– Да. И почему он мне помог? Почему его все боятся?
Айк Термит молча обдумывает мой вопрос и наконец отвечает:
– У тебя сложилось неправильное представление о докторе Андромасе.
Больше из него ни слова не вытянешь.
Еще в давние времена Джим Хепсоба (сержант) обзавелся привычкой: в периоды затишья между заданиями обривать себе голову. Он воочию убедился в бесполезности длинных локонов на войне, когда его личного наставника и старшего офицера Гумбо Билла Фазиэля засосало в авиационный двигатель – тот неудачно выпрыгнул из самолета после плохо организованного политического убийства. В результате Гумбо Билла ровным слоем охристого цвета разбрызгало по четырнадцати городкам и деревням, а самолет свалился на землю. Может, Гумбо Билл и не был величайшим тайным агентом конца двадцатого века, но никто не придирался к его стильной прическе, пока ее неуместность в зоне боевых действий не выявилась самым ужасным образом.
Учитывая особенности нашего тогдашнего образа жизни – ночные плавания на лодках, лагеря в тропиках и парашютное десантирование, – Джим часто делал депиляцию в непредназначенных для этого местах. В конечном итоге у него выработалась фирменная техника бритья: сперва он обмазывал голову растительным экстрактом, не только обладающим питательными и гипоаллергенными свойствами дорогостоящих косметических средств, но и правильным запахом перегноя и мокрого меха, что позволяло ему не выдать своего присутствия, если во время операции ветер переменит направление. Затем, пока бальзам делал свое дело – открывал поры и ставил волосы торчком, – Джим проверял остроту изогнутого засапожного ножа или подтачивал его специальным камнем. Далее он легко и крепко брался за ручку тремя пальцами правой руки (как истинный айкидока), клал указательный палец на ребро ножа, а левой рукой накрывал его сверху. Направляя лезвие большими пальцами, он вел эту надежную конструкцию спереди назад и в четыре медленных движения обривал всю голову. Ни волны, ни воздушные ямы, ни маленькие землетрясения не заставили бы его порезаться. Бон Брискетт однажды видел, как Джим брился во время тайфуна, но Брискетт – тот еще выдумщик и считает маньяком любого, кто бреется наголо по своей воле.
Когда Салли Калпеппер сообщила Джиму, что они встречаются – Джим соображал куда медленней и еще не успел представить Салли в этом контексте, – то немедленно взяла в руки и его режим бритья. Она постановила, что в домашних условиях Джим будет пользоваться мылом, не пахнущим подмышками ондатры, и позволит Салли делать это самой, поскольку от вида бреющегося Джима ее бросает в дрожь. Потом они съехались, и, ожидая исполнения следующего приказа (т. е. поездки в какую-нибудь церковь или иное место для проведения помпезных обрядов), Салли решила, что будет брить Джима дважды в неделю, в гостиной, под любую приятную ей музыку, и по такому случаю Джим должен надевать костюм. История умалчивает, какие мотивы лежали за этим указом. Откровенно говоря, у меня нет ни малейшего желания их узнавать, поскольку в деле может быть замешан секс. Но это, по крайней мере, объясняет, почему моим глазам сейчас предстало такое странное зрелище.
Джим и Салли не запирают входную дверь. Во-первых, поблизости нет желающих их беспокоить. Во-вторых, у них нечего красть. В-третьих, того, кто представляет мало-мальски серьезную угрозу, дверь все равно не остановит. В «Частном аварийно-транспортном агентстве по спасению мира» есть негласное правило: заваливаться в гости только в подходящее для этого время (понятие довольно растяжимое), но в любом случае – лучше завалиться, чем нет. Если время неподходящее, ты поймешь. Если нет, будь как дома, пиво в холодильнике.
На Джиме Хепсобе костюм в тонкую полоску. Не серый, а темно-коричневый с красноватым оттенком. Джим в нем – вылитый Натан Детройт. Такой костюм наверняка носил Хамфри Богарт во всех черно-белых фильмах. С намыленной головой Джим полулежит в настоящем парикмахерском кресле. Верхняя часть его туловища обернута большой белой салфеткой или полотенцем (из необработанного хлопка: такие действительно делают, хотя не представляю, кто ими вытирается), веки сладко смежены. Ситуация и без того неловкая, но дальше – хуже.
Салли Калпеппер подходит к Джиму сзади. Она ловко и не спеша орудует бритвой, напоминающей проволоку или стеклянную нить. Ни одна щетинка не укроется от рук Салли. Она бреет Джиму не только голову, но и подбородок. На ней белый халат, волосы зачесаны назад по моде прошлых лет. Халатик доходит до середины бедра, под ним – чулки. Не знаю, есть ли на ней другая одежда: как только до меня доходит, что я смотрю на фактически раздетую Салли Калпеппер (впрочем, совершенно голая Салли выглядела бы не столь обворожительно и вопиюще распутной), я сразу отворачиваюсь и обращаюсь к друзьям, разглядывая комнату, краснея и, боюсь, потея.
На миг я запинаюсь, по вине хорошо знакомого мне феномена остаточного изображения еще видя перед собой Саллины ноги – бедра – в бесконечных сетчатых чулках с пурпурной каймой. Тени и бледная кожа, тайны более сокровенные, чем женские ножки, неизбежно дорисованные самой примитивной и бесстыжей частью моего мозга, прожигаются на сетчатке моих глаз. Не то чтобы меня влечет к Салли Калпеппер, но ее тело, увиденное в миг игривого желания, напоминает мне о том, что сам я – не бесполое и не бездушное существо, и тягу к сексу мне не отшибло. С другой стороны, обратное утверждение тоже верно: до сих пор я будто сидел на этой тяге, или она попросту спала.
А теперь проснулась. Хорошо, что я стою к друзьям спиной.
Такое поведение в высшей степени нелепо, но именно оно спасает мне жизнь: мои действия столь непохожи на атаку, что Джим Хепсоба даже не выхватывает из-под салфетки (или полотенца) свою внушительную аль-капоновскую пушку. Я молю бога, чтобы Салли не приставила нож к моему горлу: смесь опасности и секса превратит меня в неисправимого извращенца. К счастью, она этого не делает. За моей спиной раздаются странные шорохи, и Джим велит мне повернуться: Салли стоит слева от него в клетчатых брюках на подтяжках и в белой рубашке. Видимо, это ее полный парикмахерский костюм, и подтяжки придают ему особую пикантность, которая не уходит от моего взгляда. Но опасность зарычать от страсти мне больше не грозит. Увы, опасность быть застреленным Джимом Хепсобой никуда не делась.
Он сверлит меня сердитым взглядом:
– Ты кто такой?!
Признаюсь, я не ожидал подобного вопроса. Он в некотором роде застает меня врасплох. Начнем с того, что со мной говорит Джим – мой второй лучший друг после Гонзо – и одновременно не Джим. Таким его видят посторонние: большой сильный человек, знающий толк в войне. Сержант Хепсоба – с ним шутки плохи. И теперь он спрашивает, вопреки нашей десятилетней дружбе, кто я такой. Что-то не сходится. Он меня знает. С другой стороны, явно нет. Но, если подумать, вопрос очень хороший. Кто я, если не лучший друг Гонзо Любича и не муж Ли, ведь я считал себя именно другом и мужем? «Жертва» – не самое приятное определение. Вице-президент «Частного гражданского аварийно-транспортного агентства по спасению мира», ответственный за стратегии и планирование, – да, конечно, но Джим этого больше не знает. Солдат против воли. Бывший идеологический анархист (с оговоркой: исключительно ради секса). Ученик Школы Безгласного Дракона (более несуществующей). Одинокий ребенок в песочнице. Похоже, я теперь никто. Меня словно и не было.
Возможно, я стал жертвой злой иронии судьбы. Мерзкая Дрянь на Девятой станции (сочащаяся сквозь швы костюма, льнущая к моему телу, взаимодействующая с моим разумом – фу!) среагировала на чувство вины, ведь давным-давно я был правой рукой Джорджа Копсена. Я все это развязал. Быть может, каким-то неведомым образом сбылись мои подсознательные страхи, и я Сгинул. Или наполовину сгинул, очутившись в Аду Проживания Собственной Жизни Со Стороны (мой внутренний систематик добавляет новую любопытную разновидность к списку бабушки У). Люди меня забыли, и мир тут же бросился заполнять пробел, оставшийся на моем месте. Ли чиста, Гонзо невиновен. Я стал призраком самого себя. Все поправимо.
Отличная мысль.
Сладкая ложь.
Меня потихоньку озаряет. Правда куда горче.
Я с надеждой смотрю на Салли Калпеппер – она мой последний шанс. Лицо у нее ясное и холодное, в глазах ни намека на узнавание. Будь на ее месте кто-нибудь другой, скажем, Томми Лапланд или Сэмюэль П. случайно увидели бы меня в занюханном борделе и не стали бы со мной говорить, то я бы решил, что они боятся или чувствуют себя виноватыми, и успокоился бы. Но только не Джим, только не перед Салли. Он скорее умрет от стыда, чем укроется от ответа. И только не Салли – нет, для Джима она всегда будет безупречной. Она не понимает, что он любит ее маленькие недостатки: бугорок на руке, сломанной еще в детстве; то, как она смеется с полным ртом пива, и оно брызжет у нее из носа. Вот почему он не делает ей предложения – боится ее запятнать.
– Извините, – говорю я, – ошибся адресом. Уже ухожу.
И я пячусь к выходу, подняв руки. Ствол Аль Капоне провожает меня до двери.
Какого черта!
– Джеймс Вортигерн Хепсоба, – заявляю я через всю гостиную прямо ему в лицо, – ты обязан сделать этой женщине предложение. Она – твое сердце и кровь в твоих жилах, но в холодные предрассветные часы она боится, что тебе ее недостаточно. Хватит валять дурака – женись!
И я выхожу в сад, сделав хоть эту малость.
В кино быть Безымянным Странником круто. Ты не обделен женским вниманием и почему-то опаснее всех остальных. У тебя нет прошлого, зато есть таинственное предназначение. Все это очень увлекательно и бодряще. Но я никогда не хотел особого предназначения, мне вполне хватало своей жизни. И если в кино безымянность – романтичное бремя, придающее герою особый шарм, на деле она больше похожа на унылое необъятное поле. Ах да, живи я в кино, меня непременно узнал бы мой пес. Когда все воззрились бы на меня с бездушным недоумением, и какая-нибудь симфония Сибелиуса подчеркнула мою боль, верная псина выбежала бы из дома и отправилась бы со мной на поиски приключений, а в конце непременно спасла бы мне жизнь. Но собаки у меня нет. Она есть у Гонзо.
Я вдруг начинаю понимать, зачем Энни Бык коллекционирует игрушечные головы.
Возвращаюсь к мимам. Айк Термит не видел меня в «Тузе бедер». Он помнит нашу компанию, но меня – нет. Я не делюсь с ним своими подозрениями насчет того, что я Сгинул. Вместе этого я прошу его немного изменить маршрут и заехать к Злобному Питу. Пит может меня не помнить, и это нормально: для него все клиенты – назойливые людишки, которые подкидывают ему необязательную работу и задерживают оплату. Но у Пита осталась моя старая подруга. Я хочу ее увидеть, потрогать (убедиться, что она настоящая) и позвать с собой. Иначе я свихнусь.
От всего человечества Злобного Пита отличают его крошечные размеры. Не то чтобы он очень низок ростом. Многие коротышки – хорошие люди, и далеко не все страдают синдромом Наполеона, как называют его французы, или коликами Мустафы, как говорят потомки Златоухого бея. Они занимаются своими делами и не испытывают тяги к безграничной власти. Возможно, им с детства привили убеждение, что низкий рост – преимущество: из коротышек выходят отличные акробаты и кинозвезды, они спокойно помещаются в итальянские спортивные авто и не бьются головой о верхнюю полку, занимаясь сексом на нижней. Однако Злобный Пит – совсем другое дело. Он возвел свою ненависть к высоким людям в абсолют. Он не короток, а анти-высок. В любой группе людей Пит выглядит воинственно, зловеще низкорослым. Свою анти-высокость он привносит во все, что делает: его тощая сердитая физиономия – карта города Скверный Нрав. Пит одержим мерами и оценками, в частности оценкой собственного превосходства. Гараж Пита безупречен, он заанализировал все ошибки до полного их уничтожения. Он составлял списки и каталоги, реорганизовывал и переписывал, проводил сложные генеалогические расследования малейших недочетов и за четыре года уволил двести тридцать одного механика.
В гараже Пита нет места компромиссам и подменам. Он либо отдаст тебе машину в полностью отремонтированном виде, либо не отдаст вовсе. Цокает он лучше всех на свете. Счета абсолютно точны и написаны безупречными печатными буквами. Каждая буква – почти копия остальных, не больше и не меньше. Любые отклонения невозможны и запрещены. Мастерская идеально чистая, если не считать тех мест, где без масла и смазки не обойтись – они отмечены желтыми и черными углами. Строго соблюдается техника безопасности. Рабочие носят каски. Розовые и голубые квитанции попадают в папки «Закупки» и «Дубликаты» соответственно, а бумажки цвета «красное золото» (так правильно называются желтые, стало быть, так их называют в гараже Злобного Пита) идут прямиком в изобретенную им систему хранения документов, что позволяет ему отслеживать, проверять и перепроверять все, что творится в мастерской, и заодно следить за работой подчиненных. Когда последний раз к Питу приезжали для проверки бухгалтерии, два аудитора, хныча, отправились обратно в Хавиланд, потому что за сорок девять минут работы они успели допустить целых две ошибки в расчетах.
Вряд ли Пита можно назвать личным механиком Господа Бога. Он не позволяет себе грязно ругаться и никогда не станет вас обманывать; он – само совершенство, рассматриваемое через призму точности. Однако Пит считает, что caritas – это марка колы. Господь доступен нам в разнообразных вкусах и ароматах, но ни одному из них не понравился бы этот вздорный остролицый недомерок, мелочный и спесивый. Для Злобного Пита существует только один ад: он отдает нам грузовики, а мы безалаберно с ними обращаемся, ездим на них по грязи, пыли и снова привозим их на ремонт, чтобы потом опять истязать. Деньги значения не имеют; работа у него будет в любом случае, ведь его слава гремит по всей Жилой зоне. Мы создаем лишние проблемы, которые наглядно видны на графике «Разумный износ против Необходимого Текущего Ремонта». Мы безрассудны, все как один, а он мнит себя военным медиком, штопающим солдат лишь затем, чтобы они вновь получали ранения. Но его пациенты – грузовики, тупые громадины, и они куда важнее и уязвимее любого человека. С узкого лица на меня смотрят узкие глазки, и порция отвлеченного неодобрения уже развернута и готова к использованию. «Неодобрение, предвиденное», 1 шт., в наличии на складе».
– Чего тебе? – Узкие губы едва шевелятся, складывая слова, а правая рука по-прежнему что-то пишет в блокноте, ведь время – если не деньги, то, по меньшей мере, время, незачем тратить его впустую.
Из Пита вышел бы кошмарный босс. Он нанимает только тех, кто готов всецело ему подчиняться. Став властелином мира, я позабочусь, чтобы в моем правительстве не было ни одного Пита. Если помимо грузовиков Пит займется чем-то другим, он превратится в чудовище. А пока он всего лишь маленькая часть двигателя внутреннего сгорания.
– Я езжу с Гонзо. На пассажирском сиденье.
– Первый раз тебя вижу.
– Зря не свечусь.
Видимо, я нашел правильные слова, потому что Злобный Пит снисходительно кивает, точно меня понизили в звании: из Угрозы я превратился в Пустяк, а Пустяк – это обширная категория, включающая Платежеспособных Клиентов. Он убирает ручку. Я показываю ему карточку сотрудника Агентства – после Гонзовой радикальной реконцептуализации моего тела и одежды К извлек ее из печальной груды окровавленных тряпок, которая раньше была моими брюками и футболкой. Надпись на карточке гласит: «Соучредитель». Соучредители имеют свободный доступ к оборудованию. Таков закон, и Пит об этом знает. Я разжалован в Правоспособные Пустяки, и мы со Злобным Питом становимся друзьями – насколько друзья вообще существуют в его картине мира. Левая рука Пита, которой он лениво постукивал по скамейке рядом с большим гаечным ключом («Гаечный ключ, для применения в драках, в наличии на складе»), резко вытягивается вдоль бока, когда он встает.
– Как тебя звать? – вопрошает он, имея в виду не мое имя, а то, как вписать меня в бланк.
Лишние сведения Злобному Питу не нужны, главное – соблюсти формальности. Что ж, его можно понять. Я называюсь К, поскольку временно не представляю из себя никого конкретного. Он пишет «Ка» в графу «Фамилия». Я не поправляю, а он не переспрашивает. Мы идем к главной мастерской.
– Номер тридцать семь, – напоминаю я, и Пит молча кивает.
Наш старый грузовик – мой грузовик – стоит в боксе № 37. Он большой и страшный. Даже Питу не под силу отмыть его полностью. Грязь стала органичной частью краски. Трубы не хромированные. Я нашел его – ее – в сгоревшем сарае, когда мы еще работали на «Трубоукладчике-90», и убил все лето, чтобы ее перебрать. Сиденья из кожзаменителя, дырявые – кто-то истыкал их шариковой ручкой. Вокруг дырок нарисованы цветочки, рожицы и половые органы. В кабине нет ни музыки, ни кондиционера, зато есть патроны, и движок не подведет, пока не довезет тебя до места назначения.
Анабелль, мой грузовик и единственная подруга на свете.
Я расписываюсь на квитанции (жму на ручку как следует: Пит стал подкладывать копирку – одна квитанция достанется мне, а вторая пойдет в его новую систему микрофишей), и он уходит, не попрощавшись и не поблагодарив. Дружеские отношения с клиентами Питу ни к чему. Я пробегаю пальцами по рулю.
Гун-фу Безгласного Дракона – мягкий стиль. Расслабленные мышцы и восприимчивый ум позволяют отслеживать движения врага и заблаговременно отвечать на удар. Нужно поддерживать постоянный контакт, знать своего противника, понимать его, и тогда он твой. Экспериментируя с этой доктриной на курсах тактического (и стратегического) вождения Ронни Чжана, я выяснил, что сходным образом можно изучить и неодушевленный предмет. Например, чувствовать дорогу колесами машины, ощущать ее поверхность и состояние. Чем я и занимался в «Эйрбасе» К. Это куда проще делать, если хорошо знаешь саму машину – железо и резина становятся продолжением твоего тела. Чувствуете? На левом крыле камешек. Скорость ветра? Двадцать – двадцать пять, дует под углом (если принять за точку отсчета помятую хромированную мандалу на капоте) тридцать пять градусов. Прямо сейчас, в этом гараже, к заднему крылу кто-то прислонился – скорее всего, Айк Термит. Прикосновение Злобного Пита было бы грубым и неловким, этот же человек тих и незаметен, умеет слушать руками. Акробат или ученый. Конечно, Айка Термита можно назвать и тем, и другим. У Шэньяну он бы понравился.
Айк открывает пассажирскую дверь.
– Куда едем, ковбой?
Вместо него за рулем автобуса сейчас мим по имени Лиана, совмещающая в своих номерах танцы и эквилибристику. Ее катают по шестам и лестницам, как пляжный мяч – она возникает на самой верхушке, шатается, как пьяная, и вопреки всем законам физики вновь летит кувырком по следующему шесту. У Лианы великолепное пространственное зрение и непоколебимое равновесие – такому человеку не грех доверить автобус. Тем временем Айк будет помогать мне. Странно видеть его на моем месте и сидеть за рулем. Внутри просыпается безрассудное головокружительное желание, будто стоишь на краю обрыва: хочется совершить очень плохой поступок. В случае с обрывом, конечно, прыгнуть; меня же подмывает достать пушку и напичкать Айка свинцом, как обошелся со мной Гонзо. Упрятываю это желание подальше, в самый безумный и скверный отсек подсознания, где ему и место.
Завожу двигатель. Анабелль немелодично урчит, как медведь в спячке, переваривающий кларнетиста.
– Домой, – отвечаю я. – В Криклвудскую Лощину.
Айк Термит бросает на меня любопытный взгляд. У него опять такое лицо, будто он хочет лучше разобраться в происходящем. Наверное, мне тоже стоило бы.
– Бывал там? – спрашиваю я.
Айк Термит пожимает плечами:
– Нет, но слышал.
Спускаю Ли с привязи.
Айк Термит и Артель мимов Матахакси совершают нечто вроде паломничества. По всей видимости, когда-то в Криклвудской Лощине жил очень уважаемый мим (если о миме вообще можно так сказать), и после его смерти подчиненные превратили его дом в маленький музей. Мимские принадлежности помещены под стекло и выставлены на обозрение как реликвии Мастера. Газовая горелка и реторта (для изготовления грима), мягкие туфли, швейная машинка (нынче мешковатых штанов почти не шьют), целая стена фотографий, запечатлевших исторические моменты. Мастер жмет руку королю Кубритании, Мастер танцует самбу с двумя принцессами. Мастер выполняет форму «Забраться на стену, Шагнуть Неизвестно Куда» перед тайским послом, и тот чуть не лопается от смеха. Мастер снимается в фильме «Тихая жизнь», где он играет мрачного убийцу, который мечтает смешить людей. Айк Термит заверяет меня, что музей потрясающий, хотя там немного грустно. Это единственный музей на свете, где нет аудиогида.
Я потрясен. Как вышло, что я ни разу там не бывал? В детстве Ма Любич водила нас по всем музеям города. Айк Термит вежливо поясняет, что в ту пору Мастер был еще жив.
Он удаляется, на ходу разминая затекшие ноги (сиденье у Анабелль крепкое и надежное, но удобным его не назовешь), преследуемый вереницей беретов, воротничков под горло и почтительных кивков. Мимы похожи на маленькую армию, очень сдержанную и серьезную. Собственная странность их не смущает. Они такие, какие есть.
Везет им.
Я на углу Лэмбик-стрит, где раньше была кузница. Вперед уходит Пэклхайд-роад, слева от меня, ярдах в двухстах, школа Сомса. За ней начинается переулок Дойля, на конце которого стоит имение «Уоррен», где жила Элизабет, если не ночевала у мастера У. (Это по сей день оставалось бы для меня загадкой, не познакомься я с другой Эссампшен Сомс, настоящей, укрывшейся под маской злобной старухи, дабы с бо́льшей пользой научить нас терпимости, подготовить к нехоженым жизненным тропам и каннибалам разных пород. Эссампшен наверняка запрыгала от счастья, когда мастер У, старый простофиля, укомплектованный полезными навыками и житейской мудростью, решил давать частные уроки ее дочери.)
В другой стороне находится дом Любичей. Ослы давно отошли в мир иной, где нет заборов, гавкающих собак и Лидии Копсен, пытающей их своим дурным вкусом. Старик Любич никогда этого не говорил, но, скорее всего, они почили во время Овеществления, когда Криклвудскую Лощину отрезало (отрезало в буквальном смысле – южный конец городка съела брешь, которую затопило море, и рядом с кинотеатром протянулся новый пляж) от остального мира. Еды стало мало, а ослам нужно хорошее питание. Гонзо считает, что они умерли естественной смертью и похоронены под розами. Смерть в самом деле была естественной – в тяжелые времена их съели хищники высшего звена.
Перед свадьбой я пил чай с родителями Гонзо – «за дружбу прежних дней». В пору Овеществления жизнь Криклвудской Лощины оживилась: с холмов за едой и товарами, но главным образом за жертвами и чужим добром пришли бандиты; страшные звери бродили по шоссе и напали на мэра; Эссампшен Сомс возглавила небольшой вооруженный отряд против пресловутых каннибалов, но ни одного каннибала так и не было найдено. А когда Лощина вернулась на карту мира, пошли слухи об Исчезновениях – местечко под названием Хейердал-Пойнт якобы целиком сожрали чудища. Но такое происходило везде. Лощина стала моим убежищем. Она была простой и безопасной, а этого мне и хотелось среди предсвадебной суеты, когда все готовились меня женить. Старик Любич стал морщинистее и сварливее, бормотал что-то о монстрах, бандитах и опасностях нового мира и строил большой черный улей для особых пчел. Он все не шел домой – Ма Любич улыбнулась и вынесла ему лепешку на пластиковой тарелке.
Нет, к Любичам мне еще рано. И Евангелистке я не смогу смотреть в глаза, ведь я до сих пор не знаю, где Элизабет. Она так и не вернулась с Вранова поля, однако это еще ничего не значит: тогда бесследно исчезло четыре миллиарда людей. Глупо винить себя за это неведение, но я виню. Словом, я могу пойти только к берегу нового моря, на Аггердинский утес, – к дому моих родителей.
Некоторые воспоминания черно-белые, трафаретные. Когда пробуешь их оживить, разум сам все раскрашивает, заполняя пробелы цветом и тенями. Если быстро-быстро обернуться, успеешь заметить себя, перекрашивающего стены под цвет того, что было, но с годами стерлось из памяти. Другие основаны на смутных ощущениях – сплошь цвет и никаких подробностей. Гостиная в родительском доме запомнилась мне прохладной, голубой, с каминной полкой темного дуба и современной живописью на стенах. Ее словно прорубили в леднике. Отец – это низкий голос откуда-то сверху, ходячая стена в шерстяных брюках и кожаных башмаках. Причина неожиданных полетов и источник подарков, небрежно завернутых в газетную бумагу. Мама – это коричневый вельвет и ложка с кашей. Прохладные руки на моем горячем лбу, словно по волшебству исцеляющие любой ушиб. Я помню, какие чувства пробуждали во мне разные выражения их лиц, но ни одного четкого снимка самих лиц перед глазами нет. А вдруг я не узнаю родителей? И если не узнаю я, то как – спустя столько лет – узнают они?
Я пешком поднимаюсь на холм. Одолженные ботинки мне немного велики, и на правой пятке уже вскочил волдырь. При ходьбе я изо всех сил проталкиваю ногу вперед – пятка отстает на четверть дюйма от задника и скользит по стельке. Маленький участок кожи почему-то цепляется за ткань, кожа трется, и продолговатый волдырь медленно наполняется жидкостью. Завтра я буду злиться, а сегодня ощущение отставшей, но все еще моей кожи вызывает легкую тошноту и одновременно завораживает.
Я помню этот холм. Хитрая бестия! Когда думаешь, что самое трудное уже позади, самое трудное начинается заново. На вершине стоит темный дом. Похоже, там никого. Я взбираюсь дальше. Волдырь натягивается.
Мимо пролетает машина. (Это они? Узнают ли? Остановятся? Нет.) Еще одно воспоминание: два точеных силуэта в дверном проеме, изящные руки машут на прощание. Удачи! Помню, как с детской уверенностью думал, что родители больше любят провожать меня, чем встречать, радуются свободному времени. Гонзо уводил меня в школу или на детскую площадку, всегда готовый утешить, неисправимый фантазер. Помню чувство бесконечной благодарности. Теперь-то я понимаю: ему тоже было одиноко. Но тогда мне казалось, что это сострадание.
«Ступайте на улицу, поиграйте». Это я помню. В Криклвудской Лощине было так безопасно, что меня оставляли без присмотра. Наверное, была какая-нибудь няня или детский клуб, но мне ничего такого не запомнилось. Родители стояли на крыльце, взявшись за руки, и махали. Осторожно перешагивали через мой «лего». Но их лиц я не вижу. Такое случается. Лицо близкого человека, которого ты знал всю жизнь, расплывается, когда пытаешься его вспомнить. Я помню их, кем они были и что для меня значили, но не как выглядели. Разум вводит нас в заблуждение, чтобы мы не сознавали, как обособлены от остальных.
Мимо решительно проносится еще одна машина. Они? Нет. Ожидание избавления бесконечно.
Вершина холма. На ровной поверхности волдырь причиняет удивительно сильную боль. Я немного расслабляю левое колено, напрягаю ступню и иду дальше.
На веранде никого, свет на кухне не горит. Мог бы и догадаться.
Ворота рассохлись, щеколда проржавела. Железо давно не смазывали; я чувствую его шероховатость прямо сквозь дерево. Стиль Безгласного Дракона: поддерживай контакт, пусть твое расслабленное тело подскажет, что собрался делать враг и когда он остановится. Сопротивление – это тоже информация. Ворота сопротивляются, крошечный шип ветхого металла застрял в петле. Я прикладываю силу, и ржавчина ломается. Крошечные хлопья моего врага слетают на землю. Ворота распахиваются.
Входная дверь выкрашена глянцевой черной краской для кованого железа. Ключ там, где и должен быть, – под статуей богини Дианы (не вполне пристойной для Криклвудской Лощины, как я теперь понимаю: одна грудь оголена, короткая тога едва прикрывает бедра бегущей женщины).
Ключ проворачивается в замке: тишина. Приходя домой, я всегда кричал, чтобы привлечь внимание родителей. В то же время я помню, как они сидели в гостиной и дожидались меня. Что ж, на сей раз не ждут.
– Привет! Я дома! Всего лишь я. Привет. – Слова падают плашмя на дерево и краску.
Никого. Дом пуст. В воздухе повис запах пустоты: старых простыней, смолы, сочащейся из древней фамильной мебели, и пыли. Я иду по коридору, чувствуя, как надо мной смыкаются стены – детские воспоминания. Но нет, коридор не сжимается, я теперь большой. Это была территория взрослых, где встречали экзотических гостей (хотя я и не помню, кого именно), брали почту, а меня каждое утро отдавали на поруки Гонзо и вечером (или на следующий день) принимали обратно. Когда началась учеба в Джарндисе, я редко заставал родителей дома. Я входил через черный ход, жил отдельной, независимой жизнью. В промежутках мы почему-то никогда не разговаривали. Нет, размолвок между нами не было – только время и расстояние. Я знаю, они пережили войну. Слышал от кого-то или просто понял, что не горюю – стало быть, родители живы.
В комнате-леднике большие окна и огромное, похожее на трон кресло. Я снимаю простыню и смотрю на него. Цвет запомнился мне другим, словно я видел его на закате, в золотистом сиянии. Спинка и подлокотники выгорели на солнце. В комнате полно призраков. Призрачные ноги. Призрачные коктейли. Призрачные вечеринки. Какие вечеринки? Убираю еще несколько простыней. Остальную мебель не узнаю, только это кресло, видное с улицы. Может, я перенес какую-нибудь травму головы и забыл свою жизнь дома? В противоположной стене гостиной дверь. Она ведет в папину берлогу, таинственное мужское пространство. Найду ли я там отца – иссохшего, сморщенного, давным-давно умершего? Или занимающегося любовью с новой женой? Поэтому я ничего о нем не слышал? Открываю дверь в обитое панелями гнездышко и балансирую на пороге, готовясь спуститься по двум ступенькам – пол берлоги опустили, чтобы в холодное время здесь было теплее, ну и для уединенности.
Дверь открывается, и передо мной стоит большой посудный шкаф, пустой и холодный. Нет, я этой комнаты не видел, помню только дверь – резную, внушительную и… ложную.
Встретив такой отпор, я прохожу через кухню и открываю подвальную дверцу, которая ведет в мое прежнее жилище, где мы с Терезой Холлоу занимались любовью в ночь после убийства пса-людоеда. Узкий лестничный пролет ведет не вниз, а наверх. Комната напоминает чей-то жуткий будуар, заставленный старушечьими трофеями.
Дом не мой.
Бродя по комнатам, я постепенно прихожу к этому мучительному осознанию. Словно гость, прохожий или любопытный ребенок, я помню только места общего пользования и комнаты, видные с улицы. Я тут бывал, но не жил. В нашем с Ли доме это было неоспоримым доказательством измены, страшного предательства, но здесь такого не может быть. Не мог ведь Гонзо, каким бы замечательным он ни был, соблазнить и моих родителей! Они со мной не разводились, не переделывали дом, давая понять, что мне тут не место. Он никогда не был моим. Тому есть свидетельства: у здешних обитателей не было детей. На дверном косяке в кухне нет карандашных отметок, все ковры целы, стены не оцарапаны. Нет ни одной комнаты, которая могла принадлежать мне: захламленного пыльного логова с двухъярусной кроватью, где юный я потел бы и дулся на родителей, год за годом становясь взрослее. Да и на фотографиях – не мои родные. Имена на старых конвертах в жестяной коробке мне незнакомы. У этого дома есть история, но я не имею к ней отношения.
Сдавливает грудь. Глаза чешутся, свербят от песка. В них пульсирует кровь. Интересно, они могут лопнуть? Я кручусь на месте, снова и снова, или крутится дом? Или мир? Неужели вся моя жизнь мне приснилась? Я ее выдумал? Да. Да! Видимо, так. Моя настоящая жизнь была настолько мрачной и унылой, что из ошметков прежней я слепил себе новую. Теряю самообладание и реву в голос на лестничной площадке – это опасно. Мама (если она вообще была) сказала бы мне: «Осторожно, упадешь». А когда это слово не прошло бы сквозь мое горе, она бы села на третью ступеньку снизу и обняла, чтобы я не упал. Нет у меня никакой мамы. На третьей ступеньке пусто. Как и во всем доме, да и в любом месте, куда я приду. Гонзо Любич, я тебя ненавижу.
Вою без слов, пока хватает воздуха в легких. Смеюсь – громко и жутко. Этот звук меня взбадривают, и я смеюсь еще громче. Потом снова плачу, рыдания и смех сливаются воедино. Безумие какое-то – рыдать и хохотать в темноте ограбленного дома. Безумие? Точно! Это все объясняет! Передо мной разворачивается моя вторая жизнь.
Взгляните на этого сумасшедшего! Его зовут Безумный Джо Спорк, лудильщик и вольный путник с Большой Дороги! В былые времена Безумный Джо храбро служил родине, но шагнул в темноту и растерял все винтики, за что и получил свое прозвище. Теперь ему кажется, что у всех важных людей люфы вместо голов! Безумного Джо выгнали из армии за то, что он мыл свои мозолистые ноги париком командира! Увы, эта же слабость сделала его непригодным для цивилизованной жизни. Он стал пропойцей и уголовником, а о его медалях все забыли – вернее, он сменял их на дешевое пойло. Недавно, уснув под забором насосной станции, где он поселился (из кондиционеров дул теплый воздух, а охрана не подпускала к станции горных львов), он услышал страшный шум и кинулся посмотреть, в чем дело – не позарился ли какой воришка на его выпивку. Но нет! Той ночью на дело вышли мерзкие злодеи, и в славном ветеране взыграли давно забытые чувства. Прокравшись в разрушенные ворота, он увидел, что на команду героев, храбро спасающих мир, напал подлый бандит! Наш Джо был парень не промах, хоть и натворил дел в ванной, – он помог героям одержать блестящую победу над врагом! Увы, пока его широкие плечи и крепкие руки делали свое дело, предательский ум выдумывал длинную и прекрасную историю их общих побед. Эти фантазии привели его к ссоре с человеком, чью жену он ненароком хотел присвоить! Защищаясь, тот выстрелил в Безумного Джо Спорка (поделом!) и прямо на ходу выбросил из машины, когда Джо потянулся к мочалистой голове соперника. Крепкое здоровье не подвело ветерана – раненый, но живой, он скитался по свету, пока не пришел к этому старому дому, с которым его связывают лишь безумные видения несуществующего мира. Он спроецировал на дом воспоминания об идиллическом и в то же время одиноком детстве, о родителях с лицами из рекламного каталога. Что же он предпримет, столкнувшись с доказательствами собственного безумия? Раздавленная колесами правды его навязчивая идея лежит у него на коленях. Вернется ли к нему рассудок? Быть может, он выползет из ямы безумия и найдет себе работу, купит хорошую одежду и женится на толстухе, которая будет заботиться о нем и произведет на свет новых Спорков? Выводок буколических пострелят, раздавшаяся жена да несколько сытых свиней – чем не счастливый конец для этого хорошего, злополучного человека? Или Безумному Спорку суждено доживать свои дни в Люфаландии и дальше творить зло, покуда его, трясущего огромным кулаком, не выхватит из темноты прожектор полицейского вертолета? «Руки вверх, Джо, сдавайся! Пришел отец Дингл, твой старый учитель!» Но трюизмы отца Дингла больше не интересуют Джо; охваченной кинг-конговской яростью, рычит он на дряхлого теолога и Матерь-Церковь, сулящую утешение. Безудержный, непонятый и раздавленный, он жаждет лишь мести. Захватит ли он заложников? Вполне возможно. Или взорвет бомбу – как знать. «Джо, с тобой хочет поговорить мама!» На сей раз уговорщики допустили роковую ошибку: Безумный Джо Спорк ненавидит мать – долгие годы он сидел в шкафу за нарушение ее бесконечных бредовых заповедей. Бессвязно прокричав, что отказывается есть фасоль, Джо достает из-под рваного пальто огромную пушку и открывает огонь по живым людям; почти в ту же секунду тысячи винтовок превращают его в красный туман. Голова Джо падает на землю и подкатывается к ногам комиссара Малоуна.
– Вот те на! – говорит рыжий комиссар Малоун. – Поди, это наш плохиш. – И уходит домой, ужинать с женой-ирландкой и конопатыми детьми. За чаем с колбасой он учит их говорить «вот те на», «поди ж ты» и радуется удачному дню.
Глубокий вдох. Посередине – стоп. Наполни легкие, работая диафрагмой. Стоп. Наполовину выдохни, толкая воздух животом. Стоп. Освободи легкие. Стоп. Хватит смеяться. Да. Хватит плакать. Повтори.
Я свернулся клубком на лестнице и намочил слезами ковер. В конце концов мое горе, безутешное и всеобъемлющее, приводит меня туда, куда я должен был прийти, – к песочнице, где я познакомился с Гонзо. Сперва отправляюсь на детскую площадку мысленно: кошмарные безысходность и одиночество пробуждают воспоминания. С того дня мне впервые так больно. Но вскоре я оказываюсь там по-настоящему: высокий худощавый человек с растрепанными волосами стоит ночью посреди песочницы – день закатился за горизонт, пока я стенал и валялся на полу в пустом доме. На меня с почтительного расстояния пялятся подростки, не ожидавшие увидеть здесь – на месте их сходок (и, от случая к случаю, торговли наркотиками) – зареванного психопата. Впрочем, когда я снимаю ботинки, чтобы босиком постоять на песке, они подходят ближе, надеясь, что я устрою что-нибудь ужасное или омерзительное и дам им повод для болтовни.
Песок запомнился мне не таким грубым. Может, песочницу заполнили другим, более дешевым. Наверняка. Старый песок был завезен с пляжа, которого, вероятно, больше не существует. То был белый песок. А этот желтый. Он дольше держит влагу. У меня мерзнут пальцы.
На другом конце песочницы, в тридцати годах отсюда, я замечаю маленького Гонзо. Он огородил круг диаметром раза в два больше своего роста, покатался по нему, чтобы разровнять, а затем плоскими подошвами разгладил ямки, получившиеся от его торчащих локтей и коленей. Арена готова. Не хватает только противника. Гонзо может сколько угодно возиться в песке, подтягивать войска и лепить рельеф местности – создавать собственный мир таким, каким заблагорассудится. Но заменить недостающую составную часть ему нечем. Он поникает, отходит в тень. У старших братьев должен быть иммунитет к несчастным случаям.
Весть пришла две недели назад, похороны в пятницу: Маркус Любич погиб. Ушел на войну, убит в засушливой стране, погребен в полумиле отсюда со всеми почестями и едким запахом пороха, которым друзья проводили его в последний путь. От дыма глаза у Гонзо слезились, а когда дали залп, он вздрогнул. Ему сразу стало стыдно, ведь Маркус не вздрагивал, что бы ни случилось. В глубине души Гонзо чувствует: обращайся он с братом получше, тот вернулся бы живым, а не мертвым. В среду он сказал об этом маме, и та наорала на него, велела ему замолчать, а потом тут же извинилась (чего никогда прежде не делала) и обвила его огромными ручищами, и задрожала. Гонзовы слезы без остатка растворились в мамином плаче, ее вой заглушил его самые громкие рыдания.
Маркус Максимус Любич – земной бог, лучший друг, недостающее звено; инстинкт подсказывает Гонзо его воссоздать. Он помнит Маркуса и все, что они делали вместе. Он еще слышит его голос, примерно знает, что бы тот сказал и сделал в той или иной ситуации. Поэтому он еще может поиграть с Маркусом, хоть и понарошку. Может разделить с ним свое горе и услышать, что скоро все будет хорошо; ощутить вкус мороженого – сладкой взятки. Ему ведь так отчаянно этого хочется.
Гонзо, однако, уже начал понимать, что в мире есть не только он. Продолжать игры с Маркусом будет неправильно. После того как брата закопали, делать с ним то же, что прежде, нехорошо. Например, однажды, еще до Вести, Гонзо играл в чаепитие. На чай были приглашены два инопланетянина, говорящая мышь Кларисса, Маркус в танке (у всех солдат есть танк, из которого они никогда не вылезают) и три шотландских короля на разных стадиях обезглавливания. Все было ясно и правильно. Мама угостила их тортом, но настояла, чтобы мышь, инопланетяне и короли ели волшебный, невидимый торт, а они с Маркусом пусть поделят один кусочек на двоих. Маркус заявил, что уже наелся, и Гонзо слопал все сам.
А потом пришла Весть, и больше так не сделаешь. Раньше Маркус запросто мог быть в нескольких местах одновременно, но после смерти утратил эту чудесную способность. Гонзо – не имея слов, чтобы выразить мысль – рассуждает так: живого брата можно было легко ввести в курс дел, которыми они с Гонзо занимались в его отсутствие. Мертвый Маркус абсолютен и неизменен. Он уже никогда не наверстает упущенное. Потому его теперешняя отлучка – что-то вроде кражи или фокуса. Притворяться, будто он рядом, – значит умалять его смерть и, как следствие, ценность самой его жизни. Отказывая себе в этом соблазне, Гонзо переживает еще одну утрату.
Впрочем, он знает, что надо делать. Когда Весть пришла и все поплакали – было ужасно, – состоялся Разговор. Старик Любич повел Гонзо на долгую прогулку, самую долгую в его жизни (даже дольше той, когда они ходили на Аггердинский утес полюбоваться морем и сквозь мрачные окна заглянуть в старое пустое имение с зачехленной мебелью). Папа сказал сыну, что скорбеть можно не сдерживаясь и ничего не стыдясь, чтобы потом горевать тихо и незаметно, как подобает настоящим мужчинам. Горе нельзя держать внутри, объяснил он Гонзо. Но и лелеять его не стоит. Прочувствуй его, прими и оставь позади. Жизнь продолжается. Старик Любич едва выдавил последние слова.
Гонзо поразмыслил над этим и заявил, что у него есть несколько вопросов; плохих и глупых он задавать не хочет, но ему пока неясно, какие из них плохие и глупые. Старик Любич ответил, что сейчас, в такое время, наедине с отцом, Гонзо может задать любые вопросы. Тогда Гонзо выложил все, что тревожило его последние дни, не заботясь о правильном порядке: за что убили Маркуса? Убьют ли теперь и Гонзо? Как ему играть в свои любимые игры без брата? Можно взять Маркусову шапку с рогами? Должен ли Гонзо посвятить себя скорейшему истреблению тех, кто в ответе за случайное или преднамеренное убийство Маркуса? Если да, то надо ли ему все равно делать домашку? Кто будет провожать Гонзо до школы? Сделает ли Ма Любич ему нового братика? Пожалуйста, только не сестру! Ма очень расстроилась? Виноват ли Гонзо в смерти Маркуса? Если да, родители его разлюбят? А на ужин будет торт? Маркус попал в рай, как говорит Евангелистка, или отныне и навсегда его призрак поселится в доме Любичей? А Маркус купил Гонзо щенка, как обещал? Щенка точно привезут, или из-за смерти дарителя это теперь под вопросом? Папа очень расстроился?
И старик Любич сказал, что вопросы, по большей части, очень хорошие. Он отвечал с изрядным терпением и точностью: Гонзо, их горячо любимый младший сын, сегодня полакомится тортом; ни в чем не виноват; обязательно будет ходить в школу; не получит ни братика, ни, увы, щенка, зато его определенно не застрелят; не должен посвящать свою жизнь страшной мести; в самом деле может забрать Маркусову шапку. Ответ на вопрос «Почему?» старик Любич отложил до лучших времен (а заодно и беседу о боли и бренности человеческого бытия, к которой он не был готов, потому что толком ничего не знал, а значит, в ходе такой беседы ему пришлось бы строить догадки о чувствах Маркуса в момент смерти). И к этим прекрасным ответам старик Любич добавил, что никто и никогда не сможет заменить Маркуса, да и не должен пытаться, – но Гонзо, сознавая это, обязан завести новых друзей.
Гонзо смотрит на песочницу. Она пуста. Нет никого, с кем хотелось бы поиграть. Если Гонзо не найдет себе друга, то опять будет плакать. Горе его нагонит, подкараулит и набросится в самый неожиданный момент. У Гонзо уже вспыхнули щеки и покраснели глаза. Он спешно следует отцовскому совету.
Заводит нового друга.
Это мальчик (разумеется) его возраста. Меньше ростом. Такой же одинокий. Способный разделить с ним печаль, раздавленный – как и все дети, без явной на то причины – неизбывным горем. Осторожный, потому что Маркус время от времени призывал Гонзо к осторожности, вопреки собственной отваге (безрассудству?). Тот, кто всегда будет прикрывать Гонзо спину. Мы начинаем играть, и в ходе игры выясняется, что до Гонзо я не дотягиваю, но моих умений хватает, чтобы ему было интересно. По сути, это почти главная моя черта: в какой бы сфере он ни пожелал добиться успеха, я держусь чуть позади и толкаю его вперед. В других, не интересующих его областях, я часто бываю талантлив. Словом, я оттеняю его достоинства. Закадычный друг, вечный спутник. Персональный сверчок Джимини. Тот, кто возьмет на себя любую вину, расхлебает кашу, скажет правду и обратит на себя внимание в классе. Кладезь скучных добродетелей, тихая гавань в годину печалей. Здравомыслящий, умный и практичный. Не в пример безрассудному и импульсивному Гонзо. Он делит себя пополам и понимает, что отныне ему никогда не будет одиноко.
Нет, мы не познакомились в песочнице. Я там родился – вернее, был сделан. Вымышленный друг Гонзо, товарищ по несчастью, соучастник любых проказ, спаситель в трудные времена. Неразлучные и дополняющие друг друга, мы вместе шли по жизни, сражались в одних битвах, плакались друг другу в жилетку и, когда нужно, помогали советом. Гонзо предпочел бы, чтобы меня не было, но временами, когда одной его напускной храбрости и блестящей импровизации было недостаточно, он требовал от меня помощи. Мне приходит в голову: а чем это отличается от событий недельной давности? Все, что я помню, – правда (кроме вымышленной истории моей жизни, дома на Аггердинском утесе и родителей, которых у меня никогда не было) и одновременно – ложь. Ли… Ли – в некоторым смысле тоже правда. С одной стороны, это я ее добился, но, если быть честным, он первым ее увидел, сделал ей предложение, пока я валялся без чувств. По-настоящему безрассудный поступок. Быть может, сначала Ли полюбила его, а потом меня. Представляю, какой ужас его охватил на Девятой станции, когда он обернулся и увидел свою совесть и хранителя тайных мечт во плоти. Не каждый день борешься с собой в прямом смысле этого слова. Однако в тот день мы впервые были единодушны в своих порывах. Защитить Джима. Сделать дело. Спасти мир.
Жуткий дзынь – и все пошло наперекосяк. Холодная, страшная жидкость окатила нас с головой и нашла раздвоенную ноосферу Гонзо. С одной стороны герой, отважный человек действия, с другой… я: вторая скрипка, худосочный приятель, младший скаут и, время от времени, более мудрый и зрелый советчик. Нас окатило несбалансированной Дрянью вселенной. Отсюда следствие:
Мое собственное маленькое овеществление.
Я обрел плоть и в процессе забрал часть самого Гонзо. Я не должен был стать настоящим. Как это страшно – доверить вымышленному другу все свои сомнения, все альтернативы и однажды увидеть его перед собой. Гонзо, должно быть, почувствовал себя опустошенным. Внутри было тихо и одиноко.
Теперь, разумеется, ясно, как я пережил ранение. Свежеиспеченный, новый, я был не вполне настоящим, чтобы умереть.
По собственной воле упав на колени – мне это показалось уместным, – теперь я спрашиваю себя, зачем. Песок отдает влагу моим брюкам, она пропитывает ткань и щекочет кожу. Интересно, на свете бывают песчаные клещи? Подростки наблюдает за мной с большим интересом и надеждой. По законам жанра я должен сейчас же запрокинуть голову и испустить оглушительный вопль боли и безутешного гнева.
Я встаю, и что-то словно бы сбегает по моей левой ноге. Отряхиваюсь. Ухожу.
Публика чувствует себя обделенной. Я не устроил обещанного представления: легкий паралич, разбивший мою нижнюю конечность, не в счет. Я должен был кататься по земле, биться в конвульсиях и стенать, а под конец сразиться с невидимыми демонами, проорать страшное богохульство и впасть в наркотическую кому. Обдав меня молчаливым презрением, они продолжают оценивать друг друга на предмет возможного секса.
Я спускаюсь по Пэклхайд-роад и прохожу мимо фонарного столба к дому Любичей. Ничего толком не обдумав, стучу в дверь.
Назад: Глава XI Неправильная загробная жизнь; дьявол; цирк да и только
Дальше: Глава XIII Математика любви; пчелы добра и зла; Гонзовы раны

