16. Те, ради кого
Жиль уходит на четвёртый этаж пустующего университетского крыла, забивается в самый дальний лекторий, ложится в углу под скамью и беззвучно плачет. Время течёт слезами, минуты свиваются в часы — но горя не становится меньше. Боль не уходит, сидит с мальчишкой рядом, запустив острые когти в самую душу.
«Ты с ней даже не попрощался, — шепчет боль. — Ты притворился спящим, когда она целовала тебя, уходя. Даже глаза не открыл, вслед посмотреть. Ты был уверен, что она вернётся, и упустил последний шанс запомнить её живой».
— М-ммммммм! — глухо воет Жиль, впившись зубами в запястье и задыхаясь от слёз.
В дверях лектория молча стоит Сорси Морье. Ей до одури хочется подойти и утешить мальчишку, но Ксавье Ланглу строго-настрого запретил его трогать.
— Он восемь последних лет жил ради неё, — сказал священник. — Дайте ему выплакаться. Если это не выпустить — будет только хуже.
Сорси хотела сказать отцу Ксавье, что ему самому не мешало бы разрядиться, но побоялась. Уж очень пугающими были перемены в самом священнике. Опустевший взгляд, тоскующий и безнадёжный. Серебряные нити, за одну ночь щедро украсившие чёрные кудри. Походка — тяжёлая, шаркающая, будто отец Ксавье несёт на плечах незримый груз.
Когда он вернулся утром, перепуганная визитом мятежников детвора высыпала его встречать к чёрному ходу. Лишь стоило кому-то крикнуть: «Он пришёл!», как все без малого четыре сотни ребят и девчонок помчались на зов. Конечно, Жиль и Сорси были среди них.
Отец Ксавье жестом попросил тишины, и когда стихли звонкие приветственные вопли, осторожно поставил на пол свою ношу — маленькую рыжеволосую девочку в мокрой ночной сорочке. Девочка прятала под подолом что-то округлое и смотрела на других детей полными слёз глазами.
— Ребятки, это Амелия, — сказал отец Ланглу мёртвым, надтреснутым голосом, от которого у Сорси заныло сердце. — Она не чужая. Пожалуйста, будьте к ней добры. Мадемуазель Морье, у нас найдётся во что переодеть девочку?
Сорси кивнула и повела малышку в одну из келий, которую определили под хранение выстиранных вещей. Амелия покорно плелась за ней, и девушка нет-нет, да и поглядывала на неё, пытаясь вспомнить, где уже видела эти яркие кудряшки. Девочка аккуратненькая, одёжка сшита из хорошей ткани, стеклянный шар, который она с неохотой вытащила из-под рубахи, когда переодевалась… всё это не вязалось с образом ребёнка из трущоб. Второй круг? Наверное. Но, как ни пыталась Сорси разговорить её, малышка не проронила ни слова. Девушка переодела её, отвела в молельный зал, где резвились ровесники Амелии, усадила на скамью и пошла искать отца Ланглу.
Ей навстречу попался Жиль. Прошёл, шатаясь, по коридору в сторону университетского крыла, свернул за угол, и до Сорси донёсся полный отчаяния стон. Девушка рванулась было за ним, но Ксавье поймал её за руку.
— Не надо, — тихо сказал он. — Не уберёг я Веронику. Вот так вот…
Она всё равно пошла за Жилем. Хоть отец Ксавье и не велел.
И теперь стоит и смотрит, как горе ломает мальчишку.
«Страшно это, наверное — терять, — думает Сорси. — Я столько мёртвых видела… и столько живых, которые хотели бы поменяться местами с мертвецами. Но сама не теряла. А ведь это действительно жутко: когда ты никогда-никогда больше человека не увидишь. Это страшнее, чем предать. Предателю можно вслед плюнуть и пожелать, чтобы у него что-нибудь отсохло. Легче станет, проверено. А когда человека нигде нет больше, совсем нет… а он тебе нужен. И ты ему даже сказать не можешь, что он тебе нужен… Обязательно схожу к маме, когда кончится эта заваруха. Даже если она мне не обрадуется. Мне это очень нужно…»
Девушка цепляется рукавом за задвижку двери, тонкая ткань угрожающе трещит. Жиль, слыша посторонний звук, вздрагивает и поднимает голову. Видит Сорси — и мгновенно подбирается, как испуганная кошка.
— Извини, — сконфуженно мямлит рыжая. — Просто волновалась за тебя.
— Зря.
— Малый, пойдём к отцу Ксавье, а? Вы сейчас друг другу нужнее, чем когда-либо.
Жиль медлит, смотрит куда-то поверх подоконника, где виднеются за стеклом верхушки деревьев городского парка. Вылезает из-под скамьи. Сорси берёт его за руку, не встречая никакого сопротивления.
— Пошли. Надо быть вместе.
Отец Ксавье в умывальне — стирает детские вещи. Стоит, склонившись над ванной, голый по пояс, полощет чью-то рубаху. Девочка и мальчик лет двенадцати, близнецы, развешивают на верёвках выстиранное. Сорси смотрит на мешанину свежих и старых рубцов, покрывающую спину отца Ланглу, бледнеет, но тут же берёт себя в руки и бодро горланит:
— Эй, кто так стирает? Прачка пришла, освободите место! Это женское дело!
Она толкает отца Ксавье в бок и коротко бросает:
— Идите. Жиль тут.
Вдвоём они поднимаются в Сад — учитель и ученик. Здесь, как всегда — свежо, чисто, светло и чуть потрескивает под ногами истёртый кафель. Сконструированная два столетия назад система, выращивающая детей вне утробы матери, безупречно надёжна. Ксавье переодевается у входа, даёт Жилю стерильный халат, закрывает тяжёлую дверь и привычно считывает показания приборов. Жиль смотрит на зреющих в инкубаторах детей, задерживается возле ребёнка Роберов. Смотрит на хаотичное движение крохотных рук в мутноватом розовом космосе, часто моргает.
— Мы с В-веро т-тоже отсюда?
Ксавье кивает. Жиль касается ладонью тёплого бока инкубатора и продолжает:
— Мне т-трудно поверить. В Третьем к-круге все г-говорят, что рождённые м-машиной ничего не чувствуют. Не м-могут любить. Что вместо души у н-нас кусок льда.
Жиль начинает задыхаться, голос срывается. Отец Ланглу молчит, внимательно слушая, к чему тот ведёт.
— Если м-мы бездушные… п-почему болит? Т-ты стал б-бы л-любить ту, к-которая просто кукла?
— Сынок. Это в людях зависть говорит…
— Учитель… Ты учил м-меня защищать жизнь. Раст-тил б-бойцом, — паузы между фразами всё больше, слова даются Жилю с трудом. — Я зн-наю меч. Пистолет. В-винтовку. Почему т-ты не научил м-меня убивать?
Он захлёбывается глотком воздуха, закашливается. Ксавье присаживается перед ним на низкий стул.
— Ты защитил её, Жиль. Сберёг. Не смей себя винить. И послушай меня, пожалуйста. Сегодня я сделал то, на что не пошёл бы никогда при иных обстоятельствах. Потому что не смог простить смерть одного любимого человека и искорёженную жизнь другого. Жиль… Этот город, этот маленький мир ждут большие перемены. Если он найдёт в себе силы прекратить бессмысленную бойню. Сынок, в ближайшее время Совет Семи будет полностью переизбран.
— Каро уб-берут? — с надеждой спрашивает мальчишка.
— Да. Уберут всех, кто сейчас составляет Совет. И меня.
Надежда тает в глазах Жиля, сменяясь недоумением и страхом.
— П-почему?
— Потому что я заслужил это своим поступком. Послушай меня очень внимательно, сынок. Ты — наследник рода Бойер. И место в Совете — твоё по праву. И через полтора года, когда тебе исполнится шестнадцать, ты займёшь это место.
— Нет! — отрезает Жиль.
— Никаких «нет»! — повышает голос Ксавье. — Сейчас ты ещё слишком юн, торопишься, живёшь эмоциями. Но если не тебе управлять городом, то… Я растил из вас с Дидье достойных людей. Честных. Умных. Умеющих видеть, просчитывать ситуацию и действовать. Знающих жизнь вне Ядра. Потребности людей. Возможности города. Жиль, тебя я ввёл бы в Совет как полноправного наследника Бойера. Дидье — как своего преемника, Седьмого.
Мальчишка поражён. Он смотрит на отца Ланглу, будто видит его впервые. Человек, который сидит перед ним сейчас, — грозный, опасный, величественный. Непонятный. И Жиль не знает, как себя вести, стоит ли ему доверять теперь.
— Ты — Седь-мой? — спрашивает он едва слышно.
— Да. Был назначен шесть лет назад предыдущим Седьмым — ректором Университета. Это что-то меняет для тебя?
Жиль долго молчит, потом неуверенно пожимает плечами.
— Сложно, — вздыхает он.
— Понимаю. Зато теперь ты знаешь ответ на вопрос, который задал вчера: откуда берётся еда для живущих в Соборе детей. Пожалуй, это единственная привилегия, которой я воспользовался за шесть лет. У меня неограниченный доступ к ресурсам. И несколько неприметных служащих, которые мне помогают.
— Тома Йосеф?
— Да, он один из них. Дай я закончу, Жиль. Ситуация, в которой мы сейчас находимся, очень опасна. Совет в том составе, как сейчас, просуществует ещё некоторое время. Пока не закончатся беспорядки в городе. И сегодня на Совете большинством голосов было решено воспользоваться детьми Собора как заложниками. Этого я допустить не могу. Собор я не сдам. У нас есть немного оружия, мы неплохо укреплены. Но мы долго не продержимся, Жиль. Детей надо прятать. Выводить отсюда. На подготовку штурма Собора полиции понадобится день-два. За это время я постараюсь разыскать тех, кто поможет мне вывести детей через Подмирье. Детей и тебя. Я рассказал начальнику полиции о том, что наследник Советника Бойера жив и находится под моей защитой.
— Нет-нет, — машет руками Жиль. — Я не стану… н-не пойду! Учитель, м-не не н-нужно место в Совете! Зачем оно теперь?
Отец Ланглу встаёт со своего места, возвышается над Жилем — грозный, широкоплечий, как вытесанный из камня.
— Жиль. Ещё одно твоё «нет», и мне захочется выдрать тебя ремнём, — строго говорит он. — Легче всего замкнуться в своём горе, холить боль внутри себя и всё отрицать. Ты мужчина. Ты мой ученик. И ты найдёшь в себе силы жить и работать ради тех, кого любишь. И лишь поэтому ты послушаешься меня в этот раз и сделаешь так, как я говорю.
— Это не вернёт Веро! — кричит мальчишка так громко, что вздрагивает и закрывается ручонками восьмимесячный мальчик в одном из инкубаторов.
Ксавье награждает Жиля суровым взглядом и направляется к выходу из Сада.
— Подумай, как бы ей понравилось то, что ты творишь, будь она с нами, — говорит он, не оборачиваясь.
Полчаса спустя Жиль находит отца Ланглу на кухне. Священник чистит картошку, аккуратно складывая ровные светлые клубни в большой котёл. Мальчишка садится рядом, берёт нож, срезает ленточку картофельной шкурки. Щёки Жиля пламенеют не то от жары, не то от стыда. Заговорить он решается, лишь перечистив десяток картофелин.
— Учитель, п-прости меня. Я н-не подумав, сорвался, в-вот так вот… П-прости. Ты всё в-верно сказал. Я всё п-правильно сделаю. Только мне н-нужно закончить одно важное д-дело. Я уйду, н-но вернусь. Н-наверное, поздно н-ночью. Но я вернусь. Д-даю слово.
Священник понимающе кивает.
Час спустя худенькая мальчишеская фигурка с продолговатым свёртком в руке выскальзывает из приоткрытого окна кухни и спешит к воротам КПП Третьего круга.
Солнце садится. Тянутся по земле длинные руки теней домов, пыльная листва окрашивается золотом. Где-то вдалеке над морем громыхает: собирается гроза. Ветер пахнет гарью. Тибо сказал — горит один из цехов по переработке мусора. Тот самый, в котором тайком гнали топливо для бульдозеров. Рене, услышав это, опустил руки. Хотел разораться, но… Сказал только, что те, кто это устроил, идиоты. Что город нужен людям жилым, а не в руинах.
Акеми промолчала. Хотела сказать, что городу и люди живые нужны, а не… но не стала говорить. Рене не любит слушать мнения, отличные от его собственного. Или переубеждает так, что чувствуешь себя потом круглой дурой, или просто злится. И в последние дни это случается всё чаще.
— Рене, — окликает Акеми, глядя в окно через щели жалюзи. — Что идёт не так?
Он поднимает голову, отрываясь от бумажных листков с чертежами. Бледный, небритый, усталый.
— В смысле? А, ну да. Всё идёт не так, мадемуазель Дарэ Ка. К Ядру мы не пойдём, раз топлива нет. Так что всё, что нам остаётся — отбиваться от полиции здесь и прятаться.
Она садится на край стола, постукивает каблуком ботинка по металлической ножке. Хочется сформулировать мысль, чтобы сказать правильно, но у Акеми никогда не получалось красиво говорить.
— Когда всё это затевалось, ты обещал, что всё случится быстро, просто и потерь почти не будет. Я думала, это будет месть Ядру, а страдают все вокруг. Посмотри, что творится во Втором круге. Это же и твой дом…
— Мой дом сожгли чёртовы полицаи! — рявкает Рене, сметая бумаги на пол. — Как и твой, помнишь?
— Помню. Но почему ты позволяешь другим грабить соседей?
— Своим людям я такого не позволяю! Я отвечаю за каждого из своей десятки, а каждый из них — за вверенных ему людей.
Рене хватает с пола исчёрканный грифелем листок, вглядывается в него, комкает, швыряет в угол.
— Если бы твой сопляк не смылся вместе с женой Каро, шансы были бы выше!
— А если бы ты не оставил её на потом, она не сбежала бы вообще! — не выдержав, орёт Акеми.
— Я что — должен был все дела бросать ради неё? Что я должен был делать? Отвечай!
— Да откуда я знаю?!
В дверной проём заглядывает обеспокоенный Тибо.
— Э, парочка, — басит он. — На ваше воркование все серые мундиры Второго круга сбегутся.
Рене зло треплет коротко остриженные волосы и бросает на Акеми раздражённый взгляд.
— Тибо, кто из нашей десятки вернулся?
— Клод, Мартен, Люка. Потерь среди их людей нет, но ничего хорошего не сообщают. Еды взять не удалось. Та ветка Подмирья, что ведёт к птицеферме, залита водой: на нижних уровнях глубина более метра. А официальный подход блокирован дверями. Похоже, Дюран был прав. И хочешь знать, что я думаю?
— Думай уже вслух, — раздражённо отзывается Рене, пробегая пальцами правой руки по жалюзи.
— Именно Дюран сдал своим бомбу под трубой, несущей воду Ядру.
— Обоснуй.
— Если верить Мартену, там сработано чисто и быстро. Полицаи знали, где и кого искать. И бульдозер увели явно по наводке. Его отлично прятали.
Рене с силой лупит ботинком по стене, выбивая куски штукатурки. Акеми с почтительного расстояния вставляет свою реплику:
— Жиль был прав. Люди есть хотят, вот и…
— Заткнись! Не упоминай этого сопляка при мне! — взрывается Клермон.
По стене игольчатым зигзагом бегут ледяные искры. Кристаллы щетинятся во все стороны, растут угрожающе быстро.
— Как найдут ублюдка — своими руками шею сверну! И не смей его защищать, женщина!
Тибо трясётся от хохота, тычет пальцем в сторону разозлённой Акеми:
— Да она его раньше прикончит, Шаман! Ты глянь на неё, а! Как же он у тебя нож упёр, Мишель?
— Не нож, а вакидзаси, — фыркает Акеми. Хватает с колченогой койки штормовку и шагает к выходу.
— Куда? — настороженно спрашивает Рене.
— Хочу пройтись. Тут слишком быстро растёт лёд.
— Намёк понял, — нейтральным тоном отвечает Рене. — И всё же, ты куда?
— Маленький сквер с качелями в моём родном секторе, недалеко от рынка. Когда я прощалась с родными, я обещала быть там каждый день в девять вечера. Я думала, ты помнишь.
Клермон перешагивает через нежную голубую поросль на полу, протягивает Акеми руку:
— Я помню. Извини, детка, я погорячился. Не ходи одна, а? Ты ж приметная.
— Я осторожно. И одна я вызову меньше подозрений, чем с кем-то.
Она прижимается щекой к его ладони, целует запястье. Смотрит, как улыбается грозный Шаман, превращаясь снова в её любимого Рене. Ей становится немного легче. Акеми накидывает штормовку поверх короткого тёмно-синего платья и покидает двухэтажный коттедж на окраине городского парка.
Она идёт по вытоптанным газонам, мимо ягодных кустарников, с которых посрывали даже сочные мягкие листья. И с грустью смотрит на разорённые палисадники, в которых люди ещё неделю назад выращивали овощи и травы. «А теперь здесь растёт лёд», — тоскливо думает Акеми, глядя на торчащие из разворошённых грядок синие кристаллы. Зачем Рене и Тибо их всюду сеют?
«Нет. Это не кристаллиты их сажают. Это лёд тянется в раненый, сломанный Азиль, чтобы его добить».
Она обводит взглядом притихшую улицу. Слышно, что в домах есть люди, но нигде во дворах не бегают дети, прохожие редки. Не видно даже полицейских и мародёров. Город спрятался сам в себя.
За поворотом три тела, сваленные друг на друга на тротуаре. Рядом мнутся четверо полицейских в противогазах, у одного из них в руках сканер. Он тщательно считывает коды с шеи каждого тела. Акеми обходит стороной, стараясь не дышать, но сладковатый запах разложения всё же достигает её ноздрей. Жара. Тела быстро начинают вонять.
«Что же творится в Третьем круге? — думает она. — Там, где шли бои?»
Во дворе одного из коттеджей появляется женщина лет сорока. Идёт откуда-то с заднего двора, несёт в горстях картофельные клубни и кусок тыквы под мышкой. Желудок Акеми отзывается мучительным стоном, она поневоле останавливается и смотрит на овощи. Последний раз они с Рене ели вчера утром; да и то — доедали остатки куриного супа и лепёшек.
— Уходи, — негромко, но твёрдо говорит женщина. — Не приближайся!
Акеми сторонится, прибавляет шагу. Ей вовсе не хочется, чтобы на крики женщины из дома выскочил мужик с ножом. А такой вариант сейчас более чем вероятен.
Полицейские патрули попадаются ей трижды. Акеми спокойно сворачивает в переулки или прячется за угол. Странно. Три патруля — всё равно что никого. Где вся полиция?
В Третий круг она проходит по берегу Орба. Бредёт, глядя под ноги, будто что-то ищет, и с опаской косится на группу уличных мальчишек, увлечённо ворошащих мусор. Под мостом — шесть трупов, наполовину лежащих в воде. Акеми останавливается и вглядывается в лица мертвецов. Один кажется смутно знакомым. Другой лежит лицом вниз, но косынка на шее выдаёт бойца Рене. Девушку накрывает приступ бессильной ярости.
Сколько людей погибло! А эти сволочи из Ядра сидят в сытости и комфорте, и никто-никто из них не несёт наказания! Акеми вспоминает ту чистенькую блондиночку, что для Рене поймал один из парней, — и кулаки сами собой сжимаются. И чёртов Жиль, проклятый предатель, её отпустил!
Выместив всю свою досаду в плевке, Акеми сворачивает от реки к жилому кварталу. И когда поднимает голову, видит скалы из синего льда, возвышающиеся там, где прежде стояли дома. Яркое голубое сияние режет глаза, солнечные блики играют на множестве острых изломанных граней.
— Что же это? — в страхе бормочет Акеми. — Откуда оно взялось?
Лёд она обходит стороной, боясь, что от глыбы отлетит кусок и обязательно угодит ей в голову. «Вернусь — заставлю Рене рассказать, что происходит со льдом», — думает девушка и внимательно смотрит под ноги, выбирая дорогу. Тел на улицах не видно, но сладковатый душок разложения здесь повсюду. Как и бурые кляксы крови. И щербинки от пуль на стенах. И аккуратные круглые дырочки в остатках стёкол в оконных рамах. Через полквартала ей встречаются люди. Акеми машет рукой, двое женщин и старик останавливаются. Девушка спешит к ним.
— Здравствуйте! Скажите, пройду ли я тут на Четвёртую линию? — спрашивает она. — Я не ожидала, что тут столько льда.
— Пройдёшь, — уверенно кивает женщина. — За Второй линией льда почти нет, а дальше вообще чисто. Вот, наросло за трое суток такое… Отсюда все ушли, кто смог.
До сквера Акеми идёт, не узнавая мест, знакомых с рождения. Безлюдные улицы делают сектор чужим, враждебным. Нет заводского шума, не смеются дети, никто не спешит к вечерне или заутрене… И, пожалуй, как никогда ей не хватает чихания дряхлого мотора старенького красного гиробуса.
В сквере Акеми садится верхом на карусельную лошадку, с годами потерявшую цвет и левое ухо. Отталкивается одной ногой — и карусель медленно приходит в движение.
— Ото-сан, — шепчет Акеми, закрыв глаза. — Имо то… Вот я, тут. Поговорите со мной, пожалуйста.
Негромкий голос окликает её по имени. Девушка оборачивается и видит паренька с падающей на левую щёку длинной чёлкой и собранными в косичку светлыми волосами. Он сидит на качелях в стороне от карусельных лошадок и смотрит на Акеми настороженно, без улыбки. Как отпущенная пружина, девушка срывается с места и набрасывается на мальчишку.
— Сволота! Да как ты посмел! — вопит она звонким от слёз голосом, отвешивая ему одну пощёчину за другой. — Ты, ублюдок! Ненавижу тебя!
Жиль стоит, раскинув руки и крепко держась за две железные трубы, между которыми висят качели. Терпит, молчит. Акеми бьёт больно, вымещая горечь, неудачи, зло. Он только жмурится и стискивает зубы.
— Зачем ты пришёл? — Акеми таскает его за безрукавку так, что ткань трещит и рвётся. — Ты меня предал, подонок, мразь! Лучше бы сдох под пулями, гад! Ворьё паршивое, ты мне всю жизнь испоганил!
Она выдыхается, удары становятся реже, слабее. Когда Акеми умолкает, чтобы отдышаться, Жиль открывает глаза и кивает себе за плечо:
— Я м-мразь и п-подонок. Я п-пришёл вернуть в-вакидзаси.
Меч, завёрнутый бережно в тряпицу, лежит на скамье. Акеми хватает его и косится на узелок рядом.
— Лепёшки, — коротко поясняет Жиль. — И к-курица, п-половинка. Т-твоё, бери.
Кончик вакидзаси смотрит мальчишке в грудь. У Акеми дрожат руки, она часто моргает.
— Ты пойдёшь со мной, понял? За всё ответишь…
— Отвечу, — говорит он спокойно.
Закладывает руки за голову. Смотрит куда-то влево.
— П-патруль.
Акеми со злостью хватает мальчишку за волосы и тащит за гиробусную остановку — жестяную, выкрашенную в ярко-зелёный.
— В-вон, открыто, — вздыхает Жиль, кивая в сторону двухэтажных построек за сквером.
Девушка осторожно выглядывает из-за павильона остановки, шмыгает носом. Видит, что патруль идёт в их сторону, толкает мальчишку в спину — и вдвоём, пригнувшись, они бегут до открытой двери. Акеми бесшумно затворяет за собой дверь, пинком гонит Жиля вглубь помещения. Подносит к губам палец, потом демонстрирует мальчишке кулак: ни звука! Жиль лишь слабо усмехается, перехватывает руку Акеми и тянет за угол, в соседнее помещение. Там оба спотыкаются и падают в большую кучу пахнущего мылом свежевыстиранного белья.
— Я меч уро… — сердито начинает Акеми, но Жиль зажимает ей рот.
Девушка урчит, трепыхается, трясёт головой, но Жиль лишь крепче прижимает её к себе.
— П-послушай меня, — шепчет он, склонившись к самому её уху. — П-послушай — и решай.
— Угу, — подумав секунду, кивает Акеми, и мальчишка разжимает руки.
Она отодвигается подальше, садится ближе к выходу, одёргивает платье и шарит рядом с собой в поисках меча. Жиль кидает в неё узелок с едой, девушка ловит и откладывает его в сторону.
— Объясняйся, — шёпотом говорит она.
Жиль молчит, обдумывая, что собирается сказать. Тишина быстро становится Акеми в тягость.
— Хватит время тянуть! — шипит она.
— Я не м-мог иначе, Акеми, — решается наконец Жиль. — Это м-моя сестра.
— Чего-оо?!
— Угу. М-моё настоящее имя — Жиль Б-бойер. Я в-врал, к-когда говорил, что н-не помню, откуда шрамы. Я д-должен был сгореть вместе со своими род-дителями в-восемь лет назад. Мой отец б-был С-советником.
— Я помню эту историю, — в голосе Акеми скользит задумчивость, будто она прислушивается не только к Жилю, но и к чему-то внутри себя. — Когда сгорел электромобиль после свадьбы… Так, ну-ка! Ты шпион?!
— Д-дура, — выдыхает Жиль. — Какая же ты д-дура… К-как же он т-тебе мозги засрал…
Он говорит. Медленно, заикаясь сильнее обычного. Рассказывает свою историю. Акеми слушает, и с каждой следующей фразой ей становится всё больнее и страшнее.
— Как же ты жил всё это время… Что ж мы натворили… — всхлипывает она, когда Жиль смолкает. — И что ж теперь будет?
Жиль сползает с бельевой горы, выглядывает из-за угла, смотрит в сторону входа в прачечную. Акеми становится рядом с ним, касается пальцев опущенной руки. Она знает, что именно хочет произнести, но совсем не знает, как начать говорить.
— Ты сп-просила, как я жил. Это не т-так важно. В-важнее сейчас, что жил я т-тобой, — тихо говорит Жиль, глядя на пятно света, падающего из маленького оконца. — Т-ты можешь не д-доверять, да. Я м-мог бы убить тебя или К-клермона, но я этого не… Т-твой выбор — это тоже т-ты. А ты… Ты так же св-вободна, как я. И в-врагом я т-тебе не стану. Никогда.
Он ведёт кончиками пальцев по её запястью вверх, почти не касаясь. А дойдя до плеч, порывисто обнимает девушку, прижимает к себе. Ладони Акеми ныряют под безрукавку, скользят вверх — туда, где колотится, как сумасшедшее, сердце под тонкими рёбрами.
— Не отпускай, — выдыхает Акеми, развязывая пояс на его штанах. — Вот мой выбор.
— Н-не отпущу, — обещает он.
Развешенные на просушку влажные простыни чуть колышутся от сквозняка из приоткрытого оконца. По ту сторону простыни — лёгкая живая тень. Жиль улыбается, водит рукой там, где под белизной ткани угадывается округлое плечо, щекочет горячую даже сквозь простыню ладонь. Акеми прихватывает его пальцы губами, выдыхает долго.
— За мной…
Его рука неотступно следует за её ладонью, исследуя сквозь тонкую ткань упругое, такое желанное тело. Пальцы поглаживают шею, с нажимом скользят ниже, вздрогнув, останавливаются на твёрдых, натягивающих ткань сосках. Акеми вскрикивает, когда Жиль приникает к ним ртом и жадно прикусывает, ищет его ладонь, направляет ниже. Простыня падает — и под руками мальчишки нежная кожа бёдер девушки, и пальцы касаются горячего, влажного. Акеми отступает на шаг, раскинув руки, валится на гору чистого белья.
— Иди сюда, — шепчет она. — Ну ты чего?
Жиль медлит, смотрит на неё поблёскивающими в полутьме глазами. Взгляд дикий, нерешительный.
— Я н-не… ни разу. В-вот так вот.
— Научу.
Жиль тоже шагает вперёд, словно бросается в тёмную воду, и падает сверху. Он худенький и лёгкий — и всё равно подставляет руки, чтобы не придавить Акеми собой. Но девушка тут же притягивает его к себе, обхватывает, кажется, сразу всего. Поцелуй, жадный и голодный, получается естественным продолжением движения. Словно Жиль за этим и бросился — как умирающий от жажды за внезапно увиденным в доступности стаканом воды. Губы у Акеми обветренные, с жёсткими клочками подсохшей кожи. Эти клочки чувствуются, как маленькие колючки под языком; Жиль мимолётно думает, что у него самого губы такие же. Это похоже на прикосновение чего-то, бывшего ранее единым целым, разъединённого и теперь стремящегося слиться вновь. Как сходящиеся, срастающиеся края раны. Почти больно.
Акеми разжимает объятия — но лишь для того, чтобы высвободить ладони, провести ими по коже Жиля, вжимая в него подрагивающие пальцы, будто пытаясь проникнуть внутрь. По шее, плечам, спине, контрастно-нежно скользя по шрамам, обрисовывая контур «языка» на левой лопатке. Сжимает ладони на тонкой талии, мнёт и тискает ягодицы. Жиля начинают бить приступы крупной дрожи, он всхлипывает в поцелуй каждый раз, когда Акеми находит новую чувствительную точку на его теле. Он не пытается перехватить инициативу, позволяет Акеми вести — обещала же научить.
Она учит его до глубокой ночи, до тех пор, пока у обоих хватает сил. Водит его руками по своему телу, взяв за запястья. Вполголоса, с хрипотцой, уходя то в шёпот, то в стон, командует — где нажать посильнее, где погладить. Жиль подчиняется с жадным удовольствием, повторяет то, от чего Акеми начинает метаться и стонать, смелеет, пробует сам, без команд — а если так? А вот так?
Вкус у Акеми солоноватый, мускусный, на языке терпко, когда Жиль ведёт мокрую дорожку по груди и животу. Спускается ниже, к подрагивающим бёдрам и влажным тёмным завиткам. Гладит пальцами, раздвигает нежные складки, чуть погружая кончики в горячее, мокрое и скользкое, потом подаётся вперёд. Трётся лицом, вдыхая запах девушки и чувствуя, как окончательно плывёт осознание окружающего мира — будто он немного пьян. Акеми прерывисто и требовательно вздыхает, пристанывая на самом выдохе, — «ну же!» — и Жиль повторяет путь пальцев языком. Акеми протягивает руку, вплетается в его волосы, направляет, задаёт ритм, двигает бедрами навстречу, но это не длится долго. Она тянет его вверх, и Жиль поднимается, скользит по ней, попутно прихватывает губами напряжённые горошины сосков.
Потом их губы встречаются снова — Акеми чувствует свой собственный вкус, чуть прикусывает Жиля за нижнюю губу, отстраняется, кладёт ладонь ему на поясницу:
— Давай! — шепчет она голодно и увлекает Жиля в новый поцелуй, одновременно с его движением вперёд и внутрь. Обхватывает его ногами и руками, оплетает тесно-тесно. Жиль не понимает, от чего ему не хватает воздуха — от слишком острых, прошивающих его насквозь ощущений, от объятий Акеми… От её глаз, абсолютно чёрных из-за расширенных до предела, съевших радужку зрачков, от жаркого дыхания в унисон, рот в рот… Или от всего и сразу. Он хватает воздух ртом, движется в беспорядочном, древнем, вшитом в самое подсознание ритме — не осознавая и не отмечая в сознании, что Акеми подстраивается и угадывает каждое следующее движение так, словно они и впрямь срослись в единое целое. Всего становится слишком много, Жиля словно подхватывает и несёт в водоворот яростная тёмная вода, бушующая стихия. Он сорванно кричит, содрогается, когда ему кажется, что тело взрывается изнутри, обессиленно падает на Акеми и из какого-то дальнего далека слышит её ответный крик.
Мокрые, счастливые, опустошённые, они лежат, вжавшись друг в друга, среди разворошённых простыней. Акеми тихонечко жуёт лепёшку, Жиль умиротворённо сопит ей в шею, и его рука поглаживает бархатистое бедро девушки.
— Т-ты не пожалеешь? — спрашивает он вдруг.
Акеми издаёт негромкий смешок, трётся ягодицами о его живот.
— Я жалею только о том, что не сделала этого раньше. Думала, что это не…
— Неп-правильно?
— Угу. Села не в свой гиробус.
— Далеко он т-тебя завёз, — зевает Жиль.
— Бака, — нежно говорит девушка.
Жиль счастливо вздыхает, закрывает глаза.
— Мне н-надо идти, а т-ты меня замучила. В-вот так вот…
— Вместе пойдём. Отдохнём совсем чуть-чуть, и…
— Люблю тебя, — бормочет Жиль и проваливается в глубокий сон.
Если закрыть глаза — бело. Светло так, что начинаешь верить, что свет и тьма — совсем не то, чем их представляют. Зажмурься — и темнота, яркая до одури, начинает пульсировать. Задержи дыхание, считай медленно до тридцати — и на счёт «двадцать семь» сияние тьмы хлынет в тебя леденящим потоком.
Пляшут по пальцам колкие искры, дразнят, играют. Ему не нужно смотреть, чтобы видеть. Огоньки вспыхивают всегда в одной и той же последовательности, за годы он выучил её наизусть. Это обращение к нему. Так лёд зовёт Рене по имени.
— Чего ты хочешь от меня? Покажи, — обращается он к горстке кристаллов на ладони.
С каждым днём льду всё беспокойнее. Всё проще позвать его: лишь вспомнил — и вот он, чешуйками покрывает кожу на запястье, тонкими стебельками вьётся по рукам вверх, ласково льнёт к лицу.
— Я твой, — улыбается Рене ледяной колкой звезде, расцветающей на ладони. — Даже не сомневайся. Говори со мной.
Несколько дней назад Рене проснулся среди ночи от кошмарной головной боли. Сияние разрывало его изнутри, заставляло выть и метаться. Акеми проснулась, испугалась. Поутру рассказала, что дотронуться до кожи Шамана было невозможно — такой она была горячей. Боль трепала Рене всего несколько минут, а ему казалось — прошёл год. И исчезла так же внезапно, как появилась, оставив после себя чёткий образ — свобода.
Лёд обретал жёсткую, беспрекословную волю. Если раньше он позволял Рене командовать собой, теперь наоборот — требовал выпустить, бился где-то по ту сторону сияющей белизной тьмы. Рене скармливал ему целые улицы, отпускал и в заброшенных секторах, и в жилых. Лёд требовал Второй круг. Здесь он зарывался в землю, оставляя снаружи лишь сантиметровые макушки ярко-голубых кристаллов.
Рене говорил с Тибо. Думал, ему тоже знакомо это болезненное, сходное с жаждой ощущение. Но Тибо пожал плечами и сказал, что с ним лёд не милуется — но да, в рост идёт всё быстрее.
— Шаман, ты на нервах, вот он от тебя и шпарит, — подытожил тогда Тибо. — Всё просто.
— Не просто, — говорит Рене ледяной звезде. — Ты живёшь своей жизнью. Я лишь твой проводник.
Звезда выдаёт танец искр на кончиках лучей.
— Я вижу, — кивает Клермон. — Я уже понял, что это обращение ко мне. То, что идёт всегда первым. Что ты показываешь следом? Как мне тебя понять?
Синий лёд роняет на пол кристалл, который трансформируется в сияющий цветок.
— Я не понимаю, — покаянно качает головой Рене.
Цветок на полу рассыпается голубыми пылинками. Это похоже на человеческий вздох.
Рене смотрит в окно сквозь пластинки жалюзи. Рассвет. Третий день подряд рассвет напоминает разлитую кровь. Будто что-то изменилось в воздухе. Закаты в Третьем круге на самой окраине всегда такие — из-за количества пыли. Но Второй круг… Будто что-то назревает, формируется в Азиле — незримое, неосязаемое, на краю ощущений.
Шаман наспех расправляет одеяло на койке и идёт в ванную. Чистит зубы, смочив край тряпицы и окунув его в соду. Ополаскивает лицо. Вода уходит в слив, крутясь маленьким смерчем. Рене, как заворожённый, смотрит на водоворот. Вот оно. Воронка.
Он бросается обратно в комнату, ворошит разбросанные бумаги, по листку выкладывает на полу план города. Вот окраина, здесь льда больше, а вот тут он растёт слабее…
— Обозначить. Это надо как-то обозначить… — шепчет Шаман, выстраивая листки вокруг себя. Подбирает с пола кусок штукатурки, ломает его в руках, крошит, посыпает поверх плана города. Мало. Мало! Ботинок долбит по стене под окном, отколупывая штукатурку пласт за пластом. Рене таскает её в центр комнаты, выделяя те места, где разросся лёд. Здесь больше, здесь меньше, здесь едва-едва…
Он так увлекается, что не слышит вежливого стука в дверь. Смотрит на правильную окружность из рассыпанной на полу извести, хмурится задумчиво.
— Шаман! — гаркает за дверью Тибо. — Ты там чего? Открывай!
Клермон отпирает задвижку и сразу же возвращается к своему занятию.
— Так, не топтать! — распоряжается он, не оборачиваясь.
«Если это не окружность, а именно воронка, то центром её может быть точка, где находится то, что надо льду. Получается, это где-то тут, во Втором круге, рядом с Собором… Идти туда. Надо идти туда сегодня же, гнать всех с собой. Что я им скажу? Ничего. Приказы командира не обсуждаются».
За его спиной слышится возня — как всегда, когда в комнату входит много народу.
— Рене, мы её нашли, — сообщает Тибо. — Тебя тут сюрприз ожидает. Глянь, что ли.
Неохотно отрываясь от своих мыслей, Рене поворачивается к визитёрам. И его лицо, и без того хмурое, становится ещё мрачнее.
— Доброе утро, знамя моё, — обращается он к растрёпанной понурой Акеми. Переводит взгляд на Жиля, что стоит рядом с ней, и руки у него связаны: — Да уж, действительно сюрприз.
— Ты был прав, — Тибо проходит через комнату, осторожно перешагивая через карту города на полу. — Нашлась твоя Мишель там, где ты и сказал. Дрыхли с пацаном на пару в прачечной. Нагишом.
Рене внимательно рассматривает сперва Жиля в одних штанах, затем Акеми в штормовке на голое тело. Берёт Жиля за подбородок, поворачивает лицом к свету. Рассматривает ссадины, синяк на скуле, качает головой.
— Похоже, лупила от души. Это же она тебя так отделала?
— Мы его не трогали, — заверяет Тибо. — Только скрутили, чтобы не смылся по пути. А вот она Леона покусала.
Клермон с силой впечатывает мальчишку в стену, хватает за горло.
— Крысёныш, что улыбаешься? Ты её изнасиловал, поганец?
— Да! — отвечает Жиль, глядя на Акеми.
Девушка ловит его взгляд, на лице растерянность, она не понимает, зачем он это сказал, это же неправда…
— Акеми, детка, он тебя изнасиловал? — обращается к ней Рене.
— Да! — хрипло выдыхает мальчишка. — Да! Ск-кажи ему!
«Если я скажу „да“, Рене его убьёт, — с ужасом понимает Акеми. — Если „нет“… наверное, нас обоих».
— Жиль, родной, не надо… — умоляет она. — Рене, оставь его в покое!
— Надо же, как ты запела, — в голосе Шамана нет ничего, кроме усталости и разочарования. — И как же нам теперь быть, а, знамя моё?
Он отпускает Жиля — тот с трудом удерживается на ногах, ловит ртом воздух, тяжело дыша. Рене с сожалением качает головой, делает шаг к Акеми. Девушка пятится, часто моргает, кутается в куртку.
— Пожалуйста, не надо, — шепчет она. — Рене, не трогай Жиля, пожалуйста!
— Неужто так хорош в постели? А вчера ты была готова сама его убить.
— Он сестру защищал, — вырывается у Акеми невольно. — Потому и увёл её.
— О, да тут у нас, оказывается, элитарчик примазался! — делает круглые глаза Тибо. — Шаман, твоя Мишель променяла тебя на юного шпионыша! Понятно теперь, почему полицаи нас…
— Заткнись, Тибо! — рявкает Рене яростно. — Мартен, открывай погреб, — он швыряет Акеми свою футболку. — Оденься. Как же ты… — Клермон сжимает кулаки, сплёвывает под ноги. — Отдал бы тебя парням, но падалью с друзьями не делятся. Что ж теперь делать с тобой, а?
Девушка молчит, глотая слёзы. Тибо обходит вокруг неё, прищёлкивает языком:
— А я бы её в расход пустил. Раз она у нас такой символ народный, пусть и закончит красиво. Под пулями, в стычке с полицией.
Жиль в два прыжка оказывается рядом с Тибо, лупит его ногой по голени, а когда тот падает, бьёт сверху по шее связанными руками, а снизу — в лицо коленом. Рене и Леон тут же валят мальчишку на пол, Акеми бросается к Жилю, но её перехватывает вернувшийся Мартен.
— В погреб! — распоряжается Клермон и пинает Жиля в поясницу. — В погреб девку! И обратно иди, поможешь.
— Нет, — отвечает боец. — Я в этом участвовать не буду. Иди к чёрту.
Мартен опускает Акеми в тёмную холодную яму под полом, вытягивает наверх лестницу. Девушка кричит, зовёт то Жиля, то Рене. Сорвав голос, умолкает, пытается выбраться, ломая ногти о бетонные стены погреба. Люк в полу открыт, и Акеми слышит звуки глухих ударов, как ругаются сквозь зубы Рене и его подручные и слабо вскрикивает Жиль.
— Помогите… — плачет Акеми. — Остановите их… Кто-нибудь, пожалуйста…
Внезапно становится тихо. Потом Акеми слышит шаги, и в погреб заглядывает Рене.
— Отойди в сторону, — сухо велит он девушке, и подошедший Леон сбрасывает Жиля к её ногам.
Акеми бросается к мальчишке, дёргает узлы из рваной простыни, стягивающие его руки. Жиль часто дышит, лицо залито кровью. Девушка торопится, пальцы скользят, не слушаются.
— Не… — едва слышно шепчет Жиль. — Положи… на колени.
Она кивает, переворачивает его на спину, головой устраивает к себе на бёдра. Рвёт на лоскуты футболку Рене, прикладывает куски ткани к разбитому лицу. Жиль попёрхивается, сплёвывает кровь полным ртом. Горячая тёмная жидкость стекает на земляной пол, пропитывает рукав штормовки. Акеми накрывает волна лишающего сил страха, она теряется, то дёргает путы на запястьях Жиля, то отжимает рваную футболку и снова убирает кровь.
— Мой родной, мой хороший, — плачет она. — Ну как же так… Что я наделала…
Вспоминает про вакидзаси в кармане куртки, достаёт его и перерезает узлы, стягивающие руки мальчишки. Жиль смотрит на неё с благодарностью, пытается улыбнуться.
— Они ниче… тебе не…
— Нет-нет, — торопливо заверяет Акеми. — Ничего не сделали, не волнуйся.
— Мне не… не больн…
Он снова кашляет кровью, пытается повернуться на бок, но тело не слушается. Девушка помогает ему, укладывает рядом с собой, поглаживает щёку кончиками пальцев.
— Только не засыпай, Жиль! Мой родной, не спи, — просит она. — Смотри на меня. Пожалуйста, смотри на меня. Храбрый мой, заботливый, не спи.
Он силится что-то сказать — и не может. Кровь капает с тряпки, которую Акеми придерживает у его рта, впитывается в землю. Взгляд широко раскрытых глаз устремлён на девушку — но проходит несколько минут, ресницы Жиля мелко дрожат, веки опускаются.
— Нет-нет-нет! — Акеми тормошит его за руку, целует исчёрканную шрамами щёку. — Не спи! Не засыпай, Жиль! Нет!
Вдох. Вдох. Вдох. Короткий хриплый выдох. Сердце колотится, слишком торопится, запинается раз, другой. Вдох. Ещё вдох — резкий, такой громкий, что Акеми вздрагивает.
— Открой глаза… — умоляет она тихонько. — Пожалуйста, посмотри на меня!
Она сидит, поглаживая раскрытую ладонь, и вслушивается в стук собственного сердца, пытаясь уловить хоть что-то ещё. Где-то в доме над ней ходят люди, что-то падает и гремит, хлопают двери. Акеми смотрит в одну точку — на крохотную сияющую в падающем свете каплю на ресницах Жиля.
— Мне пора.
Девушка поднимает голову — и встречается с Жилем глазами. Мальчишка стоит рядом с ней, смотрит виновато.
— Я вернусь, сэмпай. Я скоро вернусь.
Голос гаснет, тает в тишине. Там, где только что стоял Жиль, лишь бетонная стена. И тут Акеми понимает, что шрамов на лице Жиля не было.
Она кричит так громко и отчаянно, что за ней в погреб спускаются Клод и Мартен. Пока Клод удерживает закатывающуюся в истерике девушку и засыпает ей в рот горсть синтена, Мартен присаживается на корточки, трогает артерию на шее Жиля. Сокрушённо качает головой и вздыхает:
— Всё. Эх, малыш… Лети под Купол с миром.
Ксавье Ланглу стоит в центре молельного зала и смотрит вверх. Там, высоко под сводами — небо и звёзды. Древние считали, что небо — обитель Бога. Ошибались. Бог живёт в людях. А небо — это его всевидящие глаза. Про это отцу Ланглу вчера сказала Амелия.
— Отец Ксавье, выходит, в Соборе Бога нет? — спросил кто-то из малышей лет десяти. — Если он в людях-то…
— Есть, — возразила Амелия. — Но тут он не видит, потому что небо нарисованное. Ему глаза замазали краской.
Дети зашумели, принялись спорить, почти до драки дошло. Только Амелия во всём этом не участвовала: ушла в дальний угол, забралась с ногами на скамью и уселась, поглаживая спрятанный под платьем шар.
Сказанное про краску не шло у Ксавье из головы с самого утра. Он сам, запертый в стенах Собора, чувствовал себя слепым. «Я будто вижу картинку, нарисованную на внутренней стороне век, — думает он. — Но это совсем не то, что видел бы, открыв глаза. Надо выйти отсюда. Только тогда я увижу».
Шуршат по мозаичному полу подошвы сандалий. Поступь лёгкая, женская. Отец Ланглу успел выучить её за неполные две недели.
— Полдень, отец Ксавье, — окликает Сорси из-за спины. — Мы ждём только вас. Ребята разбиты на группы, как вы и просили. Служки все ушли, я сама за ними заперла дверь.
— Хорошо. Ещё минуту, пожалуйста.
Нарисованное небо под сводами равнодушно смотрит на священника. Спрашивай — промолчит, не ответит.
— Пойдёмте, прошу! Там снаружи подтягиваются полицаи!
Сорси тянет его за рукав — настойчиво, отчаянно. Но это всё равно, что пытаться сдвинуть скалу.
— Мадемуазель Морье…
— Он не вернётся! Вы же сами знаете, что не вернётся! — восклицает она. — Вы просите минутку уже второй час! Отец Ксавье, миленький, я точно так же его жду, как вы, но там в подвале дети! Они ждут вас, они без вас не пойдут!
Он кладёт тяжёлую широкую ладонь ей на макушку, всё так же глядя вверх. Сорси виснет у священника на руке, не переставая умолять:
— Пойдёмте! Я знаю, это ваш мальчик, он очень вам дорог, но… Мы сейчас все — ваши, отец Ксавье! Вы нам очень нужны, пожа-алуйста!
Снаружи по входной двери стучат, и голос Бастиана Каро требует:
— Отец Ланглу, откройте двери. Впустите моих людей, и никто не пострадает. Я гарантирую вам это лично. Детям будет обеспечена безопасность и неприкосновенность.
— Они пришли! Ну что же вы стоите!
Девушка с такой силой дёргает священника за руку, что оба едва не падают. Ксавье бросает взгляд на дверь: засов надёжен, на какое-то время незваных гостей задержит. Баррикады из скамеек, которые они со старшими детьми строили всю ночь, тоже помогут выиграть время. Солнечные лучи пробиваются в молельный зал сквозь витражи верхнего края окон — там, куда не удалось забросить мешки с землёй. Свет падает на рукоять катаны, лежащей перед отцом Ланглу на амвоне. Ксавье бережно устраивает меч в ножнах и спешит за Сорси. Девушка несётся впереди, придерживая под мышками закреплённые в кобуре автоматы. Ксавье был против огнестрельного оружия: это лишь спровоцирует полицию. Но рыжая заявила, что она умеет с этим обращаться и что детям нужен шанс на защиту. Священник на это промолчал, но винтовки у пятерых подростков отнял.
— Никакой стрельбы, ребята! Не испытывайте судьбу. Первые пули полетят в того, кто вооружён, — грозно сказал он.
Сорси на это лишь фыркнула.
Вдвоём они выбегают во внутренний дворик Собора, спрятанный от посторонних глаз в четырёх глухих стенах. Мелкие камешки в центре двора разметены, виднеется периметр двери, ведущей в подвал. Ксавье тянет ржавое толстое кольцо на себя, открывая вход в подземелье. Сорок три ступени вниз — и вот уже священника обступает толпа испуганных, притихших детей. Где-то впереди всхлипывают малыши.
— Ребята, посмотрите внимательно друг на друга, — просит Ксавье. — Никто не потерялся? Все здесь?
Дети перешёптываются, зовут друг друга по именам.
— Амелия?
— Я тут.
Она подходит к священнику, вкладывает маленькую руку в его ладонь. Вторая рука поддерживает спрятанный под платьем стеклянный шар. Вот как она с ним побежит? Но и куда она без него…
— Тома? Себастьен? Жан-Паскаль? — окликает отец Ланглу своих провожатых.
— Здесь, — звучит далеко впереди. — Идём?
— Идём. Ребятки, помните: очень тихо, быстро и слушаемся старших! — напоминает священник.
— Играем в путешествие! — таинственным голосом сообщает Сорси. — А кто первый скажет слово, тот моет полы в туалете!
Малыши хихикают, старшие дети сдержанно улыбаются. Процессия впереди приходит в движение, и Амелия уверенно тянет отца Ксавье за собой. Он идёт, погружённый в свои мысли, прислушиваясь к тишине, оставленной позади.
«Где же ты, сынок? Ты всегда держал своё слово, помнишь? Что же случилось, почему ты не вернулся? Если бы меня слушал Бог, я молил бы его, чтобы ты просто сбежал. Но Бог глух и слеп, а ты никогда бы так не поступил. Вы с Вероникой всегда были удивительно сильны и терпеливы. Я плохо знал вашего отца, но почему-то думаю, что вы оба похожи на него. Говорят, Советник Бойер был очень жизнелюбивым и справедливым человеком. И ты такой, Жиль. Ты тянешься к свету, ты сам и есть свет и несёшь его людям. Я никогда не говорил тебе, как тяжело мне было смириться с твоим уходом из Собора. Я разумом принял твой поступок, но сердце тебя так и не отпустило. Сынок, вы с Веточкой — мои вдох и выдох. Вы мои столпы мира. Если есть у Азиля живая душа, то я точно знаю: она разделена пополам и заключена в брате и сестре Бойер. И в ней — вся красота маленького, обречённого мира. Всё сосредоточено в вас: ум, терпение, жизнелюбие, верность, любовь, отвага и самоотверженность. Веточка, почему я всё ещё чувствую тебя здесь? Жиль, отчего мне кажется, что ты сейчас меня слышишь?..»
Где-то по краю области зрения скачет яркий блик. Словно маленький Жиль играет с зеркалом. В детстве это был его любимый трюк: пускать солнечный зайчик рядом с лицом Ксавье так, чтобы тот его не заметил.
Слезятся глаза. Жиль, не надо. Дети не должны видеть, как мой мир осыпается осенними листьями.
— Отец Ксавье, — Амелия щекочет пальчиком его ладонь. — Ладно, я помою туалет. Можно, я скажу?
В горле ком. Он просто кивает.
— Мама тут. Сказала, что всё будет хорошо.
Ксавье благодарно сжимает маленькую ладошку девочки. Странный ребёнок. В ней чужая кровь, но до чего же это дитя Веточки…
Тоннель впереди ветвится, и священнику приходится сосредоточиться, чтобы проследить за детьми, которые могут свернуть не туда. Кто-то из младших спотыкается, падает, и под сводами Подмирья раздаётся оглушительный рёв. К плачущему малышу спешит Сорси, подхватывает на руки, что-то шепчет, укачивает.
«Как же мы их всех доведём? — тревожится Ксавье. — И самое главное — куда?»
Он глядит на них — чистых, накормленных — и понимает, что неважно, куда они идут. Важнее, что никто не будет смотреть на его детей через прицел.
Метров через триста внезапно гаснет свет. По толпе проносится перепуганный визг, плач.
— Тише-тише! — пытается успокоить ребят Ксавье. — Мы вместе, ничего страшного нет. Это просто кто-то большой закрыл глаза. Закроем глаза. Это же не страшно?
Кто-то из провожатых впереди включает фонарь, и луч света гладит взволнованных детей по головам. Старшие держат самых маленьких на руках, следуя примеру Сорси. Ксавье переводит взгляд вниз: Амелия прижимается к его ногам. Амелия и ещё человек семь. Шагу невозможно ступить.
— Всё хорошо, — улыбается Ксавье. — Мы уже скоро придём. Это просто приключение у нас на пути. Идём за лучом света, скорее.
«Я не помню их имён, — с сожалением думает он. — Их так много, а я почти никого не помню. Это же так важно, когда к тебе обращаются по имени…»
Бетонный пол под ногами сменяется брусчаткой. Значит, они спускаются. Ещё метров семьсот — и выход на нижний уровень, который напрямую выведет их за черту Второго круга, на берег Орба. Там, где Ксавье оставляет лодку, когда посещает Ядро.
Амелия снова подёргивает священника за рукав. Он останавливается и склоняется к девочке.
— Что такое, конопушка?
Малышка напряжённо вглядывается в темноту позади них.
— Не надо туда.
— Куда?
— Туда, куда идём.
— Почему?
Лицо Амелии в пляшущем свете от фонаря выглядит пугающе. Тёмные, унаследованные от отца глаза смотрят куда-то за Грань. Ксавье почти не сомневается, что этот ребёнок видит больше других.
— Глубоко там.
Пока Ксавье размышляет над значением её слов, впереди возникает замешательство. Дети останавливаются, по толпе бежит гомон. Сорси с кудрявым мальчуганом на руках беспокойно озирается. Вдоль стены тоннеля к священнику пробирается один из старших мальчишек, Рауль.
— Отец Ксавье, дальше нет дороги, — докладывает он, стараясь держаться спокойно. — Там вода. Месье Йосеф просил вам передать.
Отец Ланглу пробирается вперёд, осторожно лавируя между детьми. Ловит их доверчивые взгляды, ободряюще улыбается. Нельзя показывать им, что всё идёт не так. Ни в коем случае.
Под ногами хлюпает, сандалии мгновенно промокают. Дети рядом переминаются с ноги на ногу, показывают друг другу вниз. Ксавье не нужно даже присматриваться, чтобы понять, что вода прибывает.
— Тома! — зовёт священник.
— Отец Ксавье, шлюзы! Они открыли шлюзы! — доносится со стороны идущих впереди. — Все назад! Уходите!!!
— Младших на руки! — командует Ксавье громко и спокойно. — Ребята, идём другой дорогой. За мной!
По щиколотку в воде он спешит назад, по пути подхватывая под мышки двух малышей лет четырёх. Несколько минут спустя его догоняет Сорси.
— Куда мы теперь? — спрашивает она. Голос дрожит.
— Возвращаемся к развилке. Попробуем выйти через левый тоннель.
— Куда он ведёт? — допытывается девушка. — Что там?
Ксавье Ланглу молчит.
«Там тупик, девочка. Туда Себастьен и Жан-Паскаль привозят нам продукты. Туда же приносят почту из Ядра для Седьмого. Там просто подземный ангар, в котором мы попробуем разместиться и сообща решить, как быть дальше».
На развилке священник останавливается, пропускает вперёд Сорси:
— Веди. Я дождусь наших проводников и посмотрю, не отстал ли кто из ребятишек.
Дети проходят в сторону ангара, и никто не замечает, как Амелия отделяется от своей группы и идёт вдоль стены назад, к Собору. Девочка смотрит вверх — туда, где мерцает крыльями маленькая серебристая бабочка, и неотступно следует за ней.
— Амелия! — спохватывается Ксавье Ланглу. — Малышка, где ты?
Со стороны ангара ему вторит истошный визг и треск автоматной очереди. Не раздумывая, Ксавье бросается туда, выхватывая катану из ножен.
Он успевает увидеть сгрудившихся в центре ангара детей. Сорси — живую, перепуганную, руками зажимающую рану на плече Жана-Паскаля. И людей с автоматами, сгоняющих ребятишек в испуганную, плачущую толпу. Что-то наваливается на Ксавье Ланглу сверху, шею давит проволочная петля, и яркий свет неоновых ламп ангара уплывает во тьму.
В полдень к Собору стекаются люди. Поодиночке, парами, группами. Молодые, пожилые. Женщины и мужчины. Одни бредут с пустыми руками, другие прячут под одеждой оружие. Рене Клермон и его люди тоже здесь, в толпе. Незаметны, безлики. Рене напряжён, сосредоточен, рассматривает полицейских, стоящих двойной цепью у храма. Рядом с Шаманом Акеми: потухший взгляд медленно блуждает по лицам окружающих, штормовка на голое тело покрыта подсыхающими пятнами крови, подвёрнутые чужие штаны то и дело сползают на бёдра.
Слух разнёсся быстро: полиция будет штурмовать Собор. Слово «дети» не сходит с уст, вспыхивает в толпе то там, то тут. Народ шумит, женщины с мольбами и проклятьями напирают на оцепление. Полиция с трудом сдерживает толпу пластиковыми щитами. Им приказано не стрелять. За их спинами сияет кристаллами синего льда стена и левая колокольня Собора. Он нарос за считанные часы и продолжает набирать массу, распускаясь полуметровыми сталагмитами на вытоптанной траве.
Советник Каро в бронежилете стоит на ступенях у пролома в стене Собора. Похрустывают под ногами осколки разбитого витражного окна. Глухо стонет на одной ноте остывающий мотор бульдозера. Осыпаясь с краёв пролома, стучат по отвалу камни. Изнутри храма — ни звука. Абсолютная тишина покинутого здания. Бастиан смотрит на лежащие в ладони часы: семь минут назад в Собор ворвались три десятка лучших бойцов полиции. Целую вечность назад.
— Советник, отойдите с открытого места, — окликает его Канселье.
Начальник полиции отходит от выстроенных двойной цепью подчинённых, напряжённо оглядывает толпу.
— Не рискуйте. У любого из стоящих по ту сторону может быть автомат, — негромко говорит он Бастиану.
— Не «может быть», а есть, — безразлично откликается Каро. — Убьют меня — получат своих отпрысков мёртвыми. Полагаю, они это понимают.
— Напомнить не лишне, — замечает Канселье.
Бастиан кивает. Спускается на несколько ступенек ниже. Вскидывает руки, призывая к тишине, и когда стихает гомон, начинает говорить. Слова всегда давались ему легко. Но не сегодня. Сегодня от его слов зависит слишком многое.
— Люди Азиля! Послушайте меня! Я, Бастиан Каро, Советник Азиля, пришёл говорить с вами, — громко и чётко обращается он к толпе.
Его обрывают свистом и улюлюканьем. Из толпы летят камни, мусор, воздух прорезает одиночный выстрел. Полицейские вскидывают автоматы, но не стреляют.
— Вы можете не слушать. А я могу приказать открыть огонь, — спокойно продолжает Бастиан. — Мы можем всё оставить, как есть. Мы можем разрушить город, можем уничтожить управляющую систему. Перебить друг друга. Хотите?
Толпа неуверенно шумит. Бастиан ловит заинтересованные взгляды, улыбается про себя: да, его будут слушать.
— Я хочу мира. Хочу, чтобы город жил. Чтобы люди могли работать и есть каждый день. Чего хотите вы, последний оплот человечества?
— Верни детей, подонок! — несётся из толпы. — Прекратите бойню! Накормите нас!
— Я вас слышу, — удовлетворённо кивает Бастиан. — Теперь и вы слушайте. Ни один волосок не упадёт с голов ваших детей. Снабжение продуктами и работа медслужб и соцобеспечения будет восстановлена. В кратчайшие сроки — и я лично отвечу за это. Из заключения сегодня же будут освобождены потомки Японии. Все обвинения с них сняты. Убийца моего брата найден и понесёт наказание.
Где-то в толпе вздрагивает Акеми Дарэ Ка и поднимает голову, прислушиваясь. Люди шумят, переговариваются. Бастиан держит паузу, дожидается, пока толпа усвоит сказанное. И когда шум немного утихает, продолжает:
— Это то, что Ядро в моём лице обязуется выполнить. Теперь условия, без выполнения которых ситуация останется прежней. Сдайте оружие и вернитесь на рабочие места.
— Добрый какой! Сам-то веришь себе? — выкрикивает звонкий женский голос.
Люди смеются. Над толпой снова проносится свист. Бастиан сдерживает вздох. Всё нормально, они имеют право на сомнения. Голодные, злые, напуганные. Они в своём праве. А он — в своём.
— Дослушайте.
На это раз он молчит дольше, дожидаясь полной тишины. Необходимо, чтобы не просто слушали, но и слышали.
— Совет Семи будет переизбран, — чеканя слова, говорит Бастиан. — По окончании режима чрезвычайного положения система управления Азиля будет пересмотрена. Вы сейчас узнаёте это первыми, раньше, чем жители Ядра. Сейчас перед вами я вношу своё предложение. Ядро оставит за собой часть управленческих функций. Часть же Совет передаст людям из вашего окружения. Три представителя Второго круга и по одному из каждого жилого сектора Третьего. И как быстро заработает эта система — зависит только от вас.
Собор за спиной Советника Каро оживает, расцветает детскими голосами и отрывистыми репликами взрослых. Бастиан тут же забывает о толпе, застывает, глядя в сторону обрушенного участка стены.
— Вот и отлично, — вполголоса комментирует Канселье. — Значит, расчёты верны. Вот и гарантии того, что стадо задумается и будет паинькой.
Первыми выходят трое в серых мундирах и с оружием в руках. За ними из пролома выбираются двое подростков, каждый ведёт за руки малышей лет трёх-пяти. Следом идут дети постарше, за ними ещё и ещё.
— Спускаемся и строимся у стены! — холодно распоряжается Канселье.
Толпа ахает, напирает на оцепление. Женщины выкрикивают имена своих детей, кто-то из ребят отвечает, дёргается в сторону матерей, но полицейские загоняют их в строй.
— Не стрелять! — громко напоминает Бастиан, не сводя глаз с вереницы выходящих из Собора детишек.
Взгляд шарит по лицам ребятни, ищет — и не находит. Бронежилет вдруг становится тяжёлым и жарким, пот стекает по спине, ворот рубахи давит горло. Так трудно оставаться Советником Каро, когда хочется броситься туда, в пролом, искать её, свою единственную bien-aimé, ради которой он сейчас здесь, а не отсиживается в Ядре. Но надо сохранять спокойствие, стоять на месте и смотреть в глаза каждому ребёнку, который выбирается по обломкам и спускается мимо него по ступенькам. «Это страшнее, чем самому быть в эпицентре перестрелки, — понимает Бастиан. — Нет ни напускного героизма, ни ненависти. Слёзы. Отчаяние. Страх. Эти дети запомнят, как ждали, что в любой момент по ним откроют огонь. Такое на всю жизнь останется».
Дети идут и идут. Хмурые подростки с напряжёнными лицами несут на руках зарёванных малышей. Девочки чуть старше Амелии держатся за руки, утешают друг друга, стараясь не смотреть на вооружённых полицаев. Дети спускаются по ступенькам и становятся вдоль стены, спинами к вооружённым людям и толпе. Бастиан ловит случайные взгляды, и ему становится тоскливо и жутко.
— Если и это моя ошибка… — шепчет он одними губами. — Где был верный выход?
Последними выходят взрослые: Ксавье Ланглу идёт, опираясь на плечо оружейника Тома Йосефа, рядом с ними Бастиан с удивлением видит рыжую подружку Рене Клермона. У девицы на руках кудрявый малыш лет трёх. Он смотрит Бастиану в душу тёмными, как спелая вишня, глазищами. Советник Каро отворачивается, жестом подзывает Канселье.
— Моя дочь, — запинаясь, говорит он. — Её нет среди них.
— Седьмой солгал? — приподнимает бровь начальник полиции.
Быстрым шагом Бастиан догоняет процессию, толкает священника в спину, обтянутую мокрой от пота рубахой. И мгновенно оказывается оттеснённым в сторону ребятнёй. Больше двух десятков детей становятся живым заслоном вокруг Ксавье Ланглу и Сорси Морье.
— Не трогайте! Прочь, месье! — звучат звонкие голоса мальчишек и девчонок. — Не прикасайтесь! Отец Ксавье, мы вас им не отдадим!
Один из полицаев даёт над головами детей автоматную очередь.
— Вниз! — командует Седьмой, и ребятишки послушно ложатся на ступени.
Бастиан поражённо смотрит на трёх девочек и четверых старших мальчишек, укрывающих собой Ксавье Ланглу и рыжую девку с орущим малышом на руках. Смотрит — и не может понять.
— Мари! — рыдают в толпе матери. — Пьер! Валери! Сезар! Кристо-оф!..
Дети у стены оглядываются, ищут взглядами родных. Одни робко улыбаются, другие плачут. Полицейские растерянно поглядывают на командование. Ждут распоряжений.
— Люди Азиля! — громко обращается Бастиан к толпе. — Ваши дети будут отпущены по домам, как только вы сложите оружие! Время пошло!
Меньше чем через минуту под ноги полицейских падают автомат и два арбалета. Женщина, что принесла оружие, виснет на краю пластикового щита и зовёт:
— Валери! Родная! Верните мою дочь!
Девчонка лет тринадцати, обнимающая Ксавье Ланглу, оборачивается.
— Я не уйду, мама! — кричит она. — Забери Жана вместо меня! За ним некому же… Жан Флёри! Жан! Скорее беги к моей маме!
Дети расступаются, пропуская светловолосого карапуза в одной длинной рубашке с обрезанными рукавами. Ребёнок бесстрашно проталкивается под ногами стоящих в оцеплении, и его тут же подхватывают чьи-то руки. На землю бросают обрезки труб, отобранные в столкновениях автоматы, самодельные арбалеты. Люди выкрикивают имена своих детей, волнуются. Странно: далеко не все дети тут же бросаются к матерям. Некоторых полицейским приходится отрывать от священника и его рыжей помощницы. Подростки напрочь отказываются уходить, стоят возле отца Ланглу плотным заслоном.
Бастиан отворачивается. Они не должны видеть, как мечется внутри него Зверь — пленённый в глубине зрачков белый морской хищник. Зверь тихо скулит, призывая ту единственную, что есть у него в этом мире.
— Канселье…
— Да, Советник?
— Доложите о жертвах операции.
— Жертв нет, месье Каро. Сработано чисто, стреляли в воздух, ни один ребёнок не пострадал. Среди взрослых двое ранено, но ничего серьёзного.
— Тогда где моя дочь? — не выдержав, кричит Бастиан.
Его вопль катится над толпой, заставляя людей притихнуть. Маленькая девочка в мокром, перемазанном грязью и ржавчиной светлом платье, вздрагивает, услышав отцовский голос. Она только что вылезла из сточной трубы, выходящей из обрывистого берега прямо к Орбу, и теперь со страхом озирается вокруг. Ей надо выбрать, куда идти, но когда тебе шесть, и ты в незнакомом опасном месте, решиться так трудно.
В тот же момент Рене Клермон прислушивается к чему-то посреди бушующей толпы, морщится, как от сильной боли, и, работая локтями, проталкивается в сторону набережной. Акеми Дарэ Ка покорно бредёт за ним. Синтен делает своё дело, и девушка смотрит на мир словно издалека, плохо осознавая, что вокруг неё происходит.
— Шаман! Куда? — окликает его растерянный Клод.
Рене улыбается, опустив голову. Улыбка выходит жутковатая.
— Последняя просьба, — с трудом выговаривает он. — Прикройте.
— Ты спятил? Тут вся полиция, толпа детей…
— А, и правда! Ну, можете поцеловать ноги Каро и завтра вернуться на работу.
Шаман делает шаг вперёд, и толпа скрывает его. Несколько секунд — и он уже стоит перед кудрявой рыжей крохой на берегу Орба. Амелия опасливо смотрит на него снизу вверх, пятится, обнимая стеклянный шар под мокрым платьем.
— Здравствуй, искра, — Рене присаживается перед девочкой на корточки, протягивает раскрытую ладонь. — Вот ты какая, оказывается.
Амелия растерянно моргает, трогает его пальцы. Несмело делает шаг навстречу.
— Здравствуй, принц. Ты совсем такой, как в маминой истории. Сейчас ты скажешь, что меня хочет Бог, — говорит она. — Мне это уже снилось.
— Бог? — задумчиво переспрашивает Рене. — Ну… да, наверное.
— Я пойду с тобой. Но у тебя не получится.
Рене поспешно кивает, перехватывает малышку за руку и ныряет обратно в толпу. Тут к нему присоединяются Клод, Акеми и Мартен.
— Шаман, ты охренел? — Мартен негодует. — Отпусти девочку, уже ничего не изменить, мы проиграли!
— Это вы проиграли, — невозмутимо отвечает Рене, пробираясь вперёд. — Не я.
Клод вскидывает автомат вверх, даёт короткую очередь в воздух. Толпа ахает, люди кидаются врассыпную. Рене подхватывает Амелию под мышку и шагает прямиком к Собору. Акеми идёт за ним, и одна мысль крутится у неё в голове: «Почему она не сопротивляется?»
Хаос. Толчея. Сухо хлопают выстрелы, кто-то падает, увлекая за собой бегущих рядом. Акеми толкает перепуганная женщина с маленьким ребёнком на руках, девушка с трудом удерживается на ногах, теряет из виду Рене. Она шарит взглядом по кипящему людскому морю, мечется то вправо, то влево.
— Не стрелять!!! — гремит над толпой голос Бастиана Каро.
Он сбегает со ступенек, проталкивается через людское месиво к Шаману. С десяток полицейских спешат следом, расчищая дорогу. Рене останавливается в нескольких шагах, вскидывает девочку на руки, прижимает к себе.
— Дорогу! — требует он. — Не приближайтесь!
Амелия с любопытством смотрит на ярко-синие ростки, прорезающиеся сквозь браслет на запястье Рене. Ростки тянутся к её лицу, будто живые. Бастиан останавливается, словно налетев на стену, медленно поднимает руки вверх. Люди разбегаются, и вот уже Советник Каро и Шаман одни перед оцеплением.
— Отпусти её, парень, — просит Бастиан. — Она просто ребёнок…
Голубой сияющий стебелёк сплетается с медно-рыжим локоном. Амелия косится на него с опаской, покрепче прижимает к себе сосуд с цветком. Переводит взгляд на отца — и глаза её наливаются слезами.
— Я не пойду… — шепчет она. — Там Зверь.
— Отпусти её. Пожалуйста, отпусти.
— С дороги, Каро! И людей своих отзови.
Рене встряхивает Амелию, и ледяные стебли выпускают сияющие шипы. Девочка вскрикивает, жмурится от страха.
Растрёпанная, задыхающаяся Акеми Дарэ Ка налетает на Шамана с разбегу, будто пытаясь заслонить его собой. Мгновенье они так и стоят втроём: Рене, держащий одной рукой Амелию, и обнимающая его за шею Акеми. Потом сияние льда на запястье Шамана гаснет, и кристаллы с тихим шорохом ссыпаются на истоптанную траву. Перепуганная Амелия выворачивается из захвата, обнимает свой драгоценный шар под подолом и стремглав несётся к Собору. Забыв обо всём, Бастиан бежит за ней.

Акеми опускает правую руку и делает шаг назад. Рене провожает её растерянным взглядом, смотрит вниз. Касается рукоятки маленького вакидзаси, погружённого в его живот, и оседает на землю. Акеми опускается рядом с ним на колени, тянется к мечу и так и замирает — правой рукой касаясь рукояти, левой зажимая себе рот. Плачет.
Площадь перед Собором заволакивает туманом. Пульсируя тёмной синевой, потрескивает лёд под стеной храма. Над Орбом туман сгущается, заставляя тех, кто не разбежался, в испуге отступить к ступеням Собора. Дети жмутся к отцу Ксавье, Сорси монотонно шепчет молитву.
Амелия скачет по ступенькам лестницы в колокольне, глотая слёзы. Она слышит, как за ней крадётся Зверь. Она чувствует его присутствие, знает, что он идёт по её следам.
— Мама! — кричит Амелия, и эхо разносит её зов по Собору. — Мамочка, помоги! Мама, мне страшно!
С барельефов колокольни смотрят на девочку равнодушные предки. Каждый из них занят своим делом. Учёные, врачи, строители, военные…
Лестница заканчивается маленькой каменной площадкой. Амелия жмётся спиной к балюстраде и отходит дальше от входа.
— Амелия, — зовёт Зверь. — Это папа! Где ты, bien-aimé?
Девочка мечется по площадке — и вдруг понимает, что прятаться больше негде. Она смотрит сквозь столбики каменного ограждения вниз, коротко вздыхает и достаёт из-под подола шар. Цветок плавает в своём маленьком мире, спокойно колыхая яркими лепестками. Амелия прижимается щекой к стеклянному сосуду, ставит его на поручень балюстрады. Разбегается, подпрыгивает, хватается за каменную завитушку и залезает следом. Осторожно переступая и балансируя раскинутыми в стороны руками, малышка идёт по перилам к одной из колонн. Там можно будет спрятаться, прислонившись спиной. Стать маленькой, как Миу-Мия. Зверь не заметит.
Перешагивая через сосуд с цветком, Амелия задевает его. Покачнувшись, девочка удерживает равновесие, хватается за колонну. Стеклянный шар кренится набок, прокатывается по перилам и падает вниз. Амелия провожает его взглядом, губы дрожат, по щекам катятся крупные слёзы.
— Плохой сон, — говорит она. — Зачем ты сбываешься?
У стены Собора отец Ксавье слышит её голос и поднимает голову. Видит маленькую фигурку девочки высоко вверху. Девочка садится на поручни, свешивает ноги вниз, через край. Зажимает пальчиками нос, будто собирается прыгнуть в бассейн.
— Амелия, нет!!!
— Богу не нужен Маленький принц, — завершает девочка. — Богу нужен Лис.
Всё случается одновременно: Бастиан Каро вылетает на площадку колокольни, отец Ксавье бросается к острым ледяным шипам у стены башни, и маленькая Амелия Каро легко отталкивается от колонны и, раскинув руки, прыгает вниз…
…в руки Ксавье Ланглу. Священник и девочка падают в сияющую ледяную синеву, распускающуюся под ними яркими цветами и нежно-зелёной листвой. Толпа перед Собором изумлённо ахает. Полицейские пятятся, многие бросают оружие и осеняют себя крестным знамением. Дети ликующе вопят и несутся вытаскивать отца Ксавье и рыжую малютку из зарослей зелени.
Акеми поднимает голову и прислушивается. Мир наполняется шорохами листвы и непривычным свежим запахом. Из-под ног лезет молодая трава — мягкая, шелковистая, совсем не похожая на колючки Третьего круга. Акеми смотрит вокруг: льда больше нет, только туман и цветы.
В проломе соборной стены туман сгущается, постепенно принимая очертания человеческой фигуры. Серое бесформенное платье, белокурые локоны, уложенные в строгую причёску, взгляд, тёплый и кроткий, устремлённый на Амелию и Ксавье.
— Мама!!! — радостно кричит девочка и со всех ног несётся к женщине, вышедшей из тумана.
Вероника подхватывает дочь на руки, прижимает к себе. Амелия осыпает её щёки поцелуями, оборачивается и восторженно зовёт:
— Отец Ксавье! Ну что же вы? Мама вернулась! Она настоящая!
Бастиан Каро садится на каменный пол колокольни и закрывает лицо ладонями. Всё, что есть у него отныне — память о том, что теперь навсегда потеряно. Остался только дикий ужас, с которым оглянулась на него перед прыжком единственная дочь. И безмятежное лицо женщины, что восемь лет назад он назвал своей женой.
Молодая женщина с Амелией на руках медленно идёт к краю лестницы Собора и останавливается на верхней ступеньке. Обводит взглядом притихших людей и негромко говорит:
— Он сказал: хватит крови. Живите. Растите детей. Он дал вам Азиль как спасение, вы же сами превратили его в руины. Но Он милосерден. Он прощает.
— Смерти нет? — весело спрашивает Амелия, болтая ногами.
— Есть. Но если я правильно Его понял, Бог может и передумать, конопушка, — отвечает Ксавье Ланглу и улыбается. — Кто ж Ему запретит…
По мосту в тумане бредёт старый нищий, бережно баюкая в руках пустоту. Губы его медленно шевелятся, глаза сияют.
— Самэ ама-алаа… Оро келена, — звучит будто из ниоткуда. — Оро келе-ена-а, дивэ келена… Са о рома…
— Са о рома, бабо, бабо, — вторит Вероника. — Са о рома, о дайе…
На руках нищего возится и хнычет младенец. Среди белоснежных пелёнок мелькают маленькие ручки и ножки. Акеми медленно поднимается с колен, не в силах поверить в то, что видит.
Старик опускает младенца на землю. Смотрит на него с улыбкой.
— Возвращайся, — звучит голос из ниоткуда. — Иди же к ней.
Ребёнок перестаёт плакать, садится. Смотрит на Акеми и неуверенно встаёт на ноги. Делает первый шаг. Малышу год, ветер чуть колышет светлый нежный пушок на макушке. Ещё шаг — уверенный, настоящий. И ещё. И следующий. Четыре года. Пять. Вокруг талии малыша повязана пелёнка, но Акеми точно знает, что это мальчик. Шаг. Ему шесть, он плачет, пряча лицо в ладонях. Алые рубцы ожогов вздуваются на гладкой коже левого плеча. Шаг. Ещё шаг. У мальчишки безмятежно-синие глаза и волосы цвета спелой пшеницы, собранные в хвост на макушке. Шаг — и длинная чёлка падает на левую щёку, скрывая шрамы. Шаг. Другой. Третий. Худенький подросток встречается глазами с Акеми Дарэ Ка.
— Жиль… — зовёт она тихо-тихо, боясь до оторопи, что он не вспомнит её.
Мальчишка делает ещё два шага и останавливается. Акеми не выдерживает, несётся к нему, обхватывает с разбегу, стискивает в объятьях.
— Сломаешь, сэмпай, — шепчет он ей на ухо.
Акеми утыкается носом в родинку под его левой ключицей, и выдыхает:
— Не вздумай…
— Не уйду. Больше никогда. Вот так вот.
Ветер разгоняет остатки тумана, и солнечный свет льётся на зеленеющие поля, шумящие листвой сады — на многие-многие километры вокруг города. Люди стоят и смотрят, как тают, исчезая, тонкие серебряные нити там, где прежде был Купол над Азилем.
Старый нищий медленно уходит прочь от поражённых, опьянённых чудом людей. Его догоняет Амелия, вежливо трогает за руку. Когда старик останавливается, девочка повисает на его шее и целует в щёку.
— Спасибо! — звонко кричит малышка и со всех ног бежит обратно — туда, где стоят, глядя на неё, мама и отец Ксавье.
Бог машет ей вслед рукой и улыбается.
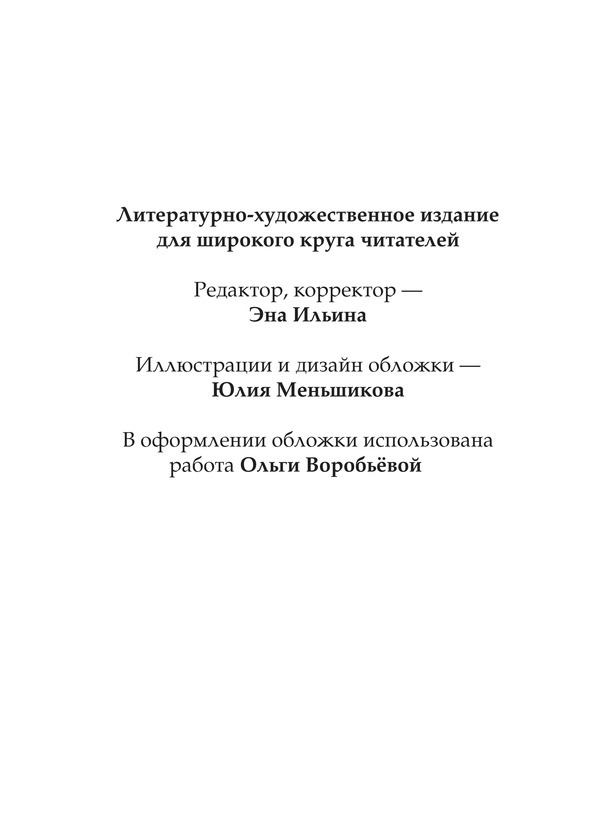
notes
Назад: 15. Libre
Дальше: Примечания

