Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 18. Джузеппе Бальзамо. Часть 1,2,3 1994
Назад: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Дальше: XIII ФИЛИПП ДЕ ТАВЕРНЕ
VI
АНДРЕ ДЕ ТАВЕРНЕ
Наблюдательный Джузеппе Бальзамо отмечал малейшие недостатки в жизни странных обитателей замка, затерявшегося в одном из уголков Лотарингии.
Одна история с солонкой столько ему поведала о характере барона де Таверне! Призвав на помощь всю свою проницательность, он следил за выражением лица Андре в тот самый момент, когда она кончиком ножа провела по серебряным фигуркам, словно замершим после одной из ночных оргий регента, по окончании которых Канильяку вменялось в обязанности гасить свечи.
То ли из любопытства, то ли под влиянием других чувств Бальзамо наблюдал за Андре с такой настойчивостью, что несколько раз в течение, по меньшей мере, десяти минут взгляды их встречались. Сначала чистая, целомудренная девушка выдержала его необычный взгляд без тени смущения. Однако путешественник смотрел все пристальнее. В то время как барон кончиком ножа кромсал шедевр, приготовленный служанкой, Андре почувствовала легкое нетерпение, заставившее ее слегка покраснеть, а затем это нетерпение охватило все ее существо. Она смутилась под странным взглядом Бальзамо, попыталась выдержать его, в свою очередь устремив на него огромные ясные глаза. Но скоро она вынуждена была сдаться, ее веки тяжело опустились под гипнотическим влиянием горящего взора. Теперь она лишь изредка и со страхом взглядывала на путешественника.
Пока шла молчаливая борьба между девушкой и таинственным незнакомцем, барон изрыгал проклятия, хохотал и бранился, как настоящий деревенский сеньор. Он принимался щипать Л а Бри всякий раз, как тот оказывался, к своему несчастью, поблизости от хозяина, а нервное напряжение барона достигало апогея и ему необходимо было кого-нибудь ущипнуть.
Очевидно, барон собирался накинуться и на Николь, как вдруг взгляд его упал на ее руки. Таверне был большим ценителем женской красоты, ради нее он наделал столько глупостей в молодые годы!
— Взгляните-ка, — произнес он, — до чего хороши пальчики у этой мерзавки. Как удлинен ноготок, он вот-вот закруглится, это был бы верх совершенства… если бы не надо было этим ручкам колоть дрова, откупоривать бутылки, чистить кастрюли — все это источило коготки, ведь у вас, мадемуазель Николь, на пальчиках настоящие коготки…
Николь не привыкла к комплиментам барона. С губ ее просилась улыбка, в которой сквозило больше удивления, чем тщеславия.
— Да, — продолжал барон, догадавшись о том, что творилось в сердце юной особы, — побольше кокетства, мой тебе совет! Должен вам сказать, дорогой мой гость, что мадемуазель Николь Леге, которую вы видите перед собой, совсем не такая скромница, как ее хозяйка, комплиментами ее не смутишь!
Бальзамо поспешно перевел взгляд на дочь барона: он заметил в выражении прекрасного лица Андре снисходительное превосходство. Тогда он постарался придать своему лицу соответствующее выражение. Андре заметила это и, должно быть, желая выразить признательность, взглянула на него уже не так смущенно, как до сих пор.
— Поверите ли, сударь, — продолжал тем временем барон, проведя тыльной стороной ладони по подбородку Николь, — казалось, только теперь он заметил, какая она хорошенькая, — поверите ли, что эта чертовка приехала вместе с моей дочерью из монастыря, где получила почти такое же воспитание. Кроме того, мадемуазель Николь ни на минуту не отходит от хозяйки. Такая преданность могла бы вызвать улыбку у господ философов, утверждающих, что у людей этой породы есть душа.
— Сударь, — возразила Андре с недовольным видом, — Николь вовсе не из преданности не отходит от меня, а потому, что я приказала ей всегда быть поблизости.
Бальзамо поднял взгляд на Николь, желая увидеть впечатление, которое произвели на нее слова хозяйки, почти оскорбительные в своей гордыне. По тому, как Николь поджала губки, он понял, что девушка была весьма чувствительна к унижениям, которые ей приходилось испытывать, будучи служанкой.
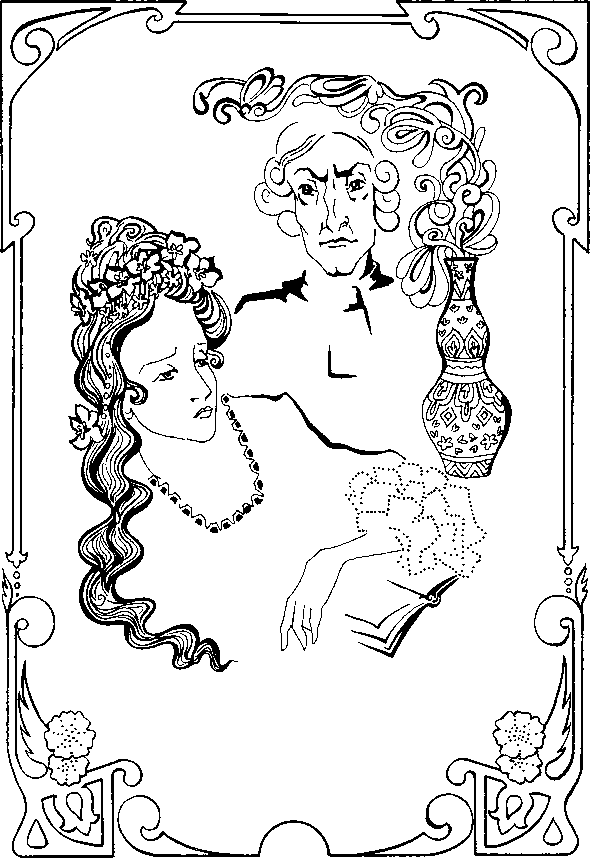
Однако выражение это едва успело промелькнуть в ее лице; когда она отвернулась, чтобы смахнуть набежавшую слезу, ее взгляд упал на окно столовой, выходившее во двор. Бальзамо интересовало все, что могло хоть отчасти прояснить характер действующих лиц, среди которых он оказался волею судьбы; все интересовало Бальзамо, как мы уже сказали, поэтому он проследил за взглядом Николь: ему показалось, что в окне, на которое она смотрела, мелькнуло лицо мужчины.
«В самом деле, — подумал он, — все весьма любопытно в этом доме, у каждого своя тайна; но, я надеюсь, не пройдет и часа, как я узнаю все, что касается мадемуазель Андре. Я уже знаю тайну барона и догадываюсь о том, что скрывает Николь».
Он на миг погрузился в свои мысли, но этого времени оказалось довольно, чтобы барон заметил его задумчивость.
— Вы тоже мечтаете! — вскричал он. — Ну что ж, однако, вам следовало бы, по крайней мере, дождаться ночи. Мечтательность заразительна, и сейчас эта болезнь готова нас одолеть, так мне кажется. Сочтем мечтателей. Прежде всего, грезит мадемуазель Андре. Затем у нас есть еще одна мечтательница — мадемуазель Николь. Наконец, я вижу, как всякую минуту предается мечтам этот бездельник Жильбер, подстреливший куропаток, фантазировавший, вероятно, даже в тот момент, когда охотился на них…
— Жильбер? — перебил его Бальзамо.
— Да, философ вроде Ла Бри. Кстати о философах: вы не из их числа? Должен предупредить, что в этом случае мы вряд ли найдем общий язык!
— Ни да ни нет, сударь, я не знаю, о ком вы говорите, — отвечал Бальзамо.
— Тем лучше, тысяча чертей! Это гнусные скоты, еще более ядовитые, чем безобразные! Они погубят монархию своей болтовней. Во Франции больше не умеют смеяться, все теперь читают, и что читают?! Фразы вроде этой: «При монархическом правлении народу нелегко сохранить добродетель». Или, например: «Истинная монархия есть учреждение, изобретенное с целью развратить народы и поработить их». Или вот еще: «Если королевская власть от Бога, то ее следует рассматривать как болезнь или стихийное бедствие, посланные поразить род людской». Как это все забавно! Добродетельный народ! Кому он нужен, я вас спрашиваю? А все идет скверно, и началось это, понимаете, с тех пор, как его величество имел беседу с господином Вольтером и прочел книги господина Дидро!
В это мгновение Бальзамо показалось, что в окне опять мелькнуло то же бледное лицо. Но оно так быстро исчезло, что Бальзамо не успел его как следует рассмотреть.
— Мадемуазель тоже любит философствовать? — спросил, улыбаясь, Бальзамо.
— Я понятия не имею о философии, — отвечала Андре. — Могу только сказать, что мне нравятся серьезные вещи.
— Ну, мадемуазель, — перебил ее барон, — нет ничего серьезнее, на мой взгляд, чем жить благоденствуя, так любите же такую жизнь.
— Однако, по-моему, нельзя сказать, чтобы мадемуазель не любила жизни, — заметил Бальзамо.
— Все, сударь, зависит от обстоятельств, — возразила Андре.
— Еще одно дурацкое словцо! — воскликнул Таверне. — Поверите ли, сударь, что в точности такие слова я слышал уже от своего сына?
— У вас есть сын, дорогой хозяин? — спросил Бальзамо.
— Господи, да, я имею несчастье быть отцом виконта де Таверне, лейтенанта жандармов дофина; мой сын — прелюбопытный субъект!
Барон процедил последние слова сквозь зубы, словно желая раздробить каждый звук.
— Поздравляю вас, сударь! — сказал Бальзамо, отвесив поклон.
— Да, — продолжал старик, — еще один философ. Все это приводит меня в замешательство, клянусь честью! Вот он мне недавно говорил об освобождении негров. «А как же сахар? — спросил я. — Я люблю кофе с сахаром, и король Людовик Пятнадцатый — тоже». А он мне: «Можно скорее обойтись без сахара, чем видеть, как страдает целая раса…» — «Раса обезьян! — возразил я. — Да и то много будет чести назвать их так». Знаете, что он заявил? Клянусь Богом, должно быть, есть что-то такое в воздухе, что кружит им головы. Он заявил, что все люди — братья! Я — брат какого-нибудь негра из Мозамбика, каково?
— Это уж чересчур!.. — воскликнул Бальзамо.
— Ну, что вы скажете? Что мне повезло, не так ли? У меня двое детей, а нельзя сказать, что я в них найду свое продолжение. Сестра — ангел, брат — апостол!.. Выпейте, сударь… Ох, до чего же отвратительное у меня вино!
— На мой вкус, оно превосходно, — возразил Бальзамо, взглянув на Андре.
— В таком случае вы самый что ни на есть философ! Будьте осторожны, не то я заставлю дочь прочесть вам молитву. Да нет, философы не религиозны. А ведь как удобно иметь веру: веришь в Бога и в короля, вот и все. А в наше время, чтобы не верить ни в то ни в другое, надо сперва очень много узнать и прочесть кучу книг; я же предпочитаю ни в чем не сомневаться. В мое время учились приятным вещам: хорошо играть в фараон, например, в бириби или в гальбик, учились хорошо владеть шпагой, несмотря на эдикты, разорять герцогинь и проматывать собственное состояние, бегая за танцовщицами. Это как раз мой случай: я все имение Таверне спустил на Оперу, и это единственное, о чем я сожалею, принимая во внимание то обстоятельство, что разоренный человек уже не человек. Я вам кажусь старым, не так ли? Так вот это как раз оттого, что я разорен, что живу в берлоге, что на мне истрепанный парик и допотопное платье. Но взгляните на моего друга-маршала: он ходит в платье с иголочки, во взбитом парике, живет в Париже и имеет двести тысяч ливров годового дохода. Уверяю вас, он еще молод, он еще зелен, бодр, отважен! А ведь на десять лет старше меня, сударь мой, на десять лет!
— Вы изволите говорить о господине де Ришелье, не так ли?
— Вот именно.
— О герцоге?
— Да не о кардинале же, черт побери! Так высоко я не метил. Кстати сказать, тому далеко до племянника: он не смог так же долго продержаться…
— Меня крайне удивляет, сударь, что, имея таких могущественных друзей, как герцог, вы покинули двор.
— О, это всего лишь временная отставка. Когда-нибудь я вернусь, — произнес старый барон, взглянув на дочь как-то по-особенному.
Бальзамо перехватил его взгляд.
— Скажите, а господин маршал помогает, по крайней мере, продвинуться по службе вашему сыну? — спросил он.
— Моему сыну? Да что вы, он терпеть его не может!
— Сына своего друга?
— Да, и он имеет на это основание.
— Как вы можете так говорить?
— Черт побери! Так ведь мой сын — философ. Ришелье его просто ненавидит.
— Ну и Филипп платит ему тем же, — произнесла Андре с полным хладнокровием. — Убирайте, Леге!
Девушка, поглощенная тем, что неусыпно следила за окном, не сводя с него глаз, бросилась исполнять приказание.
— Да-а, — вздохнул барон, — когда-то сиживали за столом до двух часов ночи. Правда, было чем поужинать, а когда не могли больше есть, продолжали пить! Но как тут будешь пить плохое вино, если еще и закусить нечем… Леге! Подайте графин с мараскином, если там еще что-нибудь осталось.
— Подайте, — приказала Андре служанке, которая, казалось, ждала знака хозяйки, прежде чем исполнить приказание барона.
Барон откинулся в кресле и, прикрыв глаза, меланхолично вздохнул.
— Вы мне начали рассказывать о маршале де Ришелье, — вновь заговорил Бальзамо.
— Да, верно, я вам о нем рассказывал, — отвечал Таверне и принялся напевать мелодию, такую же меланхоличную, как и его вздохи.
— Если он ненавидит вашего сына, имея лишь то основание, что ваш сын философ, — продолжал разговор Бальзамо, — он, должно быть, сохраняет дружеское расположение к вам, потому что вы далеки от философии?
— Я — философ? Разумеется, нет, слава Богу!
— У вас, я полагаю, предостаточно титулов. Вы были на королевской службе, не так ли?
— Я отслужил пятнадцать лет. Был адъютантом маршала, мы вместе прошли маонскую кампанию, наша дружба началась… хм… подождите-ка… во время осады Филипсбурга, то есть с тысяча семьсот сорок второго по сорок третий год.
— Ага, прекрасно! — отвечал Бальзамо. — Так вы участвовали в осаде Филипсбурга… Знаете, я тоже там был в то время.
Старик подскочил в кресле и посмотрел на Бальзамо широко раскрытыми от удивления глазами.
— Простите, — возразил он, — сколько же вам лет, дорогой гость?
— У меня нет возраста, — отвечал Бальзамо, протягивая свой стакан Андре. Она налила ему мараскину.
Барон по-своему понял ответа гостя, подумав, что Бальзамо имеет причины скрывать свой возраст.
— Сударь! Позвольте заметить, что вы не похожи на солдата, воевавшего под Филипсбургом. Осада происходила двадцать восемь лет назад, а вы выглядите самое большее — лет на тридцать.
— О Господи, да кому из нас не тридцать лет! — небрежно бросил путешественник.
— Мне, черт возьми! — вскричал барон. — Потому что как раз тридцать лет тому назад я вышел из этого возраста.
Андре не сводила глаз с путешественника: она находилась во власти непреодолимого любопытства. В самом деле, Бальзамо с каждой минутой открывался ей новой стороной.
— Так вы, сударь, намеренно меня сбиваете или, что весьма вероятно, путаете Филипсбург с другим городом. Я дал бы вам не более тридцати лет. Ты согласна со мной, Андре?
— Пожалуй, — отвечала та, безуспешно пытаясь вновь выдержать властный взгляд гостя.
— Да нет же, вовсе нет! — вскричал путешественник. — Я знаю, что говорю, а говорю то, что есть. Я имею в виду знаменитую осаду Филипсбурга, во время которой его сиятельство герцог де Ришелье убил на дуэли своего кузена принца де Ликсена. Это произошло в тот самый момент, когда я выбрался из траншеи, клянусь честью. Они находились на обочине дороги, по левую сторону; герцог проткнул его шпагой. Я как раз проходил мимо в ту минуту, когда он умирал на руках у князя Цвейбрюккенского, сидевшего на скате рва; господин де Ришелье спокойно обтирал шпагу.
— Сударь! — воскликнул барон. — Клянусь честью, вы потрясли меня до глубины души. Все происходило в точности так, как вы рассказываете.
— Вы, должно быть, уже слышали от кого-нибудь об этом деле? — спокойно спросил Бальзамо.
— Да я был там, я имел честь быть секундантом господина маршала; правда, в то время он еще не был маршалом, но это не меняет дела.
— Погодите-ка, — произнес Бальзамо, пристально вглядываясь в лицо барона.
— В чем дело?
— Вы были в то время в чине капитана, не так ли?
— Совершенно верно.
— Вы служили в полку шеволежеров королевы, который был потом разбит при Фонтенуа?
— А вы и при Фонтенуа были? — насмешливо спросил барон.
— Нет, — спокойно отвечал Бальзамо, — к тому времени я уже был мертв.
Барон широко раскрыл глаза, Андре вздрогнула, а Николь торопливо перекрестилась.
— Позвольте мне вернуться к тому, с чего я начал рассказ, — продолжал невозмутимо Бальзамо. — Итак, вы были в форме шеволежеров, я прекрасно помню. Проходя мимо дерущихся, я обратил на вас внимание: вы держали лошадей, свою и маршала. Я к вам подошел и спросил, что происходит; вы мне ответили…
— Я?
— Ну да, черт побери, именно вы! Теперь я узнаю вас, тогда вы были шевалье, вас еще называли «малыш-шевалье».
— Тысяча чертей! — в изумлении вскричал Таверне.
— Простите, что не сразу узнал вас. За тридцать лет любой человек меняется. Итак, за маршала де Ришелье, дорогой барон!
Подняв бокал, Бальзамо залпом осушил его.
— Вы… вы видели меня в то славное время? — спросил барон. — Но это невозможно!
— Однако я вас видел, — проговорил Бальзамо.
— На главной дороге?
— На главной дороге.
— С конями?
— Вот именно.
— Во время дуэли?
— В ту самую минуту, как принц испустил дух, о чем я уже имел честь сообщить вам.
— Так вам, должно быть, лет пятьдесят?
— Мне достаточно лет, чтобы я запомнил вас тогда.
Барон откинулся в кресле с таким видом, будто совершенно был сбит с толку. Николь не могла сдержать улыбки.
Однако Андре, вместо того чтобы весело рассмеяться, как ее служанка, глубоко задумалась, не сводя с Бальзамо глаз.
Можно было подумать, что Бальзамо ждал этой минуты и был к ней готов.
Резким движением поднявшись, он несколько раз окинул девушку горящим взором. Она взрогнула, как от электрического удара.
Руки ее застыли, голова поникла, она словно против воли улыбнулась незнакомцу, затем прикрыла глаза.
Продолжая стоять, путешественник коснулся ее руки, она снова сильно вздрогнула.
— А вы, мадемуазель, — произнес он, — тоже считаете меня лжецом, поскольку я утверждаю, что участвовал в осаде Филипсбурга?
— Нет, сударь, я верю вам, — едва вымолвила Андре, сделав над собой нечеловеческое усилие.
— Выходит, я горожу вздор? — вспылил старый барон. — Ах, извините, вы, сударь, часом, не привидение ли, а может, вы не более чем тень?
Николь следила за происходившим расширенными от ужаса глазами.
— Как знать! — отвечал Бальзамо с такой важностью, что окончательно сразил служанку.
— Нет, поговорим серьезно, господин Бальзамо, — снова заговорил барон. Казалось, он полон был решимости внести окончательную ясность в это дело. — Вам ведь, должно быть, больше чем тридцать лет, верно? По правде говоря, вы выглядите моложе.
— Сударь! — обратился к нему Бальзамо. — Поверите ли вы мне, если я вам скажу что-то такое, во что и поверить-то трудно?
— Не могу вам ответить на этот вопрос, — насмешливо покачал головой барон, тогда как Андре, напротив, слушала затаив дыхание. — Должен вас предупредить, что я крайне недоверчив.
— Зачем же в таком случае задавать мне вопрос, если вы сомневаетесь в моей правдивости?
— Ну хорошо, я готов вам поверить. Вы довольны?
— В таком случае, сударь, я могу лишь повторить то, что уже сказал. Я не только видел вас, но и был с вами знаком во время осады Филипсбурга.
— Так вы были тогда ребенком?
— Конечно.
— Вам, должно быть, было не больше пяти лет?
— Нет, сударь, мне тогда был сорок один год.
— Ха-ха-ха! — громко рассмеялся барон, Николь эхом вторила ему.
— Я говорю совершенно серьезно, сударь, — строго произнес Бальзамо, — но вы мне не верите.
— Да как же можно этому верить, помилуйте! Представьте какие-нибудь доказательства!
— Но ведь это же так понятно! — продолжал Бальзамо без тени смущения. — В то время мне был сорок один год, и это правда. Я же не утверждаю, что сейчас перед вами тот же человек, каким я был в то время.
— Ха-ха! Это что-то языческое! — вскричал барон. — Кажется, был какой-то древнегреческий философ… опять эти подлые философы, они водились во все времена! Так вот, был один древний грек, который не ел бобов, утверждая, что у них есть душа; прямо, как мой сын, который утверждает, что у негров тоже есть душа; кто это выдумал? Его имя… э-э… вот черт, как же его звали-то?
— Пифагор, — подсказала Андре.
— Да, да, Пифагор, — подхватил барон. — Когда-то я учился этому у иезуитов. Отец Поре заставлял меня слагать на эту тему латинские вирши, и я соперничал в этом занятии с юным Аруэ. Я даже помню, что отец Поре отдавал предпочтение моим стихам… Пифагор, да, да, так его звали.
— Вот видите, а кто вам сказал, что я не мог быть Пифагором? — спокойно спросил Бальзамо.
— Не буду отрицать, что вы были Пифагором, — возразил барон, — да только Пифагор не участвовал в осаде Филипсбурга. Во всяком случае, я его там не видел.
— Несомненно, — сказал Бальзамо, — однако вы видели там виконта Жана де Барро, черного мушкетера, не правда ли?
— Да, да, я даже был с ним знаком… уж он-то не был философом, хотя терпеть не мог бобов и ел их только в самом крайнем случае.
— Вот именно! Прошу вас припомнить, что де Барро на следующий день после дуэли господина де Ришелье находился в траншее рядом с вами.
— Совершенно верно.
— Как вы, очевидно, помните, черные мушкетеры всю неделю стояли бок о бок с шеволежерами.
— И что из этого следует?
— Так вот, пули сыпались градом в тот вечер. Де Барро был печален, он подошел к вам и попросил щепотку табаку. Вы протянули ему золотую табакерку.
— На ней была изображена женщина!..
— Совершенно верно. Она так и стоит у меня в глазах — блондинка, не так ли?
— Черт возьми! Так! — в растерянности проговорил барон. — А что было дальше?
— Дальше, — продолжал Бальзамо, — в то самое время, когда он нюхал табак, в него угодило ядро, оторвав ему голову, как в свое время господину Бервику.
— Увы, так оно и было! Бедный де Барро!
— Что ж, сударь, вы понимаете теперь, что я не только видел, но и знал вас во времена Филипсбурга? — проговорил Бальзамо. — Я и был тем самым де Барро.
Старый барон отпрянул в страхе или скорее в изумлении. Это развеселило незнакомца.
— Вы, стало быть, колдун? — вскричал барон. — Лет сто назад вас бы сожгли на костре, дорогой мой гость. О Господи, кажется, здесь уже попахивает привидениями, висельниками, костром!
— Господин барон, — с улыбкой возразил Бальзамо, — настоящий колдун не может быть ни сожжен, ни повешен, запомните это навсегда! Только дураки попадают на костер или виселицу. Однако не довольно ли на сегодня? Я вижу, мадемуазель де Таверне засыпает? Кажется, метафизические споры и оккультные науки почти не трогают ее.
Андре не могла дольше противостоять неизвестной ей дотоле силе: она медленно поводила головой, как раскачивается цветок, чашечка которого переполнилась росой.
Услышав последние слова Бальзамо, она попыталась прогнать овладевшее ею наваждение. Она с силой тряхнула головой, поднялась и, покачиваясь, с помощью Николь вышла из столовой.
Бальзамо внимательно следил за ней, за ее нетвердой походкой.
В ту же минуту исчезло лицо, все это время заглядывавшее через окно. Бальзамо успел узнать Жильбера.
Спустя мгновение из комнаты Андре послышались громкие звуки клавесина.
После ухода Андре Бальзамо воскликнул, не скрывая торжества:
— Итак, теперь я могу повторить вслед за Архимедом: «Эврика!»
— Кто такой Архимед? — спросил барон.
— Один славный ученый, с которым я был знаком две тысячи сто пятьдесят лет тому назад, — отвечал Бальзамо.
VII
ЭВРИКА!
То ли барону бахвальство гостя на этот раз показалось чрезмерным, то ли он попросту не слышал слов Бальзамо, то ли, наконец, слышал, но не настолько рассердился, чтобы вышвырнуть из своего дома странного гостя, — он провожал взглядом Андре, пока за ней не затворилась дверь. Затем, когда звуки клавесина убедили его в том, что она в соседней комнате, барон предложил Бальзамо доставить его до ближайшего города.
— У меня скверная лошадь, для нее, вероятно, это будет последнее путешествие, но туда-то она вас довезет, и вы можете, по крайней мере, быть уверены, что найдете подходящее место для ночлега. Это не значит, что в Таверне не нашлось бы комнаты или кровати. Но я по-своему понимаю гостеприимство. «Все или ничего» — вот мой девиз.
— Так вы меня гоните? — спросил Бальзамо, пытаясь скрыть в улыбке противоречивые чувства, охватившие его. — Стало быть, я вам надоел.
— Да нет, черт побери! Я к вам по-дружески расположен, мой дорогой. Оставить же вас здесь на ночлег означало бы, напротив, что я желаю вам зла. Я с величайшим сожалением говорю вам это, скорее для очистки совести. По правде говоря, вы мне очень нравитесь.
— Так если я вам нравлюсь, не гоните меня: я устал, и не заставляйте меня скакать на коне, вместо того чтобы вытянуться в постели. Не умаляйте своих возможностей, если, конечно, вы не хотите убедить меня в том, что плохо ко мне относитесь.
— О, если так, то вы остаетесь здесь!
Поискав взглядом Ла Бри, он заметил его в углу.
— Поди сюда, старый негодяй! — обратился он к нему.
Ла Бри робко приблизился.
— Подойди ближе, черт тебя побери! Как ты думаешь, красная комната подойдет?
— Конечно, сударь, — отвечал старый слуга. — Ведь в ней живет господин Филипп, когда приезжает в Таверне.
— Может, она и годится для бедного лейтенанта, приезжающего на лето к нищему отцу, но совершенно не подходит богатому сеньору, который путешествует в карете, запряженной четверкой почтовых лошадей.
— Уверяю вас, сударь, — вмешался Бальзамо, — комната мне подойдет.
Барон поморщился, словно хотел сказать: «Ну-ну, уж я-то знаю, чего она стоит».
Затем громко приказал:
— Приготовь господину красную комнату, раз уж он хочет навсегда избавиться от желания вернуться когда-нибудь в Таверне. Итак, вы хотите остаться?
— Разумеется!
— Погодите! Есть еще одно средство…
— О чем вы говорите?
— Вы ведь можете поехать не только верхом…
— Куда поехать?
— В Барле-Дюк.
Бальзамо ждал, что последует за этим предложением.
— Вы ведь приехали на почтовых лошадях, не так ли?
— Несомненно, если только не сатана ими правил.
— Я сначала тоже так подумал. Мне показалось, вы с ним приятели.
— Слишком большая честь для меня.
— Так вот лошади, которые дотащили вашу карету сюда, могут ведь отвезти ее назад, верно?
— Вот тут вы ошибаетесь. Во-первых, от четверки у меня осталась только пара лошадей. Кроме того, карета очень тяжелая, лошадям необходим отдых.
— Еще один довод… Решительно, вы хотите здесь остаться!
— Я хотел бы сегодня остаться здесь, чтобы завтра снова встретиться с вами и выразить вам свою признательность.
— Это очень просто.
— Раз вы водите дружбу с сатаной, попросите его помочь мне отыскать философский камень.
— Господин барон! Если он так вам нужен…
— Философский камень? Черт возьми, еще как нужен!
— В таком случае вам следует обратиться к другому лицу.
— Кто же это другое лицо?
— Я, как сказал Корнель в… не помню точно, какой комедии, которую он читал мне… погодите-ка… да, ровно сто лет назад, когда мы с ним проезжали по Новому мосту в Париже.
— Ла Бри, старый мошенник! — закричал барон, почувствовав, что разговор начинает принимать нежелательный оборот в столь поздний час, да еще с таким собеседником. — Поищите свечу и проводите барона.
Ла Бри бросился исполнять приказание. Найти в доме свечу было почти так же трудно, как философский камень. Он позвал Николь и приказал ей подняться первой и проветрить красную комнату.
Николь оставила Андре одну, или скорее Андре была рада предлогу выпроводить служанку: ей было необходимо остаться наедине со своими мыслями.
Барон пожелал Бальзамо спокойной ночи и пошел спать.
Бальзамо вынул часы, вспомнив об обещании, данном
— Что вы имеете в виду?
Альтотасу. Ученый проспал два с половиной часа вместо двух. Полчаса было потеряно. Бальзамо спросил у Ла Бри, стоит ли карета на прежнем месте.
Ла Бри отвечал, что она должна стоять там, если только ей не вздумалось уехать одной, без лошадей.
Бальзамо поспешил справиться о Жильбере.
Ла Бри уверял его, что бездельник Жильбер лег уже, по крайней мере, с час назад.
Бальзамо вышел во двор, собираясь разбудить Альтотаса. Но прежде он выяснил, как пройти в красную комнату.
Господин де Таверне нисколько не преувеличивал, говоря о бедности комнаты. Она не отличалась убранством от остальных комнат в замке.
Дубовая кровать была застлана покрывалом из потертой шелковой узорчатой ткани — того же зеленовато-золотистого оттенка, что и обивка стен. В комнате стоял дубовый стол на гнутых ножках. Большой камин эпохи Людовика XIII, которому пламя зимой придавало некоторую пышность, выглядел летом без огня тоскливо: не было ни подставки для дров, ни щипцов, не было и дров, зато он был забит старыми газетами. Вот и вся обстановка комнаты, случайным обитателем которой оказался в эту ночь Бальзамо.
Прибавим пару стульев и деревянный шкаф с исцарапанными стенками, выкрашенный в серый цвет.
Пока Ла Бри пытался навести в комнате порядок после того, как Николь проветрила ее и удалилась к себе, Бальзамо разбудил Альтотаса и вернулся в дом.
Подойдя к гостиной, он остановился и прислушался.
Когда Андре вышла из столовой, она заметила, что не испытывает на себе больше таинственного влияния путешественника.
Чтобы не думать о нем, она села за клавесин.
Звуки и теперь доносились сквозь приотворенную дверь.
Бальзамо, как мы уже сказали, остановился перед этой дверью.
В течение некоторого времени он плавными медленными взмахами рук, несомненно творя какие-то заклинания, гипнотизировал Андре. Она стала испытывать уже знакомое волнение; постепенно игра ее смолкла, руки безжизненно повисли, и она медленно обернулась к двери, подчиняясь чужой воле, готовая исполнить любое приказание.
Бальзамо улыбнулся в полумраке, будто видел, что происходит за запертой дверью.
Очевидно, он именно этого добивался от Андре и догадался, что его воля исполнена. Протянув в темноте левую руку и ухватившись за перила, он стал подниматься по крутой массивной лестнице, которая привела его к красной комнате.
Пока он удалялся, Андре так же медленно повернулась от двери к клавесину. Остановившись на последней ступеньке лестницы, Бальзамо услышал первые аккорды мелодии, которую продолжала исполнять Андре.
Бальзамо вошел в красную комнату и отпустил Ла Бри.
Ла Бри был прекрасно вышколен и привык беспрекословно повиноваться. На сей же раз, двинувшись было к двери, он внезапно остановился на пороге.
— В чем дело? — спросил Бальзамо.
Л а Бри не отвечал, опустив руку в карман куртки и пытаясь нащупать что-то на самом дне.
— Вы хотите что-нибудь сообщить мне, друг мой? — переспросил Бальзамо, подходя к нему.
Казалось, Ла Бри сделал над собою нечеловеческое усилие, чтобы вынуть руку из кармана.
— Я хотел сказать вам, сударь, что вы, должно быть, ошиблись нынче вечером, — пролепетал он.
— Я ошибся? — удивился Бальзамо. — В чем же, друг мой?
— Вы, верно, подумали, что подаете мне монету в двадцать четыре су, а вместо нее я нашел в кармане монету в двадцать четыре ливра!
Он разжал кулак: на ладони сверкнул новехонький луидор.
Бальзамо с восхищением посмотрел на старого слугу: не часто приходилось ему встречать честного человека.
— «And honest», — повторил он вслед за Гамлетом.
Пошарив в кармане, он достал второй луидор и положил рядом с первым.
Никогда еще не испытанная им радость охватила Ла Бри при виде подобной щедрости. Прошло уже почти двадцать лет, как он не видал золота.
Он смог поверить, что стал обладателем такого богатства, только после того, как Бальзамо взял у него монеты и сам опустил их ему в карман.
Л а Бри поклонился до земли и, пятясь, двинулся к выходу. Бальзамо остановил его.
— Как обычно проходит утро в замке? — обратился он с вопросом к старому слуге.
— Господин де Таверне встает поздно, а мадемуазель Андре спозаранку на ногах.
— В котором часу?
— Около шести.
— Кто живет надо мной?
— Ваш покорный слуга, сударь.
— А внизу?
— Внизу никого нет, там передняя.
— Хорошо, благодарю вас, друг мой; можете идти.
— Покойной ночи, сударь!
— Прощайте! Кстати, позаботьтесь о том, чтобы моя карета была в безопасности.
— О, можете быть совершенно покойны!
— Если оттуда послышится какой-нибудь шум или вы заметите свет, не пугайтесь. Там живет мой старый немощный слуга, которого я повсюду вожу с собой. Передайте господину Жильберу, чтобы он не беспокоил его. Прошу вас также сказать ему, чтобы он не пропадал завтра утром до тех пор, пока я не переговорю с ним. Вы все запомнили, мой друг?
— Конечно, сударь. Вы, надеюсь, не собираетесь покинуть нас завтра так рано?
— Посмотрим, — с улыбкой отвечал Бальзамо. — Хорошо бы завтра к вечеру успеть добраться до Барле-Дюка.
Ла Бри покорно вздохнул, в последний раз окинул взглядом постель и поднес свечу к камину, где вместо дров лежали старые газеты: он хотел хоть немного обогреть сырую просторную комнату.
Бальзамо остановил его.
— Нет, нет, — воскликнул он, — не трогайте газеты: если мне не удастся заснуть, я с удовольствием почитаю их.
Ла Бри поклонился и вышел.
Бальзамо подошел к двери, слушая удалявшиеся шаги старого слуги, который поднимался по скрипучей лестнице. Вскоре шаги стали слышны над его головой: Ла Бри был у себя в комнате.
Бальзамо подошел к окну.
Напротив него в другом крыле флигеля светилось окно крошечной мансарды. Там жила Леге. Сквозь неплотно задернутые шторы было видно, как девушка медленно расстегнула платье, развязала косынку. Она время от времени отворяла окно и свешивалась вниз, разглядывая двор.
Бальзамо внимательно изучал ее, так как не успел сделать этого за ужином.
— Поразительное сходство! — прошептал он.
В это самое мгновение свет в мансарде погас, хотя было ясно, что служанка еще не ложилась.
Бальзамо продолжал стоять, привалившись плечом к стене.
Звуки клавесина по-прежнему доносились из гостиной.
Путешественник прислушался, желая убедиться, что никакой другой шум не нарушает ночной тишины. Затем он распахнул дверь, которую, уходя, прикрыл Ла Бри, бесшумно спустился по лестнице, легонько толкнул дверь в гостиную, повернувшуюся без малейшего скрипа на изношенных петлях.
Андре ничего не слыхала.
Она опускала свои белые руки на пожелтевшие от старости клавиши слоновой кости. Перед ней висело старинное зеркало в резной раме с инкрустациями, с облупившейся позолотой, закрашенной серой краской.
Девушка наигрывала грустную мелодию, вернее, брала аккорды, задумчиво импровизируя. Наверное, она пыталась в музыке выразить мечты, навеянные воображением. Возможно, соскучившись в Таверне, она мысленно устремлялась в бескрайние сады монастыря Благовещения в Нанси, где резвились беззаботные воспитанницы. Как бы там ни было, ее затуманенный взор блуждал в мутном зеркале, висевшем напротив, где отражались темные углы просторной гостиной, которую не могла осветить одна-единственная свеча, стоявшая на клавесине.
Иногда она внезапно останавливалась. В эти мгновения она вспоминала о странном появлении незнакомца, и ее охватывали неведомые дотоле ощущения. Раньше чем она успевала припомнить какую-нибудь подробность вечера, сердце ее начинало отчаянно биться и дрожь пробегала по всему телу. Несмотря на то, что Андре была совершенно одна, она трепетала так, словно кто-то прикасался к ней и этими прикосновениями тревожил ей сердце.
В тот самый миг как она попыталась разобраться в непривычных для нее ощущениях, она испытала их с новой силой. Все ее существо содрогнулось, будто от удара. Она словно прозрела в это мгновение: ее мысль работала ясно и четко. В зеркале отразилось какое-то движение.
Дверь комнаты бесшумно распахнулась.
На пороге появилась какая-то неясная тень.
Андре содрогнулась, уронив руки на клавиши.
Однако, казалось, в этом появлении тени не было ничего особенного.
Разве она, сливавшаяся с темнотой, не могла принадлежать г-ну де Таверне или Николь? Кроме того, Л а Бри имел обыкновение перед сном обходить все уголки замка и сейчас мог зайти за чем-нибудь к ней в гостиную. Это нередко случалось: скромный и верный слуга двигался обычно совершенно бесшумно.
Однако сердце подсказало девушке, что на этот раз вошел кто-то другой.
Человек приблизился к ней, не проронив ни слова, становясь постепенно все более различим в темноте. Когда он попал в круг света, отбрасываемого свечой, Андре узнала в нем незнакомца. Ее испугала бледность его лица, которую подчеркивал сюртук черного бархата.
Из каких-то, без сомнения, таинственных соображений он сменил на сюртук платье из шелка, в котором был прежде.
Она хотела обернуться, закричать.
Бальзамо простер руки — она не двинулась.
Девушка сделала над собой неимоверное усилие.
— Сударь! — чуть слышно произнесла она. — Сударь!.. Именем Бога заклинаю вас: что вам угодно?
Бальзамо улыбнулся, его лицо отразилось в зеркале, и Андре так и впилась в него взглядом, ловя каждое движение его.
Он не отвечал.
Андре в другой раз попыталась подняться, но безуспешно: необоримая сила, нечто вроде приятной усталости, навалилась на нее. Взгляд ее по-прежнему был прикован к таинственному зеркалу.
Новое, незнакомое ощущение было ей неприятно, потому что она чувствовала себя в полной власти этого человека, а он был ей малознаком.
Она изо всех сил попыталась позвать на помощь, — ее губы дрогнули, но Бальзамо простер руки над головой девушки, и ни один звук не вырвался из ее груди.
Андре оставалась безмолвной, грудь ее наполнилась диким ужасом, голова затуманилась…
Ни проронив ни звука, она обессиленно склонила набок безвольную голову.
В это мгновение Бальзамо послышался едва различимый шум со стороны окна. Он с живостью повернулся и успел заметить отпрянувшее лицо мужчины.
Он нахмурился. То же выражение тотчас словно отразилось на лице Андре.
Обернувшись к ней, он опустил руки, которые все это время продолжал держать у нее над головой, потом жестом жреца воздел их, затем снова опустил и, подчиняя ее волю своей, проговорил настойчиво:
— Усните!
Она попыталась сопротивляться этому наваждению.
— Усните! — повторил он властно. — Усните: я так хочу!
Ничто не могло бы устоять перед силой его воли. Андре положила руку на клавиши, уронила голову и крепко уснула.
Бальзамо попятился к двери, вышел, затворив ее за собой, и вскоре его шаги раздались на лестнице. Еще мгновение — и он был в своей комнате.
Как только дверь гостиной затворилась, за окном вновь мелькнуло отпрянувшее было лицо.
Это был Жильбер.
VIII
ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ СИЛА
Жильберу не полагалось из-за низкого происхождения присутствовать на ужине, поэтому он с жадностью следил весь вечер через окно за участниками трапезы, которым положение позволяло находиться в столовой замка Таверне. Он видел улыбавшегося и жестикулировавшего во время ужина Бальзамо. Он отметил внимание, которое оказывала ему Андре, неслыханную любезность барона, почтительную услужливость Ла Бри.
Позже, когда все встали из-за стола, он укрылся в зарослях сирени, опасаясь, как бы Николь, затворяя ставни или возвращаясь к себе, не заметила его и не помешала ему в его расследовании, или, вернее, в слежке.
Действительно, Николь обошла весь первый этаж, однако вынуждена была оставить одно окно гостиной незакрытым, так как петли ставней были неисправны.
Жильбер знал об этом обстоятельстве. Вот почему он, как мы уже видели, не покидал своего поста, уверенный в том, что сможет продолжать наблюдения после ухода Леге.
Мы сказали «наблюдения», но слово это может показаться читателю не вполне ясным. В самом деле, какими наблюдениями мог быть занят Жильбер? Разве он не знал всех уголков замка Таверне, где он вырос, разве не знал он характера всех его обитателей, наблюдая их ежедневно в течение семнадцати или восемнадцати лет?
Итак, в тот вечер у Жильбера были для наблюдений иные основания: он не столько подкарауливал, сколько выжидал.
Когда Николь, оставив Андре одну, покинула гостиную, она небрежно и не торопясь притворила все двери и ставни, прошлась по первому этажу, будто ожидая кого-то встретить и бросая беглый взгляд по сторонам. Наконец она решилась уйти в свою комнату.
Жильбер стоял не шелохнувшись за деревом: он пригнулся, затаил дыхание, но не упустил ни одного движения Николь. Когда она скрылась и засветилось окно ее мансарды, он на цыпочках прошел по двору, подошел к окну, присел в тени на корточки и стал ждать, сам в точности не зная чего, пожирая глазами Андре, в небрежной позе сидевшую за клавесином.
Тут в гостиную вошел Бальзамо.
Увидев его, Жильбер вздрогнул и горящим взором стал следить за обоими участниками сцены, которую мы только что описали.
Ему казалось, что Бальзамо хвалил игру Андре, а она отвечала со свойственной ей холодностью. Он настойчиво улыбался, а она перестала играть, чтобы спровадить гостя.
Жильбер поразился изяществу, с которым тот удалился.
Он думал, что все уловил, хотя в действительности не понял ничего из того, что между ними произошло: смысл этой сцены был в том, что она происходила в полном безмолвии.
Жильбер ничего не мог слышать, он лишь видел, как шевелились губы и взмахивали руки. Даже будучи очень наблюдательным, он не мог заподозрить тайну, потому что внешне все выглядело вполне естественно.
Когда Бальзамо удалился, Жильбер из наблюдателя обратился в воздыхателя: его восхищала пленительная небрежность позы, которую приняла Андре. Вдруг он с удивлением заметил, что она спит. Некоторое время юноша не двигался, желая убедиться в том, что она в самом деле заснула. Когда же у него не осталось в этом никаких сомнений, он выпрямился и обхватил голову руками, будто опасаясь, как бы она не лопнула от переполнявших ее мыслей. Он собрал всю свою волю и воскликнул в исступлении:
— О, как бы мне хотелось коснуться губами ее руки! Да! Я, Жильбер, этого хочу!..
Проговорив эти слова и будто подчиняясь внутреннему голосу, он устремился через переднюю к двери, ведущей в гостиную; дверь так же бесшумно распахнулась перед ним, как несколько ранее перед Бальзамо.
Едва дверь распахнулась и ничто больше не препятствовало ему, чтобы подойти к девушке, он понял всю серьезность того, что задумал: он, Жильбер, сын арендатора и крестьянки, тихий, почтительный, едва осмеливавшийся робко взглядывать из темного угла на гордую и снисходительную госпожу, вознамерился припасть к краю ее платья или коснуться губами пальчиков спящей богини, которая, пробудившись, могла бы одним взглядом обратить его в пепел. Туман опьянения от грез рассеялся при этой мысли, в голове прояснилось, и он опомнился. Он застыл, ухватившись за дверной косяк; колени у него задрожали, он едва держался на ногах.
Однако задумчивость или сон Андре были столь глубокими, что Жильбер так и не понял, спит она или грезит: она сидела совершенно неподвижно. Сердце Жильбера трепетало в груди так, что можно было слышать его биение, и он, безуспешно пытаясь унять волнение, задыхался.
Андре по-прежнему не шевелилась. Она была так хороша в этот миг! Она сидела, грациозно опершись на руку. Длинные волосы свободно ниспадали, рассыпавшись по плечам. Утихнувшая было под влиянием страха, но не угасшая страсть Жильбера вспыхнула с новой силой. Голова его закружилась, он словно опьянел от безумной любви. Он испытывал всепожирающую потребность дотронуться до Андре. Он снова шагнул к ней.
Половица скрипнула под его нетвердой ногой: капли ледяного пота выступили у него на лбу. Однако Андре ничего не слышала.
— Она спит, — прошептал Жильбер. — Какое счастье, что она спит!
Не пройдя и трех шагов, он опять остановился, испугавшись того, как необычно засветилась лампа, готовая погаснуть и отбрасывавшая последние яркие отблески перед наступлением полной темноты.
Дом безмолвствовал: не доносилось ни единого звука, ни единого вздоха. Старик Ла Бри лег и, должно быть, уже заснул. Света в окне Николь тоже не было.
— Скорее! — прошептал он и снова двинулся вперед.
Его поразило, что, когда вновь скрипнул паркет под его ногой, Андре опять не пошевелилась.
Жильберу показалось это очень странным, он ужаснулся.
— Она спит, — проговорил он, словно приучая себя к этой мысли, которая уже раз двадцать то покидала его, то возвращалась, как это бывает с нерешительными любовниками или трусами, а трусу не дано владеть своим сердцем. — Она спит! Боже мой!
Терзаемый страхом и надеждой, Жильбер продолжал подходить к Андре и наконец оказался в двух шагах от нее. Дальше все происходило как во сне: если бы он захотел убежать, это было бы невозможно; оказавшись в поле притяжения, центром которого была Андре, он почувствовал, что связан по рукам и ногам, сражен — он упал на колени.
Андре по-прежнему оставалась без движения, не проронив ни звука; можно было подумать, что она обратилась в статую. Жильбер поднес к губам край ее платья.
Затем медленно, затаив дыхание, поднял голову, ловя глазами ее взгляд.
Глаза Андре были широко раскрыты, однако она ничего не видела.
Жильбер не знал, что и думать, он был раздавлен. На миг ему показалось, что она мертва. Чтобы убедиться в этом, он осмелился взять ее за руку: она была теплой, едва заметно пульсировала жилка. Но рука Андре неподвижно лежала в руке Жильбера. Испытывая сладострастное чувство от прикосновения к руке Андре, Жильбер вообразил, что она все видит, чувствует и догадывается о его безумной любви. Несчастный юноша, ослепленный любовью, поверил, что она ждала его, что ее молчание не что иное, как одобрение, а за ее неподвижностью скрывается благосклонность.
Он поднес руку Андре к губам и жадно припал к ней.
Андре вздрогнула, и Жильбер почувствовал, что она отталкивает его.
— Я погиб! — прошептал он, выпуская руку девушки. Он упал на колени и коснулся лбом пола.
Андре стремительно поднялась, словно подброшенная пружиной, даже не взглянув на поверженного Жильбера. Он был настолько раздавлен стыдом и ужасом, что не стал вымаливать прощения, на которое, впрочем, не мог и рассчитывать.
Казалось, таинственная сила увлекает Андре к неведомой цели. Вытянув шею и высоко подняв голову, она, коснувшись плечом Жильбера, прошла мимо и направилась нетвердой походкой к выходу.
Видя, что она удаляется, Жильбер приподнялся на локте, робко обернулся и стал провожать ее изумленным взглядом. Андре приблизилась к двери, отворила ее, прошла переднюю и подошла к лестнице.
Бледный, трясущийся, Жильбер пополз за ней на коленях.
«Она так возмущена, — подумал он, — что не удостоила меня даже гнева; она, наверное, отправилась к барону, чтоб рассказать о моем постыдном безумии, и он вышвырнет меня, как лакея!»
Все поплыло у него в глазах при мысли, что его выгонят из Таверне, что он не увидит больше той, которая была для него светом, жизнью, душой. Отчаяние придало ему смелости: он поднялся на ноги и бросился к Андре.
— Простите меня, мадемуазель, именем всего святого, простите! — пролепетал он.
Ему показалось, что она не слышала его. Она прошла мимо двери, которая вела в комнату ее отца.
Жильбер облегченно вздохнул.
Андре поставила ногу на первую ступеньку лестницы, затем поднялась на вторую.
— Боже, Боже! — прошептал Жильбер. — Куда же она идет? Лестница ведет в красную комнату, где поселили незнакомца, и в мансарду Ла Бри. А вдруг она позовет его, позвонит в колокольчик? Так она собирается пойти к… Это невозможно!
Жильбер в ярости сжал кулаки при мысли, что Андре могла пойти к Бальзамо.
Она остановилась у двери незнакомца. Холодный пот выступил у Жильбера на лбу. Он уцепился за прутья лестницы, чтобы не свалиться, так как все время следовал за Андре. Все, чему он явился свидетелем, о чем догадывался, представлялось ему чудовищным.
Дверь Бальзамо была приотворена. Андре толкнула ее и без стука шагнула в комнату. Ее благородные чистые черты осветились на мгновение, а в широко раскрытых глазах запрыгали золотистые отблески от лампы.
Жильберу удалось рассмотреть незнакомца, стоявшего посреди комнаты: он смотрел не мигая, нахмурив лоб, и повелительным жестом протягивал руку.
Дверь захлопнулась.
Жильбер почувствовал, что силы его оставляют. Одной рукой он выпустил перила, другой коснулся пылавшего лба. Он покатился подобно колесу, соскочившему с оси, и рухнул на нижние ступеньки, растянувшись на холодных плитах. Взгляд его все еще устремлялся к проклятой двери, поглотившей мечту прошлого, счастье настоящего и надежду будущего.
IX
ЯСНОВИДЯЩАЯ
Бальзамо пошел навстречу девушке; она вошла к нему твердой поступью статуи Командора, двигаясь точно по прямой линии.
Ее появление могло показаться странным, однако оно ничуть не удивило Бальзамо.
— Я приказал вам уснуть, — обратился он к ней. — Вы спите?
Андре вздохнула и ничего не ответила.
Бальзамо подошел к девушке, посылая в ее сторону более сильный поток флюидов.
— Ответьте мне, — приказал он.
Девушка вздрогнула.
— Вы слышите меня? — спросил незнакомец.
Андре кивнула.
— Отчего же вы молчите?
Андре поднесла руку к горлу, словно давая понять, что не может говорить.
— Ну хорошо! Садитесь вот сюда, — приказал Бальзамо.
Он взял ее за руку, которую недавно целовал Жильбер.
На этот раз от одного прикосновения Андре испытала сильнейшее потрясение, свидетелями которого мы с вами уже были, когда приказ ей был послан сверху ее повелителем.
Под властным взглядом Бальзамо она отступила шага на три и упала в кресло.
— Скажите, — обратился он к ней, — вы что-нибудь видите?
Глаза Андре округлились, словно она пыталась охватить взглядом все пространство комнаты, освещенное яркими отблесками двух свечей.
— Я не прошу вас увидеть глазами, — продолжал Бальзамо, — посмотрите внутренним взором.
Выхватив из-под вышитой куртки стальную палочку, он коснулся ею трепетавшей груди Андре.
Девушка подскочила, будто огненное жало пронзило ее и прошло до самого сердца. Глаза у нее закрылись.
— Прекрасно! — воскликнул Бальзамо. — Вы прозрели, не так ли?
Она кивнула.
— Вы будете говорить?
— Да, — отвечала Андре.
Она поднесла руку ко лбу с выражением нечеловеческого страдания.
— Что с вами? — спросил Бальзамо.
— О, мне так больно!
— Почему больно?
— Потому что вы заставляете меня видеть и говорить.
Бальзамо два-три раза провел руками над ее головой и тем словно ослабил слишком сильное для нее воздействие флюидов.
— Вам все еще больно? — спросил он.
— Сейчас легче, — отвечала девушка.
— Хорошо. Теперь скажите мне, где вы находитесь.
Глаза Андре по-прежнему оставались закрытыми. Она нахмурилась, лицо выразило сильнейшее удивление.
— Я в красной комнате, — пробормотала она.
— Кто с вами рядом?
— Вы! — вздрогнув, отвечала она.
— Что вы сейчас испытываете?
— Мне страшно! Мне стыдно!
— Отчего же? Разве мы не связаны симпатическими узами?
— Это так.
— Разве вам не известно, что я сумел заставить вас сюда прийти из самых чистых побуждений?
— Известно.
Лицо ее просветлело, затем снова затуманилось.
— Вы недостаточно откровенны со мной, — продолжал Бальзамо. — Не можете меня простить?
— Я вижу, что вы не хотите мне зла, однако готовы причинить страдания кому-то еще.
— Вполне возможно, — прошептал Бальзамо. — Это не должно вас беспокоить, — проговорил он жестко.
Лицо Андре разгладилось.
— Все ли в доме спят?
— Не знаю, — отвечала она.
— Так взгляните!
— Куда я должна смотреть?
— Начнем с вашего отца. Где он сейчас?
— В своей комнате.
— Чем занимается?
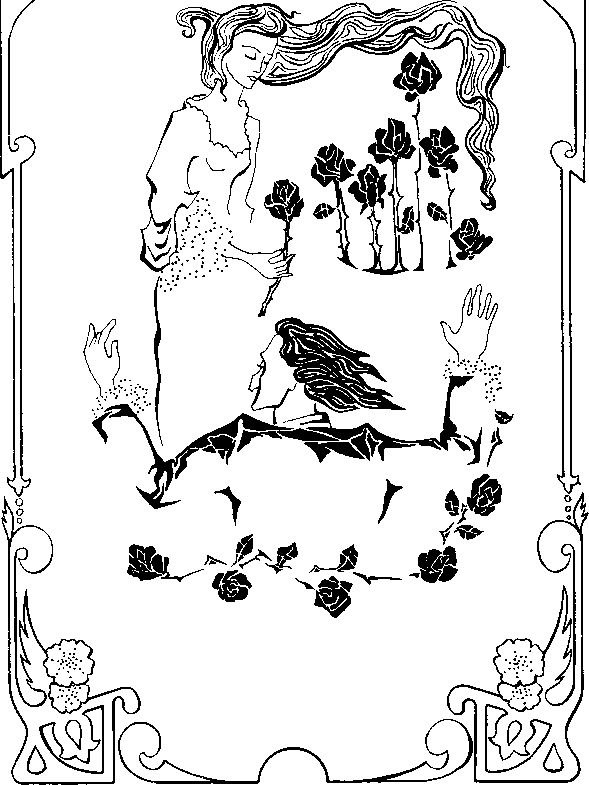
— Он лег.
— Спит?
— Нет, читает.
— Что именно?
— Одну из тех дурных книг, которые он и меня пытается заставить читать.
— А вы их не читаете?
— Нет, — возразила она.
— Ну хорошо. С этой стороны все спокойно. Теперь посмотрите, что делает в своей комнате Николь.
— У нее нет света.
— Разве вам нужен свет?
— Нет, если вы прикажете видеть в темноте.
— Да, я вам это приказываю!
— Я ее вижу.
— Что она делает?
— Она неодета… Осторожно толкнула дверь своей комнаты… Спускается по лестнице.
— Так… Куда она направляется?
— Стоит у входной двери. По-видимому, кого-то подкарауливает…
Бальзамо усмехнулся:
— Не вас ли она поджидает?
— Нет.
— Хорошо. Это главное. Когда за девушкой не шпионят ни отец, ни служанка, ей нечего опасаться, если только…
— Нет, — перебила она Бальзамо.
— Вы читаете мои мысли?
— Да.
— Так вы ни в кого не влюблены?
— Я? — высокомерно спросила она.
— Отчего же нет? Разве вы не можете быть влюблены? Из монастыря выходят не для того, чтобы жить в заточении: вы должны быть свободны душой и телом.
Андре покачала головой.
— Мое сердце свободно, — с грустью ответила она.
Душевная чистота и непорочность осветили изнутри ее лицо. Бальзамо восторженно прошептал:
— Как вы прекрасны, дорогая ясновидящая.
Он прижал руки к груди в немой молитве, затем обратился к Андре:
— Однако если не любите вы, это вовсе не означает, что никто не любит вас, не так ли?
— Не знаю, — мягко возразила она.
— Как не знаете? — строго спросил Бальзамо. — Узнайте! Когда я спрашиваю, надо отвечать!
Он в другой раз прикоснулся стальной палочкой к ее груди.
Девушка вздрогнула, но не так сильно, как в первый раз.
— Да, теперь я вижу… Сжальтесь надо мной, вы меня погубите…
— Что вы видите? — спросил Бальзамо.
— Это невероятно! — воскликнула Андре.
— Что там такое?
— Я вижу молодого человека, который следит за мной, не сводит с меня глаз с тех пор, как я вернулась из монастыря.
— Кто этот юноша?
— Лица не видно; судя по одежде, он простолюдин.
— Где он сейчас?
— Внизу у лестницы. Он страдает… плачет!
— Почему же вы не видите его лица?
— Он закрыл лицо руками.
— Смотрите сквозь ладони!
Андре сделала над собой усилие.
— Жильбер! — вскрикнула она. — Я же говорила, что это невозможно!
— Отчего же невозможно?
— Он не посмеет меня любить, — отвечала она в высшей степени презрительно.
Бальзамо усмехнулся: он хорошо знал людей и понимал, что для любви нет преград, даже если эта преграда — пропасть между сословиями.
— Что он делает на лестнице? — продолжал он.
— Сейчас, сейчас… Он поднял голову… Схватился за перила… Встал… Поднимается по лестнице!
— Куда он направляется?
— Сюда… Но это ничего, он не осмелится войти.
— Почему?
— Боится! — презрительно усмехнувшись, отвечала Андре.
— Он собирается подслушивать?
— Да, он уже прижался ухом к двери… Он нас подслушивает!
— Вас это смущает?
— Да, потому что он может услышать, о чем мы говорим.
— Он из тех, кто может этим воспользоваться даже во вред той, которую любит?
— Да, забывшись в гневе или в порыве ревности… В такие минуты он способен на все!
— В таком случае давайте от него избавимся! — предложил Бальзамо.
Он решительно направился к двери, громко топая.
Очевидно, Жильбер еще был не готов к атаке: услышав шаги Бальзамо и опасаясь быть застигнутым врасплох, он бросился к перилам и торопливо съехал вниз.
Андре в ужасе вскрикнула.
— Не смотрите туда, — подходя к Андре, приказал Бальзамо. — Влюбленные простолюдины — малоинтересная материя. Расскажите лучше о бароне де Таверне.
— Как вам будет угодно, — вздохнув, отвечала Андре.
— Он в самом деле беден?
— Очень!
— Настолько беден, что не способен предоставить вам никаких развлечений?
— Да.
— Так вы здесь скучаете?
— Смертельно!
— Быть может, вы тщеславны?
— Нисколько.
— Вы любите своего отца?
— Да… — поколебавшись, ответила она.
— Вчера мне показалось, что есть нечто, омрачающее вашу любовь к отцу, — продолжал с усмешкой Бальзамо.
— Я не могу ему простить, что он пустил по ветру состояние моей матери. Теперь Мезон-Руж прозябает в гарнизоне и не может с достоинством носить имя своей семьи.
— Кто это Мезон-Руж?
— Мой брат Филипп.
— Почему вы зовете его Мезон-Ружем?
— Так называется, вернее, когда-то назывался наш замок. Старший сын носит имя Мезон-Руж вплоть до кончины своего отца и потом присоединяет к нему имя Таверне.
— Вы любите брата?
— Очень!
— Больше всех?
— Больше всех на свете!
— А как объяснить, что вы так горячо любите своего брата, а отца только терпите?
— У брата благородное сердце, он жизнь готов за меня отдать!
— А отец?
Андре потупилась.
— Почему вы молчите?
— Не хочу отвечать.
Бальзамо и не собирался принуждать ее к ответу. Вероятно, он и так уже знал о бароне все, что хотел.
— Где сейчас шевалье де Мезон-Руж?
— Вы спрашиваете у меня, где Филипп?
— Да.
— В своем гарнизоне в Страсбуре.
— Вы его видите?
— Где?
— В Страсбуре.
— Не вижу.
— Вы хорошо знаете Страсбур?
— Нет.
— Зато я знаю. Давайте поищем вместе, вы ничего не имеете против?
— С удовольствием!
— Он в театре?
— Нет.
— Нет ли его среди офицеров в кафе на площади?
— Нет.
— Может быть, он в своей комнате? Взгляните туда, где он живет.
— Я ничего не вижу! Мне кажется, его нет в Страсбуре.
— Вам знакома дорога?
— Нет.
— Неважно, я знаю ее хорошо. Давайте проследим его возможный путь. Нет ли его в Саверне?
— Нет.
— Может, он в Саарбрюккене?
— Нет.
— А в Нанси?
— Погодите-ка!
Девушка пыталась сосредоточиться; сердце ее отчаянно билось.
— Вижу, вижу! — обрадовалась она. — Филипп, дорогой! Какое счастье!
— Что такое?
— Дорогой Филипп! — сияя, повторяла Андре.
— Где он?
— Он проезжает город, который хорошо мне знаком.
— Какой же это город?
— Нанси! Нанси! Там мой монастырь.
— Вы уверены, что это ваш брат?
— Да, конечно: его лицо хорошо видно при свете факелов.
— Каких факелов? — удивился Бальзамо. — Откуда там факелы?
— Он едет верхом, сопровождая чудесную золоченую карету!
— Ах, вот оно что! — удовлетворенно воскликнул Бальзамо. — Кто в карете?
— Молодая дама… О, как она величественна! Как грациозна!.. Боже, до чего хороша! Странно: мне кажется, я ее где-то видела… Нет, нет, просто у нее есть что-то общее с Николь.
— Николь похожа на эту даму — столь гордую, величественную, красивую?
— Да, но только отчасти — как жасмин похож на лилию.
— Так… Что сейчас происходит в Нанси?
— Молодая дама выглянула из кареты и знаком приказала Филиппу приблизиться… Он повиновался… Вот он подъехал, почтительно склонился.
— Вы слышите, о чем они говорят?
— Сейчас, сейчас! — Андре жестом остановила Бальзамо, словно умоляя его замолчать и не мешать ей.
— Я слышу! — прошептала она.
— Что говорит молодая дама?
— С нежной улыбкой на устах приказывает пришпорить коней. Говорит, что эскорт должен быть готов завтра к шести утра, так как днем она хотела бы сделать остановку.
— Где?
— Об этом как раз спрашивает мой брат… О Господи! Она собирается остановиться в Таверне! Хочет познакомиться с моим отцом… Столь знатная особа остановится в нашем убогом доме?.. Что же нам делать? Нет ни столового серебра, ни белья…
— Успокойтесь! Я об этом позабочусь!
— Ах, спасибо, спасибо!
Привстав, девушка снова в изнеможении рухнула в кресло, тяжело дыша.
Бальзамо бросился к ней, несколькими магнетическими движениями рук изменил направление электрических токов и погрузил Андре в спокойную дремоту. Ее прекрасное тело словно надломилось, и она уронила прелестную головку на бурно вздымающуюся грудь.
Вскоре она успокоилась.
— Наберись сил, — проговорил Бальзамо, пожирая ее восторженным взглядом. — Мне еще понадобится твое ясновидение. О знание! — продолжал он в сильнейшем возбуждении. — Ты одно никогда не подведешь! Человек всем готов жертвовать ради тебя! Господи, до чего хороша эта женщина! Она ангел чистоты! И ты знаешь об этом, потому что именно ты способен создавать и женщин и ангелов. Но что значит для тебя красота? Чего стоит невинность? Что может мне дать красота и невинность сами по себе? Да пусть умрет эта женщина, столь чистая и такая прекрасная, лишь бы уста ее продолжали вещать! Пусть исчезнут все наслаждения бытия: любовь, страсть, восторг — лишь бы я мог продолжать свой путь к знанию! А теперь, моя дорогая, благодаря моей воле несколько минут сна восстановили твои силы так, словно ты спала двадцать лет! Проснись! Точнее, вернись к своему ясновидению. Мне еще кое-что нужно от тебя узнать.
Простерев руки над Андре, он приказал ей пробудиться.
Видя, что она покорно ждет его приказаний, он достал из бумажника свернутый вчетверо лист бумаги, в который была завернута прядь иссиня-черных волос. Аромат, исходивший от волос, пропитал бумагу настолько, что она стала полупрозрачной.
Бальзамо вложил прядь в руку Андре.
— Смотрите! — приказал он.
— О, опять эти мучения! — в тревоге воскликнула девушка. — Нет, нет, оставьте меня в покое, мне больно! О Боже! Мне было так хорошо!..
— Смотрите! — властно повторил Бальзамо и безжалостно прикоснулся стальной палочкой к ее груди.
Андре заломила руки: она пыталась освободиться из-под власти экспериментатора.
На губах ее выступила пена, словно у древнегреческой пифии, сидевшей на священном треножнике.
— О, я вижу, вижу! — вскричала она с обреченностью жертвы.
— Что именно?
— Даму!
— Ага! — злорадно пробормотал Бальзамо. — Выходит, знание далеко не так бесполезно, как, например, добродетель! Месмер победил Брута… Ну так опишите мне эту женщину, дабы убедить меня в том, что вы правильно смотрите.
— Черноволосая, смуглая, высокая, голубоглазая, у нее удивительные нервные руки…
— Что она делает?
— Она скачет… нет — парит на взмыленном жеребце.
— Куда она направляется?
— Туда, туда, — махнула девушка рукой, указывая на запад.
— Она скачет по дороге?
— Да.
— Это дорога на Шалон?
— Да.
— Хорошо, — одобрительно кивнул Бальзамо. — Она скачет по дороге, по которой отправлюсь и я; она направляется в Париж, я тоже туда собираюсь и найду ее в Париже. Можете отдохнуть, — сказал он Андре, забирая у нее прядь волос, которую она до тех пор сжимала в руке.
Руки Андре безвольно повисли вдоль тела.
— А теперь, — обратился к ней Бальзамо, — ступайте к клавесину!
Андре шагнула к двери. Ноги у нее подкашивались от усталости, отказываясь идти. Она пошатнулась.
— Наберитесь сил и идите! — приказал Бальзамо, послав в ее сторону новый поток флюидов.
Бедняжка напоминала породистого скакуна, который из последних сил пытается исполнить даже невыполнимую волю безжалостного наездника.
Она двинулась вперед с закрытыми глазами.
Бальзамо распахнул дверь; Андре стала медленно спускаться по лестнице.
X
НИКОЛЬ ЛЕГЕ
Пока Бальзамо допрашивал Андре, Жильбер изнывал от невыразимой тоски.
Он забился под лестницу, не осмеливаясь подняться к двери красной комнаты, чтобы подслушать, о чем там говорили. В конце концов он пришел в такое отчаяние, которое могло бы привести человека с его характером к вспышке.
Его отчаяние усугублялось от сознания бессилия и приниженности. Бальзамо был для него обыкновенным человеком: Жильбер — великий мыслитель, деревенский философ — не верил в чародеев. Но он признавал, что человек этот силен, а сам Жильбер — слаб; человек этот был храбр, а Жильбер пока — не очень… Раз двадцать Жильбер поднимался с намерением, если представится случай, оказать Бальзамо сопротивление, но ноги его подгибались, и он падал на колени.
Ему пришла в голову мысль пойти за приставной лестницей, принадлежавшей Ла Бри. Старик был в доме и поваром, и лакеем, и садовником и пользовался этой лестницей, когда подвязывал кусты жасмина и жимолости. Вскарабкавшись по ней, Жильбер не пропустил бы ни единого из уличавших Андре слов, которые Жильбер так страстно желал услышать.
Он бросился через переднюю во двор и подбежал к тому месту, где под стеной, как ему было известно, хранилась лестница. Едва он за ней наклонился, как ему почудился шорох со стороны дома. Он обернулся.
Вглядевшись в темноту, он заметил, как в черном проеме входной двери мелькнула человеческая фигура, причем так быстро и безмолвно, что казалась похожей скорее на привидение, чем на живое существо.
Он бросил лестницу и побежал к дому. Сердце его готово было выскочить из груди.
Впечатлительные натуры, богатые и пылкие, бывают обычно суеверны: они охотнее допускают выдумку, чем доверяют рассудку; они считают естественное слишком заурядным и позволяют своим предчувствиям увлечь себя невозможному или, по крайней мере, идеальному. Вот почему они могут потерять от страха голову в прекрасном ночном лесу: в темных кронах им чудятся призраки и духи. Древние, среди которых было немало великих поэтов, грезили всем этим среди бела дня. А так как яркое солнце изгоняло самую мысль о злых духах и привидениях, поэты выдумывали смеющихся дриад и беззаботных нимф.
Жильбер вырос под хмурым небом, в стране мрачных мыслителей. Вот почему ему померещилось привидение. На сей раз, несмотря на то что Жильбер не верил в Бога, он вспомнил о том, что ему сказала перед своим бегством подруга Бальзамо. Разве чародей не мог бы вызвать призрак, если он оказался способен совратить девушку ангельской чистоты?
Однако Жильбер руководствовался обычно не первым движением души, а, что было значительно хуже, разумом. Он призвал на помощь доводы великих философов, чтобы одолеть призраки. Статья «Привидение» из «Философского словаря» отчасти помогла ему: он испугался еще больше, зато страх его стал более мотивированным.
Если он в самом деле кого-то видел, это, должно быть, живое существо, которое хотело, вероятно, кого-то подстеречь.
Страх подсказывал ему, что это скорее всего г-н де Таверне, однако рассудок называл другое имя.
Он бросил взгляд на второй этаж флигеля. Как уже известно читателю, света в комнате Николь не было.
Ни вздоха, ни единого шороха, ни огонька не было во всем доме, не считая комнаты незнакомца. Жильбер смотрел во все глаза, прислушивался, но, ничего не заметив, опять взялся за лестницу. Он был убежден, что ему померещилось, потому что сердце его сильно билось и глаза застилало пеленой. Жильбер решил, что видение не более чем обман зрения, вызванный, говоря по-научному, скорее нарушением способности видеть, чем ее использованием.
Он приставил лестницу и занес было ногу на первую ступеньку, как вдруг дверь Бальзамо распахнулась и сейчас же снова захлопнулась. Выйдя от Бальзамо, Андре стала спускаться совершенно бесшумно в полной темноте, словно сверхъестественная сила руководила ею и поддерживала ее.
Андре спустилась на нижнюю площадку, прошла рядом с Жильбером, задев его в темноте своим платьем, и пошла дальше.
Молодой человек подумал, что все неожиданности этой ночи уже позади: барон де Таверне спал, Ла Бри тоже был в постели, Николь — в другом флигеле, а дверь Бальзамо была уже заперта.
Сделав над собой страшное усилие, он пошел следом за Андре, приноравливаясь к ее шагу.
Пройдя переднюю, Андре вошла в гостиную.
Жильбер с истерзанным сердцем следовал за ней. Хотя Андре оставила дверь отворенной, он остановился на пороге. Девушка села на табурет перед клавесином, на котором все еще горела свеча.
Жильбер готов был от отчаяния расцарапать себе грудь. Здесь, на этом самом месте, всего полчаса назад он припадал к платью и руке этой женщины, даже не вызвав ее гнева. Вот о чем он мог мечтать тогда и как был счастлив!.. Теперь ему стало понятно, что снисходительность девушки объяснялась ее испорченностью, о которой Жильбер знал из романов, составлявших основную часть библиотеки барона. Распущенность Андре могла объясняться также обманом чувств, о чем ему было известно из трудов по физиологии.
— Ну что ж, — пробормотал он, перескакивая с одной мысли на другую, — если дело обстоит именно так, я вслед за остальными смогу попользоваться ее распущенностью либо извлечь выгоды из ее ослепления. Ангел пускает по ветру свои белые одежды, так почему бы мне не урвать немножко ее целомудрия?
Приняв такое решение, Жильбер устремился в гостиную. Однако едва он занес ногу над порогом, как почувствовал, что чья-то рука, словно вынырнув из темноты, крепко ухватила его за плечо.
Жильбер в ужасе повернул голову, сердце екнуло у него в груди.
— А, попался, бесстыдник! — прошипел ему на ухо сердитый голос. — Попробуй теперь сказать, что не бегаешь к ней на свидания, попробуй только сказать, что не любишь ее…
У Жильбера не было сил пошевелить рукой, чтобы высвободиться.
Однако его держали не настолько крепко, чтобы он не мог вырваться. Его держала всего лишь девичья рука. Жильбера взяла в плен Николь Леге.
— Что вам от меня нужно? — нетерпеливо прошептал он.
— А ты, может, хочешь, чтоб я всем сказала, на что это похоже? — громко заговорила она.
— Нет, нет, напротив, — процедил Жильбер сквозь зубы. — Я хочу, чтобы ты немедленно замолчала, — сказал он, увлекая Николь в переднюю.
— Ну что ж, ступай за мной.
Жильберу этого только и было нужно: следуя за Николь, он удалялся от Андре.
— Хорошо, идемте, — согласился Жильбер.
Он пошел за ней следом. Она вышла во двор, хлопнув дверью.
— А как же мадемуазель? — спросил он. — Она, верно, будет вас звать, чтобы вы помогли ей раздеться, когда она пойдет к себе в комнату? А вас не будет на месте…
— Вы ошибаетесь, если думаете, что меня сейчас это волнует. Что мне до того, будет она меня звать или нет? Я должна с вами поговорить.
— Мы могли бы, Николь, отложить этот разговор до завтра: вы не хуже меня знаете, что мадемуазель может рассердиться…
— Да я сама посоветовала ей быть строгой, особенно со мной!
— Николь! Я вам обещаю, что завтра…
— Он обещает!.. Знаю я твои обещания, так я тебе и поверила! Не ты ли обещал ждать меня сегодня в шесть около Мезон-Ружа? И где ты был в это время, а? Совсем в другой стороне, потому что именно ты привел в дом незнакомца. Я твоим обещаниям теперь так же верю, как священнику монастыря Благовещения: он давал клятву сохранять тайну исповеди, а сам бежал докладывать о наших грехах настоятельнице.
— Николь! Подумайте о том, что вас прогонят, если заметят…
— А вас не прогонят, поклонник госпожи? Уж барон если вспылит…
— У него нет никаких оснований меня прогонять, — пытался возражать Жильбер.
— Ах вот как? Он, что же, сам поручил вам ухаживать за своей дочерью? Неужели он до такой степени философ?
Жильбер мог бы сейчас же доказать Николь, что если он и виноват в том, что был в доме в столь поздний час, то уж Андре-то ни при чем. Ему стоило лишь пересказать то, чему он явился свидетелем. Конечно, это могло показаться невероятным. Но благодаря тому, что женщины обычно друг о друге бывают нелестного мнения, Николь, несомненно, поверила бы ему. Он уже приготовился к возражению, но тут другое, более серьезное соображение, чем ревность Николь, остановило его. Тайна Андре была из тех, что бывают выгодны мужчине, независимо от того, захочет он любви за свое молчание или чего-нибудь более осязаемого.
Жильбер жаждал любви. Он сообразил, что гнев Николь — ничто по сравнению с его желанием обладать Андре. Выбор был сделан: умолчать о необычном приключении той ночи.
— Раз вы настаиваете, давайте объяснимся, — предложил он.
— О, это много времени не займет! — вскричала Николь; она была по своему характеру полной противоположностью Жильберу и совсем не умела владеть своими чувствами. — Ты прав, здесь, в цветнике, неудобно разговаривать, идем ко мне.
— В вашу комнату? — испугался Жильбер. — Это невозможно!
— Почему?
— Нас могут застать вдвоем.
— Пойдем же! — презрительно усмехнувшись, продолжала настаивать она. — Кто нас может застать? Мадемуазель? В самом деле, как она может не ревновать такого красавца! Тем хуже для нее: я не боюсь тех, чья тайна мне известна. Ах, мадемуазель Андре ревнует Николь! Я не смею и мечтать о такой чести!
Ее принужденный громкий смех заставил его вздрогнуть сильнее, чем если бы он услышал брань или угрозу.
— Я боюсь не мадемуазель, Николь, я опасаюсь за вас.
— Да, правда, вы ведь любите повторять, что там, где нет скандала, нет и греха. Философы иногда бывают похожи на иезуитов: вот монастырский священник тоже так говорил, он мне это сказал раньше вас. Так вы потому и бегаете к госпоже на свидания по ночам? Ладно, ладно, довольно болтать, пойдем ко мне! Я хочу этого!
— Николь! — проговорил Жильбер, скрипнув зубами.
— Ну что?
— Замолчи!
Он сделал угрожающий жест.
— Да я не боюсь! Вы меня однажды уже побили, правда, тогда из ревности. Да, тогда вы меня любили… Это было неделю спустя после нашей первой ночи любви. Тогда я вам позволила поднять на меня руку. Теперь этому не бывать! Ведь вы не любите меня, теперь настал мой черед ревновать.
— Что же ты собираешься делать? — спросил Жильбер, схватив ее за руку.
— Я сейчас так закричу, что мадемуазель прибежит и спросит вас, по какому праву вы собираетесь отдать Николь то, что должны теперь только ей. Пустите меня, честью вас прошу.
Жильбер выпустил руку Николь.
Подняв лестницу, он осторожно подтащил ее к флигелю и приставил к окну Николь.
— Вот что значит судьба! — проговорила Николь. — Лестница, предназначавшаяся, верно, для того чтобы влезть в комнату к мадемуазель, пригодится вам, чтоб выбраться из мансарды Николь Леге. Какая честь для меня!
Николь чувствовала себя победительницей, она спешила отпраздновать победу, подобно женщинам, которые, не обладая действительным превосходством, всегда дорого платят за первую победу после того, как поспешили объявить о ней во всеуслышание.
Жильбер почувствовал, что попал в глупейшую историю: идя за девушкой, он собирался с силами в ожидании неминуемой схватки.
Будучи по природе осмотрительным, он удостоверился в следующем.
Во-первых, проходя под окнами дома, он убедился, что мадемуазель де Таверне продолжала сидеть в гостиной.
Во-вторых, придя к Николь, он отметил, что не без риска сломать себе шею можно добраться до первого этажа, а оттуда спрыгнуть на землю.
Комната Николь была столь же скромной, как и другие.
Она была расположена под самой крышей. Стена мансарды была оклеена зеленовато-серыми обоями. Складная кровать да большой горшок с геранью возле слухового окна — вот и все ее убранство. Андре отдала Николь огромную картонку из-под шляпки — она служила девушке и комодом и столом.
Николь присела на край кровати, Жильбер — на угол картонки.
Пока Николь поднималась по лестнице, она успокоилась. Овладев собой, она чувствовала себя сильной. Жильберу, вздрагивавшему от внутреннего напряжения, напротив, никак не удавалось восстановить привычное хладнокровие. Он чувствовал, как раздражение поднималось в нем по мере того, как Николь успокаивалась.
В наступившей тишине Николь бросила на Жильбера полный страсти взгляд и, не скрывая досады, спросила:
— Значит, вы влюблены в мадемуазель и обманываете меня?
— Кто вам сказал, что я влюблен в мадемуазель? — спросил Жильбер.
— Еще бы! Вы ведь бегаете к ней на свидания!
— Кто вам сказал, что я шел к ней на свидание?
— А зачем же вы отправились в дом? Не к колдуну ли вы шли?
— Возможно. Вам известно, что я честолюбив.
— Вернее сказать — завистлив.
— Это одно и то же, только названия разные.
— Не нужно разговор о вещах превращать в спор о словах. Итак, вы больше не любите меня?
— Напротив, я вас люблю.
— Почему же вы меня избегаете?
— Потому что при встречах со мной вы ищете повода для ссоры.
— Ну, конечно, я думаю, как бы с вами поссориться, будто мы только и делаем, что встречаемся с вами на каждом шагу!
— Я всегда был нелюдим — вам это должно быть известно.
— Чтобы в поисках одиночества карабкаться по лестнице… Простите, я никогда об этом не слыхала.
Жильбер проиграл первое очко.
— Скажите откровенно, Жильбер, если можете, признайтесь, что больше меня не любите или любите нас обеих…
— А если так, что вы на это скажете? — спросил Жильбер.
— Я бы сказала, что это чудовищно!
— Да нет, это просто ошибка.
— Вашего сердца?
— Нашего общества. Существуют страны, где мужчины могут иметь семь или восемь жен.
— Это не по-христиански, — в волнении отвечала Николь.
— Зато по-философски, — высокомерно парировал Жильбер.
— Господин философ! Вы бы согласились, если бы я вслед за вами завела еще одного любовника?
— Мне не хотелось бы по отношению к вам быть жестоким тираном. Кроме того, я не хотел бы сдерживать ваши сердечные порывы… Святая свобода заключается в том, чтобы уважать свободу выбора другого человека. Смени вы любовника, Николь, я не смог бы требовать от вас верности, которой, по моему глубокому убеждению, в природе не существует.
— Ах, теперь вы сами видите, что не любите меня! — вскричала Николь.
Жильбер был силен в дискуссии — и не потому, что обладал логическим умом, напротив, его ум был парадоксален, но он знал все-таки больше, чем Николь. Та читала иногда для развлечения; Жильбер читал не только забавные книги, но и такие, из которых мог извлечь пользу.
В споре Жильбер постепенно обретал хладнокровие, которое стало изменять Николь.
— У вас хорошая память, господин философ? — иронически улыбаясь, спросила Николь.
— Не жалуюсь, — ответил Жильбер.
— Помните, что вы говорили мне полгода назад, когда мы с госпожой приехали из монастыря Благовещения?
— Нет, напомните.
— Вы мне сказали: «Я беден». Это было в тот день, когда мы вместе читали «Танзаи» среди развалин старого замка.
— Что же дальше?
— В тот день вы трепетали, и даже довольно сильно…
— Вполне возможно: я по натуре робок. Однако я делаю все возможное, чтобы избавиться от этого недостатка, как, впрочем, и от остальных.
— Так вы скоро станете совершенством! — рассмеялась Николь.
— Во всяком случае, я стану сильным, потому что сила приходит с мудростью.
— Где вы это вычитали, скажите на милость?
— Не все ли равно? Вспомните лучше, что я вам говорил под сводами старого замка.
Николь чувствовала, что все больше ему проигрывает.
— Вы сказали мне тогда: «Я беден, Николь, никто меня не любит, никто не знает, что у меня вот здесь» — и приложили руку к сердцу.
— Вот тут вы ошибаетесь: при этих словах я, должно быть, постучал себя по лбу. Сердце — это всего лишь насос для перекачивания крови. Раскройте «Философский словарь» на статье «Сердце» и прочтите, что там написано.
Жильбер удовлетворенно выпрямился. Испытав унижение в разговоре с путешественником, он теперь отыгрывался на Николь.
— Вы правы, Жильбер, вы в самом деле постучали себя по лбу. При этом вы сказали: «Меня здесь держат за дворового пса, даже Маон счастливее меня». Я вам тогда ответила, что вас нельзя не любить; если бы вы были моим братом, я бы любила вас. Эти слова исходили как будто из сердца, а не из головы. Хотя, возможно, я ошибаюсь: я не читала «Философского словаря».
— Вы ошиблись, Николь.
— Вы обняли меня. «Вы сирота, Николь, — сказали вы мне, — я тоже одинок. Бедность и низкое происхождение сближают нас больше, чем брата и сестру. Полюбим же друг друга, Николь, как если бы мы и впрямь были братом и сестрой. Кстати, в таком случае общество запретило бы нам любить друг друга так, как я мечтаю быть любим тобою». Потом вы меня поцеловали…
— Вполне вероятно.
— Вы действительно думали тогда то, что говорили?
— Несомненно. Так почти всегда бывает: говорим то, что думаем, пока говорим.
— Значит, сейчас…
— Сейчас я на пять месяцев старше; я узнал то, чего не знал тогда, я догадываюсь о том, чего пока не знаю. Сейчас я думаю иначе.
— Так вы лжец, лицемер, болтун! — забывшись, вскричала Николь.
— Не больше, чем путешественник, у которого спрашивают его мнение о пейзаже, когда он еще в долине, а потом задают ему тот же вопрос, когда он уже поднялся на вершину горы, которая скрывала от него убегающую даль. Теперь я лучше вижу местность, только и всего.
— Так вы не женитесь на мне?
— Я вам никогда не говорил, что собираюсь на вас жениться, — презрительно усмехнулся Жильбер.
— Однако я думала, — воскликнула в отчаянии девушка, — что Николь Леге — достойная пара для Себастьяна Жильбера!
— Любой человек достоин другого, — возразил Жильбер, — но природа и образование наделяют их разными способностями. По мере того как развиваются эти способности, люди все более отдаляются друг от друга.
— Так, значит, у вас более развиты способности, чем у меня, и поэтому вы от меня удаляетесь?
— Вот именно. Вы, Николь, еще не умеете рассуждать, зато уже начинаете понимать.
— Да, — в отчаянии вскричала Николь, — да, я понимаю!
— Что вы понимаете?
— Я поняла: вы бесчестный человек!
— Возможно. Многие рождаются с низменными инстинктами, но для того и дана человеку воля, чтобы их исправить. Руссо тоже при рождении был наделен низменными инстинктами, однако ему удалось от них избавиться. Я последую примеру Руссо.
— О Господи! — воскликнула Николь. — Как я могла полюбить такого человека?
— А вы меня и не любили, — холодно возразил Жильбер, — я вам приглянулся, только и всего. Вы только что вернулись тогда из Нанси, где видели одних семинаристов, способных разве что рассмешить вас, да военных, которых вы боялись. Мы с вами были зелены, невинны, мы оба страстно желали перестать быть такими. Природа громко заговорила в нас. Когда кровь закипает от низменных желаний, мы ищем утешения в книгах, а они лишь раззадоривают. Помните, Николь: когда мы с вами читали вместе одну из таких книг, вы не то чтобы уступили — я ведь ни о чем вас и не просил, а вы ни в чем не отказывали, — мы сумели найти разгадку этой тайны. Месяц или два продолжалось то, что называется счастьем. Месяц или два мы жили полнокровной жизнью. Неужели за то, что мы были счастливы, проведя вместе два месяца, мы должны быть несчастны и мучить друг друга всю оставшуюся жизнь? Знаете, Николь, если бы человек был обязан брать на себя подобное обязательство только за то, что любит или любим, ему пришлось бы навсегда отказаться от свободы выбора, что само по себе абсурдно.
— Вы, что же, вздумали философствовать? — усмехнулась Николь.
— А почему бы нет? — спросил Жильбер.
— Значит, для философов нет ничего святого?
— Напротив. Существует разум.
— Ага! Когда я хотела остаться честной девушкой…
— Простите, теперь слишком поздно об этом говорить.
Николь то бледнела, то краснела, словно некое колесо делало видимым движение каждой капли ее крови.
— Будешь с вами честной! — проворчала она. — Не вы ли мне говорили, что женщина всегда остается порядочной, если хранит верность своему избраннику? Вы помните эту свою теорию брака?
— Я называл это союзом, Николь, принимая во внимание, что вообще не собираюсь жениться.
— Вы никогда не женитесь?
— Нет, я собираюсь стать ученым, философом. А наука требует уединения для духа, как философия — для плоти.
— Господин Жильбер! Я уверена, что заслуживаю более завидной доли, чем связать себя с таким ничтожеством, как вы!
— Подведем итоги, — поднимаясь, предложил Жильбер. — Мы попусту теряем время: вы — говоря мне колкости, я — выслушивая их. Вы меня любили, потому что вам этого хотелось, не так ли?
— Совершенно верно.
— Ну так это недостаточная причина для того, чтобы делать меня несчастным, потому что вы лишь исполнили свою прихоть.
— Глупец! — вскричала Николь. — Ты считаешь меня развратной и думаешь, что тебе нечего меня бояться?
— Мне вас бояться, Николь? Что вы говорите? Да что вы мне можете сделать? Вы ослепли от ревности.
— От ревности? Я ревную? — неестественно рассмеялась Николь. — Вы ошибаетесь, если думаете, что я ревнива. И с какой стати мне ревновать? Да найдется ли в целой округе кто-нибудь привлекательнее меня? Мне бы еще такие руки, как у госпожи; впрочем, они сразу же побелеют, как только я перестану заниматься тяжелой работой. Разве я не сравняюсь тогда с госпожой? А волосы! Только взгляните, какие у меня волосы, — она потянула ленточку, и волосы рассыпались по плечам, — я могу в них спрятаться, как в плащ, с головы до пят. Я высока, хорошо сложена, — Николь кокетливо подбоченилась, — у меня зубы словно жемчуг. — Она взглянула в зеркальце, висевшее у изголовья. — Когда я хочу произвести на кого-нибудь впечатление, я улыбаюсь и вижу, как этот человек краснеет, трепещет под моим взглядом. Вы были моим первым мужчиной, это правда. Но вы далеко не первый, с кем я кокетничала.
Послушай, Жильбер, — продолжала она еще более угрожающим тоном, зловеще улыбаясь. — Ты смеешься? Можешь мне поверить, что лучше тебе не наживать в моем лице врага. Не заставляй меня оступаться: я иду по узкой тропинке, на которой меня удерживают полузабытые советы моей матушки да зыбкие воспоминания детских молитв. Если мне будет суждено хоть раз пренебречь своим целомудрием, — берегись, Жильбер! Тебе придется пожалеть не только о том, что ты сделал для себя, но и раскаяться в несчастьях, которые ты приносишь окружающим!
— В добрый час! — усмехнулся Жильбер. — Вы сейчас на такой высоте, Николь, что я убежден…
— В чем же?
— …что, если бы я сейчас согласился на вас жениться…
— То что?
— …то вы бы мне отказали!
Николь задумалась. Потом, сжав кулаки и заскрежетав зубами, процедила:
— Думаю, что ты прав, Жильбер. Мне кажется, я тоже поднимаюсь в гору, о которой ты говорил; думаю, что мне тоже начинают открываться новые дали. Вероятно, я тоже могу кое-чего достигнуть. И уж, во всяком случае, мне недостаточно быть только женой ученого или философа. А теперь, Жильбер, ступайте к лестнице и постарайтесь не свернуть себе шею. Хотя мне начинает казаться, что это было бы большим счастьем кое для кого, а может, и для вас самого.
Повернувшись к Жильберу спиной, девушка начала раздеваться, словно его тут не было.
Жильбер стоял в нерешительности: озаренная пламенем ревности и гнева, Николь была просто очаровательна! Однако он твердо решил порвать с ней: она могла погубить не только его любовь, но и его честолюбивые планы. Итак, он устоял.
Спустя несколько минут Николь, не слыша за спиной ни малейшего звука, обернулась: в комнате никого не было.
— Удрал! — прошептала она. — Удрал…
Она поспешила к окну: во всем доме не было ни огонька.
— Где же сейчас мадемуазель? — проговорила Николь.
Девушка бесшумно спустилась по лестнице, подкралась к двери хозяйки и прислушалась.
— Ага! — прошептала Николь. — Она легла одна и спит. Подождем до завтра! О, уж завтра-то я узнаю, любит она его или нет!
XI
СЛУЖАНКА И ГОСПОЖА
Николь вернулась к себе в крайнем возбуждении. Девушка понимала, что, пытаясь показать свою стойкость и лукавство, она на самом деле только хвасталась тем, что может стать опасной, а также старалась казаться порочной. Богатое воображение и развращенный дурными книгами ум давали выход ее пылавшим чувствам. Душа ее горела. Будучи от природы самолюбивой, она умела иногда сдержать слезы, но горечь оседала в ее душе и разъедала ее изнутри, подобно кипящему свинцу.
Только в улыбке можно было прочитать то, что переполняло ее сердце. Первые же оскорбления Жильбера были встречены ею презрительной усмешкой, которая выдавала всю боль ее души. Разумеется, Николь была далеко не добродетельна, не отличалась высокой нравственностью. Но она не могла не придавать значения своему поражению. Отдаваясь Жильберу душой и телом, она думала, что осчастливит его. Холодность и самодовольство Жильбера принижали ее в собственных глазах. Она только что была жестоко наказана за свою оплошность и тяжело переживала боль наказания. Однако, оправившись от этого удара, Николь дала себе слово, что сполна воздаст Жильберу за причиненное ей зло.
Молодая, крепкая, полная сил, умевшая забывать обиду, наделенная этой особенностью характера, столь желанной для того, кто хотел бы повелевать любимой женщиной, Николь уснула, составив предварительно план мести. Для этого были призваны все демоны, гнездившиеся в ее юном сердечке.
В конце концов ей стало казаться, что мадемуазель де Таверне еще более провинилась, чем Жильбер. Знатная девушка, напичканная предрассудками, кичившаяся благородным происхождением, в монастыре Нанси обращалась в третьем лице к принцессам, говорила «вы» герцогиням, «ты» — маркизам, а остальных вовсе не замечала. Она напоминала холодностью статую, но под мраморной оболочкой скрывалась чувствительная натура. Николь забавляла мысль, что статуя эта могла бы вдруг обратиться в смешную и жалкую жену деревенского Пигмалиона — Жильбера.
Надобно отметить, что Николь обладала тем даром, которым природа наделила всех женщин. Она считала, что уступает в умственном отношении только Жильберу, зато превосходит всех остальных. Если не принимать во внимание того превосходства духа, который ее любовник имел над ней благодаря пяти-шести годам, в течение которых он прочел несколько книг, то это она — служанка нищего барона — чувствовала себя униженной, отдавшись крестьянину.
Что же тогда должна была чувствовать ее госпожа, если она в самом деле отдавалась Жильберу? Николь поразмыслила и решила, что, если она расскажет то, чему явилась свидетельницей, точнее, то, о чем она догадывалась, г-ну де Таверне, это будет величайшей глупостью. Во-первых, зная характер г-на де Таверне, она могла предположить, что он надает оплеух Жильберу и вышвырнет его вон, а потом посмеется над этой историей. Во-вторых, ей был известен нрав Жильбера, и она понимала, что он никогда ей этого не простит и найдет способ для коварной мести.
А вот заставить Жильбера страдать из-за Андре, подчинить себе их обоих, наблюдать за тем, как они то бледнеют, то краснеют под ее взглядом, стать настоящей хозяйкой положения и, возможно, заставить Жильбера пожалеть о том времени, когда ручка, которую он нежно целовал, была груба только на ощупь, — вот что тешило ее самолюбие и казалось соблазнительным. Вот на чем она решила остановиться.
С этими мыслями она и уснула.
Солнце уже поднялось, когда она проснулась — свежая, бодрая, отдохнувшая. Она провела за туалетом, как обычно, около часа: менее ловкие или более старательные руки потратили бы вдвое больше времени на то, чтобы расчесать ее длинные густые волосы. Николь принялась изучать свои глаза в треугольном зеркальце, о котором мы уже упоминали. Глаза показались ей красивее, чем когда-либо. Продолжая осмотр, она перешла от глаз к соблазнительному ротику: губы не потеряли своей яркости и были сочны, словно спелые вишни. Носик был небольшой и слегка вздернутый. Шея, которую она самым тщательным образом прятала от поцелуев солнца, белела подобно лепесткам лилии. Но верхом совершенства были ее прекрасная грудь и дерзкие очертания бедер.
Убедившись в том, что она все так же хороша собой, Николь подумала, что могла бы пробудить в Андре ревность. Пусть не подумает читатель, что она была окончательно испорченной, ведь речь шла не о капризе или пустой фантазии — эта идея пришла ей в голову только потому, что девушка была уверена: мадемуазель де Таверне влюблена в Жильбера.
Собравшись с духом, готовая к сражению, она распахнула дверь в комнату Андре. Госпожа приказывала ей входить к ней по утрам только в том случае, если до семи часов Андре не вставала с постели.
Едва войдя в комнату, Николь замерла от удивления.
Андре была бледна, ее лоб был в испарине, ко лбу прилипло несколько волосков. Она с трудом дышала, вытянувшись на кровати. Забывшись тяжелым сном, она покусывала во сне губы с выражением страдания на лице.
Простыни были скомканы: было видно, что она металась во сне. Вероятно, она не успела снять с себя перед сном все одежды. Теперь она спала, подложив одну руку под голову, а другой прикрывала белоснежную грудь.
Время от времени ее неровное дыхание прерывалось стонами, она хрипела от боли.
Некоторое время Николь наблюдала за ней в полном молчании, качая головой: она отдавала должное красоте Андре и понимала, что у ее госпожи не могло быть достойных соперниц.
Николь направилась к окну и распахнула ставни.
В комнату хлынул свет, и утомленные веки мадемуазель де Таверне дрогнули.
Она проснулась и хотела было подняться, однако почувствовала сильную усталость и, сраженная пронзительной болью, вскрикнув, уронила голову на подушку.
— О Господи! Что с вами, мадемуазель? — прошептала Николь.
— Который теперь час? — спросила Андре, протирая глаза.
— Уж поздно, мадемуазель должна была встать час тому назад.
— Не понимаю, Николь, что со мной творится, — пожаловалась Андре, обводя взглядом комнату, словно желая убедиться, что она у себя. — Меня всю ломает, и такая боль в груди!
Прежде чем ответить, Николь пристально на нее посмотрела.
— Должно быть, простуда после сегодняшней ночи, — предположила она.
— После сегодняшней ночи? — удивленно переспросила Андре. — О, так я даже не раздевалась? — оглядев себя, произнесла она. — Как это могло случиться?
— Ну, конечно! — вскричала Николь. — Пусть мадемуазель постарается вспомнить!
— Я ничего не помню, — схватившись за голову, пробормотала Андре. — Что со мною было? Должно быть, я схожу с ума!
Она села в кровати, снова обводя комнату блуждающим взглядом.
Затем, сделав над собой усилие, произнесла:
— А, да, вспоминаю, вчера я так устала… это, наверное, из-за грозы; потом…
Николь указала пальцем на смятую кровать, на которой, несмотря на беспорядок, продолжало лежать покрывало.
Андре замолчала. Она вспомнила о незнакомце, так странно на нее смотревшем.
— И что потом? — не скрывая удивления, спросила Николь, — должно быть, мадемуазель вспомнила?
— Потом, — продолжала Андре, — я задремала, сидя за клавесином. Начиная с этого времени я ничего не помню. По всей вероятности, я как во сне поднялась к себе и без сил упала на кровать не раздеваясь.
— Надо было меня позвать, — слащавым голосом пропела Николь, — разве это не входит в мои обязанности?
— Я об этом не подумала, а может, у меня на это не было сил, — простодушно отвечала Андре.
— Лицемерка! — пробормотала Николь и потом добавила: — Однако мадемуазель, должно быть, довольно долго оставалась за клавесином, потому что, прежде чем вы вернулись к себе, я услыхала внизу какой-то шум и спустилась…
Николь замолчала в надежде заметить какое-нибудь движение Андре или румянец — та оставалась спокойной, а лицо, зеркало души, было безмятежным.
— Я спустилась… — повторила Николь.
— И что же? — спросила Ашдре.
— Мадемуазель не было у клавесина.
Андре подняла голову: в ее прекрасных глазах можно было прочесть удивление — и только!
— Как странно! — воскликнула она.
— Однако это было именно так.
— Ты говоришь, меня не было в гостиной, но я никуда не выходила.
— Надеюсь, мадемуазель меня простит! — отвечала Николь.
— Так где же я была?
— Мадемуазель это должно быть известно лучше меня, — пожав плечами, отвечала Николь.
— Думаю, что ты ошибаешься, Николь, — как можно мягче возразила Андре. — Я не сходила с места. Мне только кажется, что было холодно, потом я почувствовала тяжесть, и мне стало трудно передвигаться.
— О! — насмешливо воскликнула Николь. — В тот момент, когда я увидела мадемуазель, она шла довольно скоро!
— Ты меня видела?
— Да.
— Только что ты сказала, что меня не было в гостиной.
— Я и не говорю, что видела вас в гостиной.
— Так где же?
— В передней, у лестницы.
— Это была я? — изумилась Андре.
— Мадемуазель собственной персоной, я неплохо знаю мадемуазель, — проговорила Николь, добродушно посмеиваясь.
— Тем не менее я уверена, что не выходила из гостиной, — Андре простодушно надеялась найти ответ в своей памяти.
— А я не сомневаюсь, что видела мадемуазель в передней. Я тогда подумала, — прибавила она и удвоила внимание, — что госпожа возвращается из сада с прогулки. Вчера вечером после грозы была такая чудесная погода! Приятно прогуляться ночью: свежий воздух, аромат цветов, — не так ли, мадемуазель?
— Ты прекрасно знаешь, что я боюсь выходить по ночам, — с улыбкой возразила Андре, — я слишком боязлива!
— Можно гулять не одной, — подхватила Николь, — тогда и бояться нечего.
— С кем же прикажешь мне гулять? — спросила Андре, не подозревая, что служанка задавала все эти вопросы неспроста.
Николь решила не продолжать дознания. Хладнокровие Андре казалось ей верхом лицемерия и обескураживало ее.
Она сочла за благо перевести разговор на другую тему.
— Мадемуазель говорит, что плохо себя чувствует? — спросила она.
— Да, мне очень плохо, — отвечала Андре. — Я совершенно разбита, я чувствую себя очень уставшей без всякой на то причины. Вчера вечером я не делала ничего особенного. Уж не заболеваю ли я?
— Может, мадемуазель чем-нибудь огорчена? — продолжала Николь.
— И что же? — воскликнула Андре.
— А то, что огорчения производят нередко такое же действие, что и усталость. Уж я-то знаю!
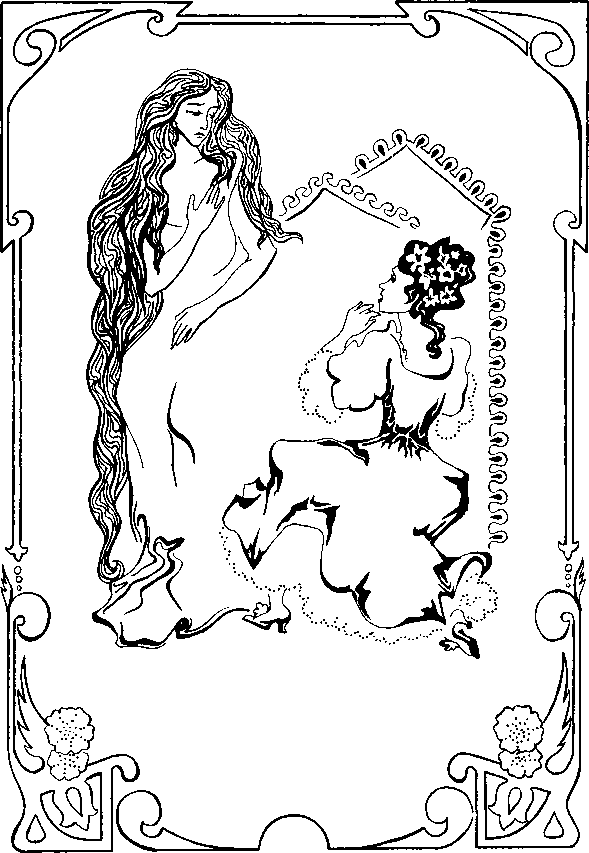
— Так ты чем-то опечалена, Николь?
Слова эти прозвучали с такой небрежностью, что Николь не сдержалась.
— Да, мадемуазель, у меня неприятности, — опустив глаза, проговорила она.
Андре лениво поднялась с постели, собираясь переодеться.
— Расскажи! — приказала она.
— Я как раз шла к мадемуазель, чтобы сказать…
Она замолчала.
— Чтобы сказать что? Боже, какой у тебя растерянный вид, Николь!
— Я растеряна, а мадемуазель утомлена; должно быть, мы обе страдаем.
Это «мы» не понравилось Андре; она нахмурила брови и проронила:
— А!
Николь не было дела до восклицаний, хотя интонация Андре должна была бы навести ее на размышления.
— Раз мадемуазель настаивает, я позволю себе начать, — продолжала она.
— Ну-ну, послушаем, — отвечала Андре.
— Я хочу выйти замуж, госпожа, — заявила Николь.
— Да? — удивилась Андре. — Не рано ли тебе об этом думать, ведь тебе еще нет семнадцати.
— Мадемуазель тоже только шестнадцать лет.
— И что же?
— А то, что, хотя мадемуазель только шестнадцать, разве она не подумывает о браке?
— С чего вы взяли? — сухо спросила Андре.
Николь раскрыла рот, чтобы сказать дерзость, но она хорошо знала Андре, она понимала, что едва начатому объяснению немедленно будет положен конец, поэтому спохватилась.
— Да нет, откуда мне знать, о чем думает мадемуазель, я простая крестьянка и живу так, как того требует природа.
— Как странно ты изъясняешься!
— Странно? Разве не естественно любить кого-нибудь и отдаваться любимому?
— Пожалуй. Так что же?
— Ну вот, я люблю одного человека.
— А этот человек тебя любит?
— Надеюсь, мадемуазель.
Николь поняла, что сомнение прозвучало слишком вяло, необходимо было отвечать уверенно.
— Я в этом убеждена, — поправилась она.
— Прекрасно! Вы не теряете времени даром в Таверне, как я вижу!
— Надо же подумать о будущем. Вы барышня и можете получить наследство от какого-нибудь богатого родственника ка. А я сирота и могу надеяться только на то, что сама кого-нибудь найду.
Все это казалось Андре естественным, и она мало-помалу забыла о том, что вначале сочла эти разговоры неприличными. Кроме того, врожденная доброта взяла вверх.
— Так за кого же ты собираешься замуж? — спросила она.
— Госпожа знает его, — отвечала Николь, не сводя прекрасных глаз с Андре.
— Я его знаю?
— Отлично знаете.
— Кто же это? Ну не томи меня!
— Боюсь, что мой выбор будет неприятен мадемуазель.
— Неприятен?
— Да!
— Так ты сама находишь его неподходящим?
— Я этого не сказала.
— Тогда смело говори, — ведь господа обязаны интересоваться судьбой тех, кто хорошо им служит, а я тобой довольна.
— Мадемуазель очень добра.
— Ну так говори скорее и застегни мне корсет.
Николь собралась с силами.
— Это… Жильбер, — проговорила она, проницательно глядя на Андре.
К великому удивлению Николь, Андре и бровью не повела.
— Жильбер! А, малыш Жильбер, сын моей кормилицы?
— Он самый, мадемуазель.
— Как? Ты собираешься выйти за этого мальчика?
— Да, мадемуазель, за него.
— А он тебя любит?
Николь подумала, что настала решительная минута.
— Да он сто раз мне это говорил! — отвечала она.
— Ну так выходи за него, — спокойно посоветовала Андре. — Не вижу к тому никаких препятствий. Ты осталась без родителей, он сирота. Вы оба вольны решать свою судьбу.
— Конечно, — пролепетала Николь, ошеломленная тем, что все произошло не так, как она ожидала. — Как! Мадемуазель позволяет?..
— Ну, разумеется. Правда, вы оба еще очень молоды.
— Значит, мы будем вместе больше времени.
— Вы оба бедны.
— Мы будем работать.
— Что он будет делать? Он ведь ничего не умеет.
На этот раз Николь не сдержалась: лицемерие хозяйки вывело ее из себя.
— С позволения мадемуазель, она несправедлива к бедному Жильберу, — заявила девушка.
— Вот еще! Я отношусь к нему так, как он того заслуживает, а он бездельник.
— Он много читает, стремится к знанию…
— Он злобен, — продолжала Андре.
— Только не по отношению к вам, — возразила Николь.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Мадемуазель лучше меня знает: ведь по ее распоряжению он ходит на охоту.
— По моему распоряжению?
— Да. Он готов пройти десяток льё в поисках дичи.
— Клянусь, я не подозревала…
— Не подозревали дичи? — насмешливо спросила Николь.
Андре, возможно, посмеялась бы над этой остротой и в другое время могла бы не заметить желчи в словах служанки, если бы находилась в привычном расположении духа. Но ее измученные нервы были натянуты как струна. Малейшее усилие воли или необходимость движения вызывали в ней дрожь. Даже при небольшом напряжении ума она должна была преодолеть сопротивление: говоря современным языком, она нервничала. Это удачное словцо — филологическая находка! — обозначает состояние, при котором все дрожит от нетерпения; состояние сродни тому, что мы испытываем, когда едим какой-нибудь терпкий плод или прикасаемся к шероховатой поверхности.
— Чем я обязана твоему остроумию? — оживилась вдруг Андре. Вместе с нетерпимостью к ней вернулась проницательность, которую она из-за недомогания не могла проявить в самом начале разговора.
— Я не остроумна, мадемуазель, — возразила Николь. — Остроумие — привилегия знатных дам, а я простая девушка и говорю то, что есть.
— Ну и что же ты хочешь сказать?
— Мадемуазель несправедлива к Жильберу, а он очень внимателен к ней. Вот что я хотела сказать.
— Он исполняет свой долг, будучи слугой. Что же дальше?
— Жильбер не слуга, мадемуазель, он не получает жалованья.
— Он сын нашего бывшего арендатора. Он ест, спит и ничего не платит за стол и угол. Тем хуже для него — значит, он крадет эти деньги. Однако на что ты намекаешь, почему так горячо защищаешь мальчишку, на которого никто и не думал нападать?
— О, я знаю, что мадемуазель на него не нападает, — с ядовитой улыбкой проговорила Николь, — скорее напротив.
— Ничего не понимаю!
— Потому что мадемуазель не желает понимать.
— Довольно! — холодно отрезала Андре. — Немедленно объясни, что все это значит!
— Госпоже лучше меня известно, что я хочу сказать.
— Нет, я ничего не знаю и даже не догадываюсь, потому что мне некогда разгадывать твои загадки. Ты просишь моего согласия на брак, не так ли?
— Да, мадемуазель. Я прошу госпожу не сердиться на меня за то, что Жильбер меня любит.
— Да мне-то что, любит тебя Жильбер или нет? Послушайте, вы начинаете мне надоедать.
Николь подскочила, как петушок на шпорах. Долго сдерживаемая злость нашла наконец выход.
— Может, мадемуазель и Жильберу сказала то же самое? — воскликнула она.
— Да разве я хоть однажды разговаривала с вашим Жильбером? Оставьте меня в покое, вы, верно, не в своем уме.
— Если мадемуазель с ним и не разговаривает, то есть больше не разговаривает, то не так уж и давно.
Андре подошла к Николь и смерила ее презрительным взглядом.
— Вы битый час мне дерзите, я требую немедленно прекратить…
— Но… — взволнованно начала было Николь.
— Вы утверждаете, что я разговаривала с Жильбером?
— Да, мадемуазель, я в этом уверена.
Мысль, которую Андре до сих пор не допускала, показалась ей теперь вероятной.
— Так несчастная девочка ревнует, да простит меня Бог! — рассмеялась она. — Успокойся, Леге, бедняжка, я не смотрю на твоего Жильбера, я даже не знаю, какого цвета у него глаза.
Андре готова была простить то, что уже считала не дерзостью, а глупостью.
Теперь Николь сочла себя оскорбленной и не желала прощения.
— Я вам верю, — отвечала она, — ночью нелегко было рассмотреть.
— Ты о чем? — спросила Андре, начиная понимать, но еще отказываясь верить.
— Я говорю, что если мадемуазель говорит с Жильбером только по ночам, как это было вчера, то, конечно, трудно при этом рассмотреть черты его лица.
— Если вы не объяснитесь сию минуту, то берегитесь! — сильно побледнев, проговорила Андре.
— О, нет ничего проще, мадемуазель! — сказала Николь, забывая всякую осторожность. — Сегодня ночью я видела…
— Тише! Меня кто-то зовет, — перебила ее Андре.
Снизу в самом деле доносилось:
— Андре! Андре!
— Ваш отец, мадемуазель, — сказала Николь, — и с ним вчерашний незнакомец.
— Ступайте вниз. Скажите, что я не могу отвечать, потому что плохо себя чувствую, что я разбита, и немедленно возвращайтесь: я хочу покончить с этим нелепым разговором.
— Андре! — снова послышался голос барона. — Господин де Бальзамо хотел бы пожелать вам доброго утра.
— Ступайте, я вам говорю! — приказала Андре, властно указав Николь на дверь.
Николь беспрекословно повиновалась; так в доме повиновались Андре все, когда она приказывала, — без возражений и недовольства.
Но едва Николь вышла, как Андре почувствовала нечто странное. Несмотря на то что она твердо решила не выходить, неведомая сила заставила ее подойти к окну, которое оставалось приотворенным.
Она увидела Бальзамо. Он низко ей поклонился и смотрел на нее не отрываясь.
Она покачнулась и ухватилась за ставень.
— Здравствуйте, сударь! — в свою очередь отвечала она. Она произнесла эти слова в тот самый момент, когда Николь подошла к барону предупредить, что его дочь не может отвечать. Открыв рот, Николь в изумлении замерла, ничего не понимая в этом капризе.
Почти тотчас же обессилевшая Андре рухнула в кресло.
Бальзамо не сводил с нее глаз.
XII
ПРИ СВЕТЕ ДНЯ
Путешественник поднялся засветло, чтобы проверить, на месте ли карета, и справиться о самочувствии Альтотаса.
В замке все еще спали, за исключением Жильбера, притаившегося за оконной решеткой отведенной ему комнаты рядом с входной дверью. Он с любопытством следил за каждым движением Бальзамо.
Притворив за собой дверцу кареты, в которой спал Альтотас, Бальзамо куда-то ушел. Он был уже далеко, к Жильбер выскользнул из дому.
Поднимаясь в гору, Бальзамо был поражен тем, как при дневном освещении изменился пейзаж, показавшийся ему таким мрачным накануне.
Небольшой замок, сложенный из белого камня и красного кирпича, был окружен непроходимыми зарослями смоковниц и альпийского ракитника. Их душистые плоды гроздьями падали на крышу замка и словно венчали его золотой короной.
Перед входом был расположен водоем, имевший около тридцати шагов в поперечнике. Он был окаймлен широким газоном и кустами цветущей бузины. Глаз отдыхал при виде этого великолепного зрелища; особенно хороши были высокие каштаны и осины, росшие вдоль дороги.
От обоих флигелей расходились широкие аллеи, состоявшие из кленов, платанов и лип. Они поднимались невысокой, но густой порослью. В их кронах нашло приют множество птиц. По утрам они будили своими звонкими трелями обитателей замка. Бальзамо отправился по аллее, отходившей от левого флигеля, и, пройдя шагов двадцать, оказался среди кустов сирени и роз, которые источали нежный аромат, особенно сильный после прошедшей накануне грозы. Сквозь заросли бирючины пробивались ветви жимолости и жасмина; под ногами расстилался терявшийся среди цветущей ежевики и розового боярышника ковер из ирисов вперемежку с дикой земляникой.
Так Бальзамо оказался в самом живописном месте. Его взору открывались развалины, по которым еще можно было судить о былом величии старинного замка. Наполовину уцелевшая башня возвышалась над грудой камней, густо поросших плющом и диким виноградом — верными спутниками разрушения, которых природа поселила в руинах, словно пытаясь доказать, что и в развалинах возможна жизнь.
Теперь владение Таверне площадью не более восьми арпанов выглядело вполне прилично и привлекательно. Дом напоминал пещеру, вход в которую природа украсила цветами, лианами и причудливыми нагромождениями камней; однако при ближайшем рассмотрении пещера испугала бы и могла бы оттолкнуть заблудившегося путника, пожелай тот остаться среди скал на ночлег.
Около часа побродив среди развалин, Бальзамо пошел по направлению к дому. Вдруг он увидел барона в широченном пестром ситцевом шлафроке. Барон выбежал через боковую дверь, выходившую на лестницу, и бросился через сад, не замечая роз и давя улиток.
Бальзамо поспешил к нему навстречу.
— Господин барон! — заговорил он; его вежливость становилась все изысканней по мере того, как он убеждался в бедности хозяина дома. — Позвольте мне принести свои извинения и вместе с тем выразить восхищение. Мне не следовало выходить раньше чем вы проснетесь, но я был очарован видом из окна моей комнаты: мне захотелось познакомиться поближе с чудесным садом и живописными развалинами.
— Развалины в самом деле весьма привлекательны, сударь, — согласился барон, отвечая на его приветствие. — Впрочем, это все, что здесь заслуживает внимания.
— Это старый замок? — спросил путешественник.
— Да, он когда-то принадлежал мне, вернее, моим предкам. Он назывался Мезон-Руж, и мы долго носили это имя вместе с именем Таверне. Баронский титул, кстати сказать, принадлежит Мезон-Ружу. Впрочем, дорогой гость, давайте не говорить о том, чего нет.
Бальзамо поклонился в знак согласия.
— Я желал бы со своей стороны принести вам свои извинения, — продолжал барон. — Мой дом беден, я вас предупреждал.
— Я себя чувствую здесь прекрасно.
— Это конура, дорогой гость, настоящая конура, — сказал барон. — Теперь это еще и прибежище для крыс, которые появились здесь с тех пор, как лисы, ужи и ящерицы выжили их из старого замка. Черт побери! — воскликнул барон. — Ведь вы колдун или что-то вроде этого! Что вам стоит одним взмахом волшебной палочки возродить старый замок Мезон-Руж, прибавив тысячи две арпанов близлежащих лугов и лесов. Держу пари, вы об этом не подумали, хотя были столь любезны, что провели ночь в отвратительной постели.
— Сударь…
— Не спорьте со мной, дорогой гость, постель отвратительна, я хорошо это знаю, ведь она принадлежит моему сыну.
— Готов поклясться, господин барон, что постель показалась мне превосходной. Во всяком случае, я тронут вашей заботой и хотел бы от всей души иметь случай доказать вам свою признательность.
Неутомимый старик не преминул пошутить.
— Что же, — подхватил он, указывая на Ла Бри, который подавал ему в это время стакан воды на великолепной тарелке саксонского фарфора, — вот вам удобный случай. Не угодно ли вам будет сделать для меня то, что Господь сотворил в Кане: обратите эту воду в вино, хоть в бургундское, например в шамбертен, это было бы сейчас неоценимой услугой мне с вашей стороны.
Бальзамо улыбнулся; старик по-своему истолковал его улыбку и одним махом выпил воду.
— Прекрасно! — воскликнул Бальзамо. — Вода — благороднейший напиток, господин барон, принимая во внимание то обстоятельство, что Бог создал воду прежде, чем сотворил мир. Ничто не может перед ней устоять: она точит камень, а скоро, возможно, мир удивится, узнав, что вода растворяет алмаз.
— Ну так и меня, значит, вода растворит! — воскликнул барон. — Не хотите ли выпить со мной за компанию, дорогой гость? У воды то преимущество перед моим вином, что ее еще много, не то, что мараскина.
— Если бы вы приказали принести стакан и для меня, дорогой хозяин, я бы, вероятно, смог быть вам полезен.
— Я не совсем понимаю! Вы не торопитесь?
— Отнюдь нет! Прикажите подать мне стакан воды!
— Вы слышали, Л а Бри? — вскричал барон.
Ла Бри, со свойственной ему проворностью, бросился исполнять приказание.
— Итак, — продолжал барон, повернувшись к гостю, — стакан чистой воды, которую я пью по утрам, содержит какую-то тайну, о чем я даже и не подозревал? Так, значит, я десять лет занимался алхимией, как господин Журден изъяснялся прозой, даже не подозревая об этом?
— Мне неизвестно, чем занимались вы, — серьезно отвечал Бальзамо. — Я знаю, чем занимаюсь я!
Обратившись к Ла Бри, уже стоявшему перед ним со стаканом воды, он произнес:
— Благодарю вас, друг мой!
Взяв в руки стакан, он поднес его к глазам и принялся изучать содержимое хрустального стакана, в котором солнечный луч дробился, рассыпая жемчуга, а по поверхности пробегала рябь, переливавшаяся алмазными гранями.
— Должно быть, вы увидели нечто весьма любопытное в этом стакане воды, черт меня побери! — вскричал барон.
— О да, господин барон, — отвечал Бальзамо. — Сегодня, во всяком случае, я вижу кое-что интересное!
Барон не сводил глаз с Бальзамо, который со все возраставшим интересом продолжал свое занятие, в то время как изумленный Ла Бри, забывшись, продолжал протягивать ему тарелку.
— Так что же вы там видите, дорогой гость? — насмешливо переспросил барон. — Признаться, я сгораю от нетерпения. Может, меня ожидает наследство, еще один Мезон-Руж, который поправит мои дела?
— Я вижу весьма важное сообщение, которое я вам сейчас передам: приготовьтесь!
— В самом деле? Уж не собирается ли кто-нибудь на меня напасть?
— Нет, однако сегодня утром вы должны быть готовы к визиту.
— Так вы, должно быть, пригласили ко мне кого-нибудь из своих знакомых? Это дурно, сударь, очень дурно! Должен вас предупредить: может так случиться, что сегодня не будет куропаток!
— То, что я имею честь сообщить вам, весьма серьезно, дорогой хозяин! — продолжал Бальзамо. — Очень серьезно! Важная персона направляется в этот момент в Таверне.
— Да с какой стати, о Господи! И что это за визит? Просветите меня, дорогой гость, умоляю вас! Должен признаться, что для меня любой визит нежелателен. Скажите точнее, дорогой господин чародей, точнее, если это возможно!
— Не только возможно, но и, должен заметить, чтобы вы не чувствовали себя слишком мне обязанным, это совсем несложно.
Бальзамо вновь вперил взгляд в стакан, по поверхности которого расходились опаловые круги.
— Ну как, видите что-нибудь? — спросил барон.
— Да, и очень отчетливо.
— Тогда говорите, сестрица Анна.
— Я вижу, что к вам едет весьма важная персона.
— Да ну? И эта важная персона прибывает просто так, без приглашения?
— Ей не нужно приглашения. Это лицо прибудет в сопровождении вашего сына.
— Филиппа?
— Так точно!
Барона обуяло веселье, весьма оскорбительное для чародея.
— В сопровождении моего сына? Это лицо прибудет в сопровождении моего сына? Вот тебе раз!
— Да, господин барон.
— Так вы знакомы с моим сыном?
— Нет, мы не знакомы.
— А мой сын сейчас…
— В полульё отсюда, даже в четверти льё, вероятно!
— От Таверне?
— Да.
— Дорогой мой! Сын сейчас в Страсбуре, несет службу в гарнизоне, если только не дезертировал, чего он никогда не сделает, могу поклясться! Так что мой сын просто не может никого привезти.
— Однако он кое-кого привезет вам в гости, — продолжал Бальзамо, не сводя глаз со стакана с водой.
— А этот кое-кто — мужчина или женщина?
— Это дама, барон, очень знатная дама… погодите-ка, там происходит что-то странное…
— И важное? — подхватил барон.
— Да, клянусь честью.
— Говорите же!
— Вам лучше удалить служанку, эту маленькую распутницу, как вы ее называете, у которой на пальчиках коготки.
— С какой стати я должен ее удалять?
— Потому что у Николь Леге есть нечто общее в лице с прибывающей сюда дамой.
— Так вы говорите, что эта знатная дама похожа на Николь? Вы же сами себе противоречите.
— В чем противоречие? Мне случилось однажды купить рабыню, которая до такой степени была похожа на Клеопатру, что подумывали даже о том, чтобы отправить ее в Рим для участия в триумфе Октавиана.
— Опять вы за свое! — вздохнул барон.
— Вы вольны поступать как вам угодно, дорогой хозяин. Надеюсь, вам ясно, что меня это не касается, это в ваших интересах.
— Однако я не понимаю, каким образом сходство с Николь может задеть знатную даму.
— Представьте, что вы король Франции, чего я вам не пожелал бы, или дофин, чего я вам желаю еще меньше; были бы вы довольны, если бы, приехав в какой-нибудь дом, увидели среди прислуги слепок с вашего августейшего лица?
— О черт! — воскликнул барон. — Непростая задача! Значит, из того, что вы говорите, следует…
— …что прибывающая дама, занимающая весьма высокое положение, была бы недовольна, если бы ей пришлось увидеть как бы свою копию в короткой юбке и простой косынке.
— Ну хорошо, — со смехом продолжал барон, — мы об этом подумаем, когда придет время. Во всей этой истории меня больше всех радует сын. Дорогой Филипп! Какой же счастливый случай может привести его сюда просто так, без предупреждения?
Барон совсем развеселился.
— Я вижу, — без улыбки заметил Бальзамо, — мое предсказание доставляет вам удовольствие? Я в восторге, клянусь честью! Однако на вашем месте, господин барон…
— Что на моем месте?
— Я отдал бы некоторые распоряжения, я подготовился бы…
— Вы не шутите?
— Нет.
— Я подумаю, дорогой гость! Подумаю!
— Самое время…
— Вы серьезно мне это говорите?
— Как нельзя более серьезно, господин барон; если вы хотите достойно встретить особу, которая оказывает вам честь своим посещением, у вас нет ни одной лишней минуты.
Барон покачал головой.
— Я вижу, вы сомневаетесь? — спросил Бальзамо.
— Должен признаться, дорогой гость, что вы имеете дело с крайне недоверчивым собеседником, клянусь честью…
Именно в эту минуту барон и направился к флигелю, где жила его дочь, — ему хотелось поделиться с ней предсказаниями гостя. Он стал звать ее:
— Андре! Андре!
Читатель уже знает, как девушка отвечала на приглашение отца и как пристальный взгляд Бальзамо увлек ее к окну.
Николь тоже стояла там, с удивлением поглядывая на Ла Бри, который в полном недоумении делал ей какие-то знаки, стараясь что-то дать понять.
— Дьявольски трудно поверить, — повторял барон. — Вот если бы можно было посмотреть…
— Раз вам непременно хочется увидеть, обернитесь, — предложил Бальзамо, указывая рукой на аллею, в конце которой появился всадник; в тот же миг послышался стук копыт.
— О! — вскричал барон. — В самом деле…
— Господин Филипп! — воскликнула Николь, поднимаясь на цыпочки.
— Молодой хозяин! — обрадовался Ла Бри.
— Брат! Это мой брат! — воскликнула Андре, протягивая из окна руки.
— Не ваш ли это сын, господин барон? — небрежно спросил Бальзамо.
— Да, черт побери! Он самый, — отвечал ошеломленный барон.
— Это только начало, — заметил Бальзамо.
— Так вы в самом деле колдун? — воскликнул барон.
На губах незнакомца заиграла торжествующая улыбка.
Всадник приближался. Вот лошадь замелькала среди деревьев и не успела замедлить свой бег, как забрызганный грязью молодой офицер среднего роста соскочил с разгоряченной быстрым бегом и взмыленной лошади и подбежал к отцу. Они обнялись.
— А, черт! Ах, черт меня подери! — повторял барон (куда делась его недоверчивость?).
— Да, отец, — проговорил Филипп, желавший рассеять последние сомнения, написанные на лице старика, — это я, точно я!
— Конечно, ты, — отвечал барон, — прекрасно вижу, что это ты, черт возьми! Но каким образом?
— Отец! — обратился к нему Филипп. — Нашему дому оказана великая честь.
Старик поднял голову.
— В Таверне с минуты на минуту прибудет именитая гостья. Скоро здесь будет эрцгерцогиня Австрии и дофина Франции Мария Антуанетта Йозефа.
Растеряв весь запас сарказма и иронии, барон обратился к Бальзамо:
— Прошу прощения, — смиренно произнес он, уронив руки.
— Господин барон, — сказал Бальзамо, поклонившись Таверне. — Позвольте мне оставить вас наедине с сыном, вы давно не видались; должно быть, вам много надо сообщить ДРУГ другу.
Он отвесил поклон Андре, которая обрадовалась приезду брата и бросилась ему навстречу. Затем Бальзамо удалился, знаком приказав Николь и Ла Бри следовать за ним. Они скрылись в аллее.
Назад: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Дальше: XIII ФИЛИПП ДЕ ТАВЕРНЕ

