Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 18. Джузеппе Бальзамо. Часть 1,2,3 1994
Назад: ВВЕДЕНИЕ
Дальше: VI АНДРЕ ДЕ ТАВЕРНЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
ГРОЗА
Неделю спустя после описанной нами сцены, около пяти часов вечера, карета, запряженная четверкой лошадей, которой правили два форейтора, выехала из Понта-Мусона, небольшого городка, расположенного между Нанси и Мецем. Лошадей только что переменили на почтовой станции. Не обращая ни малейшего внимания на приветливую хозяйку, стоявшую на пороге в ожидании запоздалых гостей и зазывавшую их к себе, путешественники отправились в Париж.
Пока меняли лошадей, десятка два ребятишек и добрый десяток деревенских кумушек обступили экипаж. Когда четверка лошадей унесла тяжелую карету, скрывшуюся за углом, толпившийся народ, размахивая руками, стал расходиться по домам. Одних развеселил, других удивил невиданный доселе экипаж, переехавший мост. Мост через Мозель был построен по приказу славного короля Станислава, пожелавшего связать с Францией свое крошечное королевство. Много разных экипажей проезжало по мосту из Эльзаса. Местным жителям не в диковинку были причудливые фургоны, привозившие по базарным дням из Фальсбура уродцев о двух головах, танцующих медведей, бродячий цирк с акробатами, — этот цыганский табор цивилизованных стран.
Однако не только смешливых ребят да старых сплетниц способен был ошеломить своим видом громоздкий экипаж на огромных колесах с крепкими рессорами. Тем не менее он катился с такой скоростью, что зрители не могли не воскликнуть:
— Не похоже на почтовую карету!
Читателю повезло, что он не видел подобного экипажа; позвольте же нам описать его.
Начнем с главного кузова (мы называем его главным кузовом, потому что впереди него было еще нечто вроде кабриолета). Итак, главный кузов был выкрашен в светло-голубой цвет, а посреди каждой стенки красовались изящные вензеля из замысловато переплетенных между собой «Д» и «Б», увенчанные баронской короной.
Два окна, именно окна, а не окошка, с занавесками из белого муслина, освещали карету изнутри. Но окна эти были почти невидимы для посторонних, так как находились на передней стенке кузова и выходили на кабриолет. Решетка на окнах позволяла разговаривать с тем, кто находился в кузове, и, кроме того, можно было откинуться на нее, не разбив стекол, задернутых занавесками.
Кузов этот, находившийся позади, был, очевидно, основной частью диковинного экипажа. Он имел восемь футов в длину и шесть — в ширину, освещался через окна, а свежий воздух поступал через застекленную форточку империала. Продолжая описание удивительных особенностей экипажа, привлекавших внимание прохожих, прибавим, что на крыше его была еще жестяная черная труба, по меньшей мере, в фут высотой, из которой клубился голубоватый дым, превращавшийся затем в белые облачка, а те волнами стлались вслед за уносившейся каретой.
В наши дни подобное сооружение могло бы навести на мысль об изобретении, в котором инженер гениально сочетал мощность пара с выносливостью лошадей.
Это казалось еще более вероятным оттого, что к карете, запряженной, как мы уже говорили, четверкой лошадей, управляемых парой форейторов, была привязана сзади еще одна лошадь. Маленькая вытянутая голова лошади, тонкие изящные ноги, узкая грудь, густая грива и летевший по ветру хвост свидетельствовали о том, что это арабский скакун. Лошадь была оседлана — значит, время от времени кто-то из путешественников, будто заключенных в Ноевом ковчеге, доставлял себе удовольствие проехаться верхом и скакал галопом впереди кареты, которая, пожалуй, не вынесла бы такой скорости.
В Понта-Мусоне сменившийся форейтор получил, помимо вознаграждения, двойные прогонные: их протянула ему белая мускулистая рука, высунувшись между кожаных занавесок, отгораживавших переднюю часть кабриолета почти так же надежно, как муслиновые занавески скрывали переднюю часть главного кузова.
Обрадованный форейтор проворно снял шляпу и воскликнул:
— Благодарю вас, монсеньер!
Звучный голос ответил на немецком языке, который еще понимают в окрестностях Нанси, хотя уже не говорят на нем:
— Schnell, schneller!
В переводе на французский это означало: «Быстро, скорее!»
Форейторы понимают почти все языки, когда обращенные к ним слова сопровождаются звоном металла, который очень любит эта порода людей, о чем прекрасно осведомлены все путешественники.
Вот почему два новых форейтора делали все возможное, чтобы в начале пути заставить лошадей помчаться галопом. Однако после неимоверных усилий, больше делавшим честь их крепким рукам, чем лошадиным ногам, они вынуждены были, устав от бесполезной борьбы, перевести коней на рысь, позволявшую делать по два с половиной-три льё в час.
Около семи переменили лошадей в Сен-Мийеле, та же рука протянула между занавесок плату за почтовый прогон, тот же голос отдал прежнее приказание.
Само собой разумеется, что необычайная карета здесь вызвала столь же сильное удивление, как в Понта-Мусоне, тем более что экипаж выглядел еще фантастичнее в надвигавшихся сумерках.
После Сен-Мийеля дорога поднималась в гору. Лошади пошли шагом; полчаса ушло на то, чтобы проехать около четверти льё.
Одолев подъем, форейторы дали лошадям передохнуть, и путешественники могли, откинув кожаные занавеси, окинуть взором широкий простор, постепенно исчезавший в вечернем тумане.
Погода до трех часов пополудни была ясная и теплая. К вечеру стало душно. Большая молочно-белая туча, тянувшаяся с юга, будто пыталась угнаться за каретой. Прежде чем путешественники успели доехать до Барле-Дюка, где форейторы предлагали на всякий случай остановиться на ночлег, облако едва не настигло карету.
Дорога, с одной стороны которой возвышалась гора, а с другой был обрыв, на протяжении полульё здесь круто спускалась в долину, где змеилась Мёз. Ехать по ней, не подвергаясь опасности, можно было только шагом, и поэтому форейторы, когда снова двинулись в путь, пустили лошадей аллюром.
Туча, продолжая надвигаться, опускалась все ниже, расползалась по земле, смешиваясь с туманом, как бы расталкивая голубоватые облачка, которые пытались расположиться по ветру, словно корабли во время морского сражения.
Вскоре за огромной, пугающе-белой тучей, расползавшейся по небу со скоростью прибывающей во время прилива воды, исчезли последние солнечные лучи. Тускло-серый свет просачивался сквозь тучу, едва освещая землю. Листья на деревьях затрепетали, хотя даже слабый ветерок не колебал их, и потемнели, как бывает после захода солнца.
Внезапно вспышка молнии распорола тучу, небо словно раскололось на тысячу огненных кусков; испуганный взгляд проникал в неизмеримую глубь небосвода, пылавшую, словно адская бездна.
В тот же миг удар грома, достигший лесной опушки, вдоль которой проходила дорога, потряс землю и подстегнул огромную грозовую тучу, словно бешеного коня. Карета, однако, продолжала свой путь, пуская сквозь трубу дым, черный вначале и превратившийся постепенно в прозрачно опаловый.
Небо потемнело, и сейчас же оконце на крыше кареты засветилось ярко-красным огнем; было ясно, что обитатель этой коробки на колесах, не обращая внимания на дорожные случайности, принимал возможные меры, чтобы не прерывать дело, которым он был занят.
Карета все еще находилась на плоскогорье и не начала еще спускаться, когда раздался другой, более мощный, зазвеневший металлом раскат грома, затем пошел дождь, вначале падавший редкими каплями, а потом хлынул частый и сильный: можно было подумать, что небо пускает на землю множество стрел.
Форейторы совещались, поэтому карета остановилась.
Тот же голос, только на сей раз на чистейшем французском языке спросил:
— Какого черта мы здесь торчим?
— Мы спрашивали друг друга, стоит ли ехать дальше.
— Сначала у меня надо было спросить. Вперед!
Голос был такой властный и мощный, что форейторы повиновались, и карета покатилась вниз.
— В добрый путь! — прибавил голос.
На минуту приподнявшись, кожаные занавеси вновь упали, скрыв говорившего от форейторов.
Глинистая дорога, залитая потоками дождя, стала такой скользкой, что лошади не могли идти.
— Сударь! — сказал форейтор, придерживая коренную. — Дальше ехать нельзя.
— Это почему же? — переспросил уже знакомый нам голос.
— Кони не идут дальше, они скользят.
— Сколько нам осталось до смены лошадей?
— Далеко, сударь, мы от нее в четырех льё.
— Вот что, любезный, подкуй своих лошадей серебром и поезжай, — произнес незнакомец, отодвинув занавеску и протянув четыре экю по шесть ливров.
— Вы очень добры, — сказал форейтор, зажав монеты в огромном кулаке, а потом засунув их в широченный сапог.
— Мне показалось, господин что-то тебе сказал? — спросил второй форейтор, услыхав, как звякнули упавшие в сапог монеты: ему тоже хотелось принять участие в интересном разговоре, принимавшем столь любопытный оборот.
— Да, он говорит, что надо ехать!
— Вы что-нибудь имеете против, друг мой? — спросил путешественник ласково, но твердо, давая понять, что не потерпит возражений.
— Да не я, сударь, это лошади не идут! Видите, не слушаются…
— А для чего же существуют шпоры? — спросил путешественник.
— Да хоть проткни я им живот, они ни шага больше не сделают. Пусть меня Бог накажет, если…
Не успел добрый малый договорить, как вспыхнула молния и раздался оглушительный грохот, в котором потонули последние его слова.
— Не вовремя я Бога помянул! — проговорил форейтор. — Ох, сударь, глядите: карета сама пошла, ох, сейчас она и понесется! Господи Боже, сами едем!
В самом деле, лошади не могли сдержать тяжелую повозку, давившую им на круп, ноги их оступались, скользили, карета катилась все быстрее.
Лошади обезумели от боли и понесли, экипаж стрелой полетел вниз по темному склону навстречу неизбежной гибели.
Путешественник высунулся из кареты.
— Бездельник! — закричал он. — Мы все из-за тебя погибнем! Держи левее, да левее же!
— Вас бы на мое место, сударь! — прокричал в ответ перепуганный насмерть форейтор, безуспешно пытаясь поймать вожжи и обуздать непослушных лошадей.
— Джузеппе! — вскричала женщина, которую до тех пор не было слышно. — Джузеппе, на помощь! На помощь! Святая Мадонна!
Этот призыв к Божьей матери вполне был уместен, так как катастрофа казалась неизбежной, ужасной, невообразимой. Тяжелая карета, потеряв управление, неслась к пропасти, над которой уже, казалось, занесла копыта передняя лошадь. Еще три оборота колес, и лошади, экипаж, форейторы — все было бы смято, погибло бы в бездне. В тот самый миг путешественник прыгнул из кабриолета прямо на дышло, схватил всадника одной рукой за шиворот, другой — за ремень, приподнял, словно младенца, отшвырнул шагов на десять, вскочил вместо него в седло и схватил вожжи.
— Левее! Левее, дурак! — диким голосом крикнул он другому форейтору. — Не то убью!
Окрик возымел магическое действие: форейтор, управлявший двумя передними лошадьми, подхлестнутый криками своего товарища, сделал нечеловеческое усилие и, вывернув карету, вывел ее с помощью незнакомца на мощеную дорогу, по которой карета помчалась со страшной скоростью, подгоняемая громовыми раскатами.
— В галоп! — прокричал путешественник. — В галоп! Если посмеешь ослушаться, я сверну шею тебе и твоим лошадям!
Форейтор понимал, что это не пустая угроза; он принялся нахлестывать лошадей с удвоенной энергией, и бешеная скачка продолжалась.
Можно было подумать, глядя со стороны на грохочущий экипаж с дымившейся трубой, слыша приглушенные крики, доносившиеся из кареты, что, подгоняемая ураганом, это мчится дьявольская колесница, запряженная сказочными лошадьми.
Не успели путешественники прийти в себя после пережитого волнения, как столкнулись с другой опасностью. Туча, будто на крыльях летевшая над равниной, неслась столь же стремительно, что и лошади. Время от времени незнакомец задирал голову, и, когда молния вспарывала тучу, на его лице при свете вспышек можно было прочитать беспокойство, которое он не пытался скрыть, так как был уверен, что никто, кроме Всевышнего, его не видит. Едва карета достигла подножия горы, из-за внезапного перемещения воздушных масс возникло два электрических разряда, которые разодрали тучу с ужасным треском, сопровождавшимся громом и молнией. Лошадей словно охватил огонь, сначала фиолетовый, затем зеленоватый, перешедший потом в белый. Лошади, мчавшиеся сзади, взметнулись на дыбы; в воздухе запахло серой; впереди лошади рухнули, будто под их копытами разверзлась земля. В тот же миг одна из них, подхлестываемая форейтором, поднялась и, почувствовав, что ее больше не сдерживают постромки, лопнувшие от сильного толчка, умчалась в темноту, унося седока. Карета, проехав еще немного, остановилась, натолкнувшись на труп убитой лошади.
Вся эта сцена сопровождалась душераздирающими воплями женщины, сидевшей в карете.
Наступила минута крайнего замешательства, когда никто не мог сказать, жив он еще или уже мертв. Путешественник поспешил ощупать себя.
Он был жив и здоров, но дама лежала без сознания.
Путешественник догадался, что произошло, по глубокой тишине, последовавшей за криками, только что доносившимися из кабриолета. Однако он не бросился немедленно на помощь, как того следовало ожидать.
Спрыгнув на землю, он подбежал к арабскому красавцу-скакуну, о котором мы уже рассказывали. Конь был сильно напуган, напряжен, шерсть у него стояла дыбом. Он дергал дверцу кареты, натягивая корду, которой был привязан к ручке. После тщетных усилий освободиться гордое животное застыло, словно зачарованное бурей. Хозяин коня свистнул и ласково погладил его, конь отпрянул и тревожно заржал, будто не узнавая его.
— A-а, опять эта проклятая лошадь, — проворчал надтреснутый голос из глубины фургона, — будь она проклята, она трясет мне стенку!
Затем тот же голос, но значительно громче, закричал нетерпеливо и угрожающе:
— Nhe goullac hogoud shaked, haffrit!
— He сердитесь на Джерида, учитель, — проговорил путешественник, отвязывая коня и собираясь привязать его позади кареты, — он только испугался, да и было, по правде говоря, чего испугаться.
При этих словах путешественник открыл дверцу, откинул подножку и, шагнув внутрь, захлопнул за собой дверь.
II
АЛЬТОТАС
Путешественник оказался лицом к лицу со стариком, сероглазым и крючконосым, с трясущимися руками. Сидя в огромном кресле, старик правой рукой переписывал объемистый пергаментный манускрипт, озаглавленный «La chiave del gabinetto», а левой держал серебряную шумовку.
Поза старика, его занятие, неподвижное морщинистое лицо, на котором живыми были только глаза и губы, — все показалось бы странным читателю. Однако незнакомцу все это, очевидно, было привычно: он не удостоил необычную обстановку даже беглым взглядом, несмотря на то, что она этого заслуживала.
Три стены — старик, если помнит читатель, именно так называл перегородки экипажа, — три стены с этажерками, заполненными книгами, окружали обычное кресло, которое никак не соответствовало этому диковинному персонажу; в угоду ему сверху, над книгами, были прикреплены полки, где разместились в большом количестве разнообразные склянки и какие-то коробочки, вставленные в деревянные гнезда; в подобных хранится стеклянная и столовая посуда на корабле. Любой из этих ящиков старик мог достать без посторонней помощи, потому что свободно передвигался вместе с креслом, которое поднималось и опускалось по мере надобности при помощи бокового рычага, и старик легко сам с этим справлялся.
Комната (так мы будем называть ее) имела восемь футов в длину, шесть — в ширину и столько же — в высоту. Напротив двери, помимо склянок и перегонных аппаратов, ближе к четвертой стене, остававшейся свободной для входа и выхода, громоздился очаг с навесом, кузнечными мехами и колосниками. В тот момент в печке раскалился добела тигель, в котором что-то кипело. Поднимавшийся над тиглем пар выходил через трубу, которую читатель уже видел на крыше кареты, тот самый таинственный пар, неизменно вызывавший удивление и любопытство у прохожих любого возраста, пола и любой национальности.
Помимо всего прочего, среди банок, склянок, книг, картонок, лежавших на полу в живописном беспорядке, можно было заметить медные щипцы, а также несколько угольков, плававших в разнообразных растворах. Там же стоял большой сосуд, наполовину наполненный водой, а с потолка свисали подвешенные за нитки пучки трав, из которых одни, казалось, могли быть собраны накануне, другие — лет сто назад.
В комнате стоял сильный запах, который в менее экзотической обстановке можно было бы назвать благоуханием.
Путешественник вошел, когда старик, с удивительной легкостью развернув кресло, подъехал к печке и с благоговейной осторожностью стал снимать пену с тигля.
Его отвлекло появление ученика: правой рукой он глубже надвинул бывший когда-то черным бархатный колпак, из-под которого выбивалось несколько редких прядей, блестевших, словно серебряные нити. Старик с замечательной легкостью выдернул из-под колесика кресла полу длинной шелковой мантии, подбитой ватой, которая за десять лет превратилась в выцветшую бесформенную тряпку.
Старик, казалось, был в скверном настроении; он ворчал, снимая накипь и придерживая другой рукой мантию:
— Боится он, видите ли, проклятая животина! А чего ему бояться, хотел бы я знать? Дернул дверь за ручку, толкнул печку, и почти половина моего эликсира пролита в огонь. Ашарат! Богом прошу, бросьте эту скотину в первой же пустыне.
Путешественник в ответ улыбнулся.
— Прежде всего, дорогой учитель, — сказал он, — пустынь мы больше не встретим на своем пути, потому что мы уже во Франции. Кроме того, я не могу себе позволить просто так бросить лошадь стоимостью в тысячу луидоров, точнее, бесценную, так как она кровей Аль-Борак.
— Подумаешь, тысяча луидоров! Да я их вам хоть сейчас выложу: тысячу луидоров или что-нибудь на ту же сумму. Ваша лошадка и так обошлась мне уже больше чем в миллион, не считая дней, которые она унесла из моей жизни.
— Да чем же так провинился Джерид? Рассказывайте!
— Чем провинился? Да еще несколько минут, и эликсир так закипел бы, что ни одна капля не успела бы испариться. Правда, ни Зороастр, ни Парацельс не указывают на то, что именно так должно проходить кипение, но зато Борри настоятельно это рекомендует.
— Дорогой учитель! Еще две-три секунды, и эликсир закипит.
— A-а, да, как же, закипит! Видите, Ашарат? Наверное, надо мной проклятие тяготеет: огонь гаснет, не знаю, что там падает через трубу…
— Зато я знаю! — воскликнул со смехом ученик, — это вода!
— То есть как вода? Вода! Раз так — пропал эликсир! Опять начинай сначала! Можно подумать, у меня есть на это время! Господи, Боже мой! — в отчаянии вскричал старик, воздев руки к небу. — Вода! Какая еще вода, Ашарат!
— Чистейшая дождевая вода, учитель. Начался ливень, вы разве не заметили?
— А разве я что-нибудь замечаю, когда работаю? Вода!.. Так вот это что… Знаете, Ашарат, это так меня взволновало! Подумать только! Я уже полгода прошу у вас колпак на дымовую трубу… Полгода!.. Да что я говорю — целый год! А вот вы о нем не подумали, а о чем вам еще думать? Но вы молоды. Ну и что вышло из-за вашей небрежности? Сегодня дождь, завтра ветер нарушают все мои расчеты и опыты. А ведь я должен спешить, клянусь Юпитером! Вы хорошо знаете, мой час близок, и если я не буду готов, если не найду эликсир жизни — прощай, мудрец, прощай, ученый Альтотас! Тринадцатого июля в одиннадцать часов вечера мне исполняется сто лет. К этому времени эликсир должен достигнуть совершенства.
— Мне кажется, все идет прекрасно, дорогой учитель, — заметил Ашарат.
— Вне всякого сомнения! Я даже снял пробу: левая рука была почти полностью парализована, теперь я могу согнуть ее. И, кроме того, я сэкономил время, которое раньше тратил на еду: при всем своем несовершенстве эликсир поддерживает мои силы. О, иногда я думаю, что мне недостает всего одной какой-нибудь травки, одного-единственного стебелька ее, чтобы эликсир был готов. Ведь мы могли уже сто, тысячу раз пройти мимо нее, эту траву могли растоптать наши лошади, мы могли раздавить ее колесами, да, Ашарат, ту самую, о которой говорит Плиний и которую ученые так и не нашли или, вернее, не узнали, ведь ничто не исчезает! Послушайте, а что, если вы спросите ее название у Лоренцы во время одного из ее откровений?
— Конечно, учитель, будьте спокойны, я узнаю у нее!
— А пока, — глубоко вздохнув, проговорил старый ученый, — опять мой эликсир не готов; мне понадобится еще полтора месяца, чтобы снова прийти к тому, чего я достиг сегодня, да вы знаете! Имейте в виду, Ашарат, в день моей смерти вы потеряете, по крайней мере, столько же, сколько и я… Что там за шум? Карета так громыхает?
— Нет, учитель, гроза.
— Какая гроза?
— Та, что едва всех нас не погубила, особенно мне досталось. Правда, на мне шелковая одежда, это меня и спасло.
Хлопнув себя по колену, щелкнувшему словно высохшая кость, старик произнес:
— Итак, вот к чему приводит ваше ребячество, Ашарат: погибнуть в грозу, глупейшим образом, от электрического разряда, который я мог бы отвести, имей я на это время, в свою печку. По-вашему, недостаточно того, что я подвергаюсь риску сломать шею по вине неловких или злых людей. Вы заставляете меня преодолевать трудности, которые посылает небо — иными словами, те, которые мне было бы легче всего избежать.
— Простите, учитель, вы еще не объяснили мне…
— Как! Разве я не излагал вам свою систему начал всего сущего, не рассказывал о бумажном змее-громоотводе? Когда я составлю свой эликсир, мы еще вернемся к этой теме, а сейчас, понимаете, у меня нет времени.
— Так вы полагаете, можно обуздать молнию?
— Не только обуздать, но и отвести ее куда вам заблагорассудится. В тот день, когда мне перевалит за сто лет и я смогу спокойно жить дальше еще лет пятьдесят, в тот самый день я накину на молнию стальную узду и поведу за собой так же свободно, как вы водите Джерида. А пока, Ашарат, прикажите поставить колпак на трубу, умоляю вас!
— Будет исполнено, не беспокойтесь.
— «Будет исполнено»! «Будет исполнено»! Опять в будущем, точно будущее принадлежит нам двоим! О, никто и никогда не поймет меня! — вскричал ученый, заметавшись в кресле и кусая кулаки. — «Не беспокойтесь»!.. И вы говорите, чтобы я не беспокоился! Да ведь если через три месяца эликсир не будет готов, все будет кончено для меня. Но уж если я переживу тот день, если я снова обрету молодость, гибкость мышц, свободу движений, тогда мне никто не будет нужен, никто мне не скажет: «Я сделаю…» — уж тогда я скажу: «Я сделал!»
— Можете ли вы сказать то же по поводу нашего с вами общего великого дела? Вы уже думали о нем?
— О Господи, разумеется, да если бы я был так же уверен в том, что получу мой эликсир, как уверен в том, что сделал алмаз…
— Вы действительно в этом уверены, учитель?
— Конечно, потому что я его уже получил.
— Получили?
— Держите, вернее, смотрите.
— Куда?
— Справа от вас, вон в том небольшом стеклянном сосуде, да, да, вот в этом.
Путешественник с жадностью схватил сосуд, на который указывал Альтотас. Это был маленький хрустальный кубок тонкой работы, дно и стенки которого покрывал мельчайший порошок.
— Алмазная пыль! — вскричал молодой человек.
— Точно, алмазная крошка, а что в середине? Вглядитесь хорошенько.
— Да, да, вижу: алмаз величиной с ячменное зерно.
— Размер не имеет значения. Мы можем собрать воедино весь порошок, из ячменного зерна получим конопляное, из конопляного — горошину. Но, ради Бога, дорогой Ашарат, в обмен на уговор, который я заключаю с вами, прикажите, пожалуйста, поставить мне колпак на трубу, чтобы в нее не попадала вода, а также установите на вашем экипаже громоотвод, чтобы гроза обходила нас стороной.
— Да, да, хорошо, не беспокойтесь.
— Опять! Снова ваше вечное «Не беспокойтесь», что за мучение! Молодость! Безрассудная, самонадеянная молодость! — воскликнул он, мрачно усмехнувшись и открывая в улыбке беззубый рот; казалось, глаза его ввалились еще глубже.
— Учитель! — обратился к нему Ашарат. — Огонь гаснет, тигель остывает, что там?
— Взгляните сами.
Молодой человек повиновался, открыл тигель и обнаружил в нем кусочек остекленевшего уголька величиной с небольшой орех.
— Алмаз! — вскричал он.
Затем прибавил:
— Да, но непрозрачный, неровный, не имеющий ценности.
— Так ведь огонь погас, Ашарат, потому что на трубе не было колпака, понимаете?
— Ну, простите меня, учитель, — попросил молодой человек, так и этак поворачивая алмаз в пальцах; камень то играл гранями, то оставался темным. — Простите меня и съешьте что-нибудь: вам нужно подкрепиться.
— Пустое! Я уже выпил ложку эликсира часа два назад.
— Ошибаетесь, учитель, это было в шесть утра.
— Вот именно! А который теперь час?
— Скоро половина третьего пополудни.
— Боже мой! — сложив руки на груди, вскричал ученый. — Еще один день позади, целый день потерян! Так дни стали короче? В сутках уже не двадцать четыре часа?
— Раз вы не хотите поесть, учитель, то поспите хоть немного.
— Ну что ж, я, пожалуй, посплю часа два. Но уж через два часа — заметьте время, — через два часа вы меня разбудите.
— Обещаю.
— Видите ли, в чем дело, Ашарат: когда я засыпаю, — ласково проговорил старик, — я боюсь, что это уже навсегда. Так вы разбудите меня, не так ли? Не обещайте, лучше поклянитесь.
— Клянусь, учитель.
— Через два часа?
— Через два часа.
В это мгновение послышался топот пущенной в галоп лошади. Раздался чей-то крик, выражавший беспокойство и вместе с тем удивление.
— Что бы это значило? — распахнув дверь, вскричал путешественник; он спрыгнул на землю, не обращая внимания на подножку.
III
ЛОРЕНЦА ФЕЛИЧИАНИ
Пока путешественник и ученый беседовали, сидя в карете, снаружи произошло следующее.
Как мы уже сказали, когда удар молнии угодил в лошадей, ехавших впереди, поднял на дыбы тех, что были сзади, дама, находившаяся в кабриолете, потеряла сознание.
Она оставалась несколько минут без чувств, затем мало-помалу пришла в себя, так как причиной обморока был лишь страх.
— О Боже, — вымолвила она, — неужели все покинули меня и никто не сжалится надо мной?
— Сударыня, — послышался робкий голос. — Не могу ли я чем-нибудь помочь вам?
Услышав эти слова, которые, как ей показалось, кто-то произнес совсем рядом, молодая женщина встрепенулась и, просунув голову и руки сквозь кожаные занавеси кабриолета, оказалась лицом к лицу с молодым человеком, стоявшим на подножке.
— Это вы сейчас говорили, сударь? — спросила она.
— Да, сударыня, — отвечал молодой человек.
— Вы предлагаете мне помощь?
— Да.
— Скажите сначала, что здесь произошло?
— Случилось вот что, сударыня: молния почти угодила в карету, разорвав постромки лошадей, ехавших впереди. Они унесли с собой форейтора.
Женщина огляделась, ее лицо выражало сильное беспокойство.
— А… тот, кто правил лошадьми, ехавшими сзади, где он? — спросила она.
— Только что поднялся в карету, сударыня.
— С ним ничего не случилось?
— Ничего.
— Вы в этом уверены?
— Во всяком случае, когда он спешился, то был жив и здоров.
— Слава Богу!
Женщина облегченно вдохнула.
— А вы где были, сударь, как вы оказались рядом так кстати и предлагаете мне помощь?
— Сударыня! Меня захватила гроза, когда я гулял в этом мрачном месте; это не что иное, как вход в каменоломню. Вдруг я увидел, что из-за поворота показалась карета. Сначала я подумал, что лошади понесли, но потом понял, что ими управляет крепкая рука. Неожиданно со страшным треском полыхнула молния; я даже подумал, что она угодила в меня и мне пришел конец. Все, что я рассказываю, было как во сне.
— Так, значит, вы не уверены в том, что человек, который правил лошадьми, сейчас в экипаже?
— Напротив, сударыня. Я пришел в себя и видел ясно, как он туда поднялся.
— Не могли бы вы убедиться в том, что он все еще там?
— То есть как?
— А вот как. Если он в карете, вы услышите два голоса.
Молодой человек спрыгнул с подножки, подошел к стенке фургона и прислушался.
— Да, сударыня, — вернувшись, сообщил молодой человек, — он там.
Молодая женщина кивнула, словно желая сказать: «Хорошо!» — и несколько минут просидела неподвижно в глубоком раздумье, опустив голову на руку.
Тем временем молодой человек успел разглядеть ее.
Это была молодая женщина лет двадцати трех-двадцати четырех. Лицо у нее было смуглое, но того матового оттенка, который бывает ярче и красивее розового и румяного лица.
Прекрасные голубые глаза, устремленные ввысь в немом вопросе, сияли, словно звезды. Темные волосы были ненапудрены; вопреки тогдашней моде, они ниспадали черными как смоль завитками на смуглую шею.
Будто решившись на что-то, она спросила:
— Сударь, где мы находимся?
— Это дорога, ведущая из Страсбура в Париж.
— А какое место дороги?
— Мы в двух льё от Пьерфита.
— Что такое Пьерфит?
— Городок.
— А что за ним?
— Барле-Дюк.
— Это название города?
— Да, сударыня.
— Большой это город?
— Кажется, четыре или пять тысяч жителей.
— А нет ли здесь проселочной дороги, которая вела бы прямо к Барле-Дюку?
— Нет, сударыня, во всяком случае, я о такой не слыхал.
— Peccato, — прошептала она, скрываясь в кабриолете.
Молодой человек выждал некоторое время, чтобы убедиться, не хочет ли она еще о чем-нибудь спросить. Она молчала, и он собрался уйти.
Это его движение, по-видимому, вывело ее из состояния задумчивости: она снова выглянула из кабриолета.
— Сударь! — позвала она.
Молодой человек обернулся.
— Я слушаю, — приближаясь, сказал он.
— Вы позволите еще один вопрос?
— Пожалуйста.
— К задку кареты был привязан конь, не так ли?
— Да, сударыня.
— Он все еще там?
— Не совсем так, сударыня: человек, скрывшийся в экипаже, отвязал его, а затем привязал к рессорам.
— С конем тоже ничего не случилось?
— Думаю, что нет.
— Это дорогая лошадь, я ее очень люблю. Я бы хотела собственными глазами убедиться, что она цела и невредима. Но как я могу пройти по такой грязи?
— Я могу привести лошадь сюда, — предложил молодой человек.
— Пожалуйста, — воскликнула женщина, — приведите ее! Я буду вам так признательна!
Молодой человек подошел к коню, тот поднял голову и заржал.
— Не бойтесь, — сказала женщина, — он добрый, как ягненок.
Затем, понизив голос, она позвала:
— Джерид! Джерид!
Конь, очевидно, узнал ее голос и, признав в ней хозяйку, повел головой и трепещущими ноздрями в сторону кабриолета.
Не теряя времени, молодой человек отвязал коня.
Едва конь почувствовал, что повод в чужих руках, он дернул головой и одним махом отскочил футов на двадцать от кареты.
— Джерид! — вновь позвала женщина как могла мягче. — Ко мне, Джерид, ко мне!
Арабский скакун встряхнул умной, прекрасной головой, с шумом втянул ноздрями воздух и, пританцовывая, словно под музыку, приблизился к кабриолету.
Женщина наполовину высунулась из кабриолета.
— Сюда, Джерид, сюда! — позвала она.
Конь послушно потянулся к знакомой ласковой руке.
В это мгновение изящная ручка ухватилась за конскую гриву, и, держась другой рукой за кожаный фартук кабриолета, женщина прыгнула в седло с легкостью призрака из немецких баллад, взлетающего на круп коня, обняв путешественника за талию.
Молодой человек бросился к ней, но она остановила его властным жестом.
— Послушайте, — сказала она, — хотя вы молоды, вернее, так как вы молоды, вам, должно быть, еще не чужды человеческие чувства. Не противьтесь моему отъезду. Я бегу от человека, которого люблю. Однако прежде всего я римлянка и истинная католичка. Так вот этот человек может погубить мою душу, если я останусь с ним. Он безбожник, некромант, которого Бог только что предупредил, послав на его голову гром и молнию. Если бы он внял предупреждению! Передайте ему все, что я вам сказала. Желаю вам счастья в благодарность за вашу помощь! Прощайте!
С этими словами легкая, словно облачко, она исчезла, уносимая Джеридом, пущенным в галоп.
Видя, что она уезжает, молодой человек удивленно вскрикнул.
Крик этот достиг слуха находившихся в карете и насторожил путешественника.
IV
ЖИЛЬБЕР
Крик этот, как мы сказали, насторожил путешественника.
Он поспешно вышел из фургона, тщательно прикрыв за собой дверь, и окинул местность беспокойным взглядом.
Первым, кого он заметил, был перепуганный молодой человек.
Сверкнувшая в этот миг молния позволила путешественнику рассмотреть его с ног до головы; он устремил свойственный ему пристальный взгляд на того, кто привлек его внимание.
Перед ним стоял юноша лет шестнадцати-семнадцати, небольшого роста, худощавый, подвижный; его черные глаза бесстрашно устремлялись на интересовавший его предмет; взгляд его, возможно, был лишен нежности, однако полон очарования. Нос у него был крючковатый, но тонко очерченный, узкие губы и выступающие скулы свидетельствовали о хитрости и осторожности, выпуклый округлый подбородок — о решительном характере.
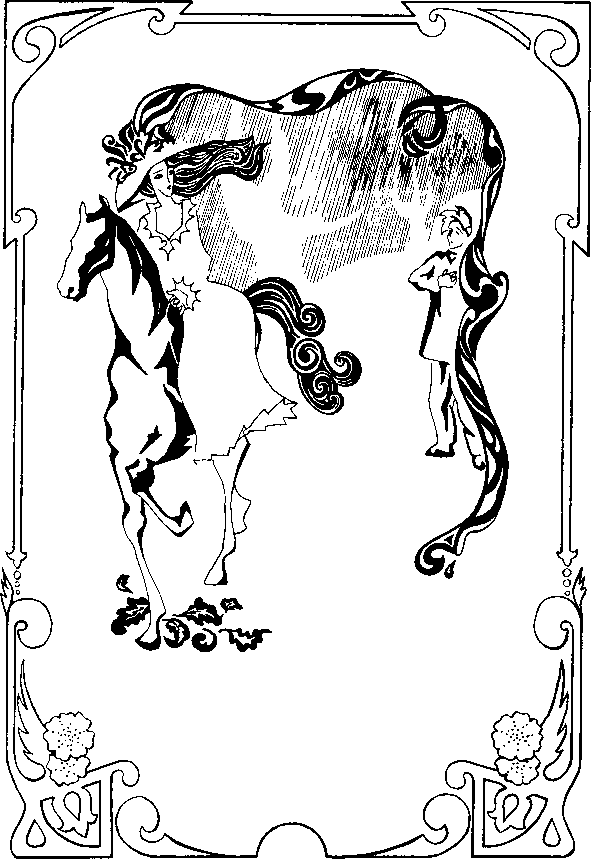
— Это вы сейчас кричали? — спросил путешественник.
— Да, сударь, — отвечал молодой человек.
— А почему вы кричали?
— Потому что…
Молодой человек запнулся.
— Потому что?.. — повторил путешественник.
— Сударь! В кабриолете была дама, не так ли?
— Да.
Бальзамо (так звали путешественника) устремил взгляд на карету, словно пытаясь заглянуть внутрь сквозь стены.
— А конь был привязан к рессорам кареты?
— Да, но где он, черт возьми?
— Сударь! Дама, сидевшая в кабриолете, ускакала на коне, которого вы привязывали к рессорам.
Не издав ни единого звука, не произнеся ни слова, Бальзамо бросился к кабриолету, откинул кожаные занавески: полыхнувшая в этот момент молния осветила опустевший экипаж.
— Кровь Христова! — издал он вопль, подобный громовому раскату, сопровождавшему его крик.
Он стал озираться, словно пытаясь найти способ отправиться в погоню, но очень скоро вынужден был признать, что это бесполезно.
— Нагнать Джерида на одном из этих коней так же невозможно, — произнес он, качая головой, — как черепахе угнаться за газелью. Впрочем, я всегда могу узнать, где Лоренца, если только…
С озабоченным видом он поспешно сунул руку в карман, достал небольшой бумажник и раскрыл его. В одном из отделений бумажника он нашел сложенный лист, из которого выпала прядь черных волос.
При виде этого локона путешественник просиял, он совершенно успокоился: во всяком случае так могло показаться.
— Вот и славно, — молвил он, отерев со лба пот. — А она ничего не говорила вам перед отъездом?
— Говорила, сударь.
— Что же она вам сказала?
— Просила передать, что покидает вас не потому, что сердится, а потому что боится вас, будучи истинной христианкой, тогда как вы…
Молодой человек остановился в нерешительности.
— Тогда как я?.. — подхватил путешественник.
— Не знаю, надо ли продолжать, — произнес молодой человек.
— Да говорите же, дьявол вас забери!
— Тогда как вы безбожник и нечестивец, которому Бог нынешней ночью послал последнее предупреждение. Она желала бы, чтобы вы вняли ему.
— И это все? — переспросил путешественник.
— Все.
— Что ж, поговорим о чем-нибудь другом.
Остатки его беспокойства улетучились; казалось, он совершенно успокоился.
Молодой человек следил за всеми движениями души собеседника, отражавшимися на его лице, с любопытством, которое свидетельствовало о том, что он также не был лишен наблюдательности.
— А теперь, — спросил путешественник, — скажите, как вас зовут, молодой человек?
— Жильбер, сударь.
— Просто Жильбер? Насколько я понимаю, это имя было вам дано при крещении?
— Это моя фамилия.
— Ах вот как, дорогой Жильбер! Знаете, сама судьба мне вас послала. Вы должны мне помочь.
— К вашим услугам, сударь, все, что от меня зависит…
— …вы готовы исполнить, благодарю! Да, в вашем возрасте человек готов услужить ради удовольствия, мне это знакомо. Кстати, то, о чем я собирался попросить вас, совсем не сложно: я всего-навсего хочу от вас услышать, где я мог бы провести эту ночь.
— Прежде всего под этой скалой, — отвечал Жильбер, — я прятался здесь от грозы.
— Да, да, конечно, — сказал путешественник, — однако я предпочел бы дом, где можно было бы поужинать и хорошенько выспаться.
— Это сложнее…
— Нет ли поблизости селения?
— Вы имеете в виду Пьерфит?
— Так оно называется Пьерфит?
— Да, сударь; до него около полутора льё.
— Полтора льё в такую ночь, в такую непогоду, имея всего двух коней, — да мы там будем не раньше, чем часа через два! Вот что, дружок, подумайте-ка хорошенько, неужели нет никакого жилья поближе?
— Здесь недалеко замок Таверне. До него шагов триста, не больше.
— Что ж, прекрасно… — начал было путешественник.
— Что вы говорите, сударь? — воскликнул молодой человек, широко раскрыв удивленные глаза.
— Я только повторяю то, что сказали вы.
— Так ведь замок Таверне не постоялый двор!
— Там живет кто-нибудь?
— Разумеется.
— Кто же?
— Как это кто? Барон де Таверне!
— Кто такой барон де Таверне?
— Отец мадемуазель Андре, сударь.
— Очень приятно, — с улыбкой заметил путешественник, — но я вас спрашиваю, что за человек барон де Таверне.
— Сударь! Это пожилой господин; ему лет шестьдесят— шестьдесят пять; был когда-то богат, судя по тому, что о нем рассказывают.
— Знаю, знаю, а теперь он беден — все они одинаковы. Друг мой! Проводите меня к барону де Таверне, прошу вас!
— К барону де Таверне? — в испуге вскричал молодой человек.
— Вы ведь не откажете мне в этой услуге?
— Разумеется, нет, но дело в том, что…
— Что еще?
— Дело в том, что он не примет вас.
— Он не примет заблудившегося дворянина, пришедшего просить у него приюта? Так он зверь, этот ваш барон?
— О! — воскликнул молодой человек, будто желая сказать: «Похоже на то, сударь».
— Не имеет значения, — произнес путешественник, — я готов рискнуть.
— Не советую, — возразил Жильбер.
— А! — вскричал путешественник. — Будь он трижды зверь, не проглотит же он меня живьем!
— Нет, конечно, но он может не отпереть дверь.
— В таком случае я ее взломаю, лишь бы вы не отказались сопровождать меня.
— Я не отказываюсь, сударь.
— Ну, так показывайте дорогу.
— Я готов.
Путешественник поднялся в кабриолет и вынес оттуда небольшой фонарь.
Фонарь не горел; Жильбер ждал, что путешественник вернется в карету, и тогда он мог бы разглядеть через приоткрытую дверь, что находится внутри.
Однако путешественник не подходил к двери фургона.
Он вручил фонарь Жильберу.
Тот повертел его в руках.
— Что мне делать с этим фонарем, сударь? — спросил он.
— Будете освещать дорогу, а я поведу коней.
— Ведь фонарь не горит!
— Сейчас зажжем.
— Ну да, у вас, наверное, есть в карете огонь?
— Ив кармане, — ответил путешественник.
— Под таким ливнем трудно будет поджечь трут.
Путешественник улыбнулся.
— Откройте фонарь! — приказал он.
Жильбер повиновался.
— Держите шляпу над моими ладонями.
Жильбер снова повиновался; он с нескрываемым любопытством следил за всеми этими приготовлениями, так как не знал другого способа добычи огня, кроме как высекать его при помощи огнива.
Путешественник достал из кармана серебряный футляр, вынул оттуда спичку, затем, открыв его снизу, окунул спичку в горючую смесь: спичка мгновенно вспыхнула и продолжала гореть, чуть слышно потрескивая.
Все произошло так стремительно и неожиданно для Жильбера, что он вздрогнул.
Путешественник улыбнулся, заметив его изумление, вполне естественное, так как в те времена лишь немногим химикам был известен фосфор и они хранили его секрет для собственных опытов.
Путешественник поднес магический огонь к свече, потом закрыл футляр и спрятал в карман.
Молодой человек провожал футляр горящим от зависти взором. Было видно, что он много бы дал за право обладания подобным сокровищем.
— Ну а сейчас, когда у нас есть свет, соблаговолите проводить меня, — попросил путешественник.
— Следуйте за мной, сударь, — сказал Жильбер.
Он пошел вперед, а его спутник взял коня под уздцы и повел за собой.
Гроза пошла на убыль: дождь почти прекратился, раскаты грома едва доносились издалека.
Путешественник первым почувствовал необходимость нарушить молчание.
— Мне показалось, что вы знакомы с бароном де Таверне, друг мой, — произнес он.
— Да, сударь, я его знаю, потому что вырос у него в доме.
— Так он ваш родственник?
— Нет, сударь.
— Опекун, стало быть?
— Нет.
— Неужели хозяин?
При слове «хозяин» Жильбер вздрогнул; яркий румянец выступил на его обычно бледных щеках.
— Я не слуга, сударь, — сказал он.
— Так кто же вы в конце концов? — спросил путешественник.
— Я сын бывшего арендатора барона, а моя мать была кормилицей мадемуазель Андре.
— Теперь я понял. Вы живете в замке на правах молочного брата той юной особы, — ведь я полагаю, что дочь барона молода?
— Ей шестнадцать лет, сударь.
Жильбер ловко уклонился от вопроса, который касался лично его.
Вероятно, путешественник, как и читатель, это заметил. Он переменил тему, продолжая задавать вопросы.
— Как вы оказались на дороге в такую непогоду? — спросил он.
— Я был не на дороге, сударь, а укрылся под скалой, которая идет вдоль дороги.
— А что вы делали под скалой?
— Читал.
— Читали?
— Да.
— Что же вы читали?
— «Общественный договор» господина Жан Жака Руссо.
Путешественник взглянул на него с нескрываемым удивлением.
— Вы нашли эту книгу в библиотеке барона?
— Нет, сударь, я купил ее.
— Где же? В Барле-Дюке?
— Нет, сударь, здесь, у проезжего торговца. С некоторых пор у нас в деревне стали появляться разносчики, предлагающие хорошие книги.
— А кто вам сказал, что «Общественный договор» — хорошая книга?
— Я понял это, читая ее, сударь.
— Значит, вам приходилось читать и плохие книги, раз вы могли почувствовать разницу?
— Приходилось.
— Что вы называете плохими книгами?
— «Софа», «Танзаи и Неадарне» например, ну и другие вроде этих.
— Где же вы, черт возьми, откопали эти книжки?
— В библиотеке барона.
— Каким образом барон достает новинки, живя в дыре?
— Ему присылают их из Парижа.
— Если барон беден, как вы говорите, как же он может тратиться на подобный вздор?
— Он их не покупает, а получает в подарок.
— Ах, в подарок?
— Да, сударь.
— От кого?
— От одного своего друга, знатного сеньора.
— Знатного сеньора? А вы не знаете, как зовут этого знатного дворянина?
— Его зовут герцог де Ришелье.
— Как?! Старый маршал?
— Так точно, маршал.
— Я надеюсь, барон не позволяет мадемуазель Андре читать подобную литературу?
— Напротив, сударь, он оставляет книги повсюду.
— Мадемуазель Андре согласна с вами, что это плохие книги? — лукаво посмеиваясь, спросил путешественник.
— Мадемуазель Андре их не читает, сударь, — сухо отвечал Жильбер.
Путешественник ненадолго замолчал. Нетрудно было заметить, что эта необычная натура, сочетавшая в себе привлекательные и отталкивающие качества, бесстыдство и дерзость, невольно притягивала его к себе.
— Зачем же вы читали эти книги, если знали, что они дурны? — продолжал спрашивать тот, кого старый ученый называл Ашаратом.
— Да потому что, беря их в руки, я понятия не имел, чего они стоят.
— Однако вы сразу сумели верно их оценить?
— Да, сударь.
— И тем не менее продолжали читать?
— Да.
— Зачем?
— Я узнавал из них то, чего не знал раньше.
— А «Общественный договор»?
— В нем я нашел то, о чем уже догадывался.
— Что вы имеете в виду?
— Что все люди — братья, что общество, в котором есть крепостные или рабы, устроено неправильно и что наступит тот день, когда все будут равны.
— Вот как! — воскликнул путешественник.
На минуту оба замолчали, продолжая идти. Путешественник вел лошадь за уздечку; Жильбер нес фонарь.
— Вы, вероятно, хотели бы учиться, мой друг? — тихо спросил путешественник.
— Да, сударь, это самое большое мое желание!
— А что вы хотели бы изучать? Ну, говорите!
— Все, — ответил молодой человек.
— Зачем вам учиться?
— Чтобы возвыситься.
— До каких пределов?
Жильбер колебался. Было видно, что он имел какую-то цель, но скрывал ее и не хотел о ней говорить.
— До тех пределов, каких только может достигнуть человек, — отвечал он.
— Так вы, по крайней мере, уже изучали что-нибудь?
— Ничего. Как я мог что-нибудь изучать, не будучи богат и живя в Таверне?
— Как! Вы не знаете хоть сколько-нибудь математику?
— Нет.
— А физику?
— Нет.
— Химию?
— Нет. Я умею читать и писать, и только. Но я всему научусь.
— Когда?
— Когда-нибудь.
— Каким образом?
— Пока не знаю, но научусь.
«Какой странный юноша!» — неслышно прошептал путешественник.
— И тогда… — начал было Жильбер, отвечая собственным мыслям.
— Что тогда?
— Нет, ничего.
Жильбер и путешественник, которого он сопровождал, шли уже около четверти часа. Дождь прекратился; от земли поднимался терпкий запах, как обычно бывает весной после грозы. Казалось, Жильбер глубоко задумался.
— Сударь! — неожиданно заговорил он. — А вы знаете, что такое гроза?
— Вне всякого сомнения.
— Вы?
— Да, я.
— Вы знаете, что такое гроза? Вы знаете, откуда берется молния?
Путешественник улыбнулся.
— Это бывает, когда встречаются два электрических заряда, один — в облаке, другой — с земли.
Жильбер вздохнул.
— Ничего не понимаю, — признался он.
Возможно, путешественник объяснил бы все молодому человеку более доступно, однако в это время сквозь листву блеснул свет.
— Ага! — воскликнул путешественник. — Мы пришли?
— Да, это Таверне.
— Так это здесь?
— Вон ворота.
— Отворите.
— О нет, сударь, ворота замка так просто не отворишь.
— Это что же, ваш Таверне — крепость? Стучите же!
Поколебавшись, Жильбер подошел к двери и робко ударил один раз молотком.
— Ого! — вскричал путешественник. — Да вас так' никогда не услышат, мой друг. Стучите громче.
В самом деле, ничто не указывало на то, что стук Жильбера был услышан. Было по-прежнему тихо.
— Вы все берете на себя, не так ли? — спросил Жильбер.
— Можете не сомневаться.
Жильбер осмелел. Он отложил молоток и буквально повис на колокольчике, так что оглушительный звон разнесся на льё вокруг.
— Черт побери! Если ваш барон и теперь не слышит, он просто глух! — воскликнул путешественник.
— А, вот залаял Маон! — сообщил молодой человек.
— Маон! — подхватил путешественник. — Как это любезно со стороны вашего барона по отношению к его другу герцогу де Ришелье.
— Не понимаю, сударь, о чем вы говорите?
— Маон — последняя победа маршала.
Жильбер еще раз вздохнул.
— Увы, сударь, я уже признался вам, что ничего не знаю.
Незнакомец понял, что за вздохами Жильбера скрывалась боль ущемленного самолюбия.
В это мгновение послышались шаги.
— Ну, наконец-то! — проговорил незнакомец.
— Это старик Ла Бри, — пояснил Жильбер.
Дверь распахнулась. При виде незнакомца и странной кареты Л а Бри, захваченный врасплох, так как ожидал встретить одного Жильбера, попытался захлопнуть ее.
— Прошу прощения, мой друг, — сказал путешественник, — мы шли именно сюда, не надо хлопать дверью у нас перед носом.
— Однако, сударь, я должен предупредить господина барона о неожиданном визите…
— Нет нужды предупреждать его, поверьте мне. Я рискую вызвать его неудовольствие, но если меня и выставят, то только после того, как я согреюсь, обсохну и отужинаю, уж за это я ручаюсь. Я слышал, здесь хорошие вина, вы должны бы это знать, а?
Не отвечая на вопрос путешественника, Л а Бри попытался затворить дверь, но путешественник одержал верх. Он успел провести лошадей и карету в ворота, а Жильбер в это время запер дверь. Ла Бри поспешил сам возвестить о своем поражении. Он бросился со всех ног к дому, крича во все горло:
— Николь Леге! Николь Леге!
— Кто эта Николь Леге? — спросил на ходу путешественник, сохраняя полное спокойствие.
— Николь, сударь? — переспросил Жильбер с едва заметной дрожью в голосе.
— Да, Николь, которую зовет метр Ла Бри.
— Это служанка госпожи Андре, сударь.
Крики Ла Бри всех подняли на ноги. Вспыхнул огонь, осветив кроны деревьев и прелестную фигурку молодой девушки.
— Что такое, Ла Бри? — спросила она. — Что тут за шум?
— Скорее, Николь, скорее! — закричал старик дрожащим голосом. — Поди доложи господину, что незнакомец, захваченный грозой, просит оказать ему гостеприимство на эту ночь.
Николь не заставила повторять приказание дважды, сразу все поняла, с легкостью устремилась к замку и мгновенно исчезла из виду.
Ла Бри, уверенный теперь в том, что барон не будет захвачен врасплох, позволил себе на минутку перевести дух.
Скоро новость возымела действие. С верхней ступеньки крыльца, скрывавшегося в зарослях акаций, послышался недовольный и властный голос негостеприимного хозяина:
— Незнакомец!.. Кто там еще? Когда являются к порядочным людям, по крайней мере, представляются.
— Это барон? — спросил у Ла Бри тот, кто явился причиной всей этой суматохи.
— Увы! Да, сударь, — отвечал бедняга с сокрушенным видом. — Вы слышали, что он сказал?
— Он хочет знать мое имя, не так ли?
— Вот именно. А я и забыл у вас спросить…
— Доложи, что прибыл барон Джузеппе де Бальзамо, — приказал путешественник. — Тот же титул, что и у него, возможно, смягчит твоего хозяина.
Титул незнакомца придал смелости Ла Бри.
— Ну что ж, — проворчал в ответ хозяин. — Проси, раз уж он здесь. Входите, сударь, прошу вас, туда… вот так, теперь вот сюда…
Незнакомец устремился вперед, однако, поднявшись на первую ступеньку, оглянулся, желая убедиться, идет ли за ним Жильбер.
Жильбер исчез.
V
БАРОН ДЕ ТАВЕРНЕ
Хотя человек, назвавшийся бароном Джузеппе де Бальзамо, был предупрежден Жильбером о бедности барона де Таверне, он тем не менее был весьма удивлен убогостью жилища, которое юноша не без гордости назвал замком.
Дом был двухэтажный, имел форму вытянутого прямоугольника, по краям которого были пристроены квадратные флигели в виде башен. Это нелепое сооружение было, однако, не лишено привлекательности при бледном свете луны, мелькавшей сквозь рваные облака, разметавшиеся по небу во время урагана.
Шесть окон первого этажа, а также по два окна в каждой башне, расположенные одно над другим, ветхое крыльцо с разваливающимися ступеньками — все это вместе поразило незнакомца прежде, чем он достиг порога, где, как мы уже сказали, его ждал барон, в шлафроке, с подсвечником в руках.
Барон де Таверне оказался невысоким стариком, которому можно было дать лет шестьдесят — шестьдесят пять; у него были живые глаза, высокий и узкий лоб. На голове у него был ужасный парик: пряди, до которых не успели добраться крысы в шкафу, были подпалены языками пламени из камина. Барон держал в руках салфетку сомнительной белизны, которая свидетельствовала о том, что его отвлекли в тот самый момент, когда он собирался сесть за стол.
Язвительное выражение лица, в котором обнаруживалось некоторое сходство с Вольтером, выдавало сразу несколько чувств, охвативших барона; они не скрылись от проницательного взгляда незнакомца. Вежливость требовала, чтобы барон улыбался незваному гостю, тогда как нетерпение превращало любезное выражение в гримасу, сообщавшую барону желчный и угрюмый вид. Одним словом, в неверном свете пламени черты лица барона де Таверне бросались в глаза, и он казался на редкость некрасивым.
— Сударь, — вымолвил он. — Могу ли я узнать, какому счастливому случаю я обязан удовольствием видеть вас у себя?
— Сударь! Все дело в грозе, напугавшей лошадей. Они понесли и едва не опрокинули карету. Так я оказался посреди дороги без форейторов: один упал с лошади, другой сбежал. В это время я повстречал молодого человека, который и указал мне дорогу, ведущую к вашему замку. Он уверил меня, что вы слывете гостеприимным хозяином.
Барон приподнял подсвечник, желая получше осветить двор в надежде обнаружить несчастного, которому был обязан тем счастливым случаем, о котором он говорил выше.
Путешественник огляделся по сторонам и убедился в том, что его юный спутник действительно исчез.
— Не знаете ли вы имени того, кто указал вам на мой замок, сударь? — спросил барон де Таверне, похожий в тот миг на человека, который хотел бы знать, кому выразить свою благодарность.
— Этот молодой человек представился Жильбером, если не ошибаюсь.
— Ага, Жильбер! Никогда бы не подумал, что он способен хотя бы на это. А! Так это бездельник Жильбер, наш дорогой философ!
Поток эпитетов и угрожающие интонации ясно дали понять путешественнику, что сюзерен отнюдь не пылал любовью к своему вассалу.
— Итак, — произнес барон, выдержав внушительную паузу, столь же выразительную, как его слова, — входите, сударь, прошу вас.
— Позвольте мне сначала поставить в сарай карету — в ней много дорогих для меня вещей.
— Л а Бри! — вскричал барон. — Л а Бри, поставьте карету господина барона под навес, там она хотя бы отчасти будет защищена от непогоды, принимая во внимание, что кое-что от крыши еще осталось. Вот насчет лошадей — тут дело сложнее: я не могу поручиться, что их есть чем накормить. Однако раз они не ваши, а почтовые, это обстоятельство не должно сильно вас беспокоить.
— Сударь! — в нетерпении воскликнул путешественник. — Если я слишком вас обременяю, как мне начинает казаться…
— О нет! — вежливо прервал его барон, — вы ничуть не обременяете меня, должен лишь предупредить вас, что вам будет не слишком удобно.
— Поверьте, сударь, я буду весьма обязан вам…
— Да что вы, я вовсе не обольщаюсь на этот счет, — проговорил барон, вновь поднимая подсвечник, чтобы получше рассмотреть Джузеппе Бальзамо, который в это время с помощью Ла Бри устраивал под навесом карету. По мере того как гость удалялся, барон повышал голос, — я далек от иллюзии, что Таверне может произвести на вас благоприятное впечатление, скорее напротив, и все потому, что я беден.
Путешественник был поглощен своим занятием и ничего не отвечал: следуя совету барона, он выбирал под навесом местечко посуше. Когда более или менее подходящее место для кареты было найдено, он дал Л а Бри луидор и вновь приблизился к хозяину.
Л а Бри, совершенно уверенный в том, что это монета в двадцать четыре су, опустил луидор в карман, благодаря судьбу и за такую удачу.
— Бог мне судья, если я плохо подумал о вашем замке, сударь, — ответил Бальзамо, отвесив барону поклон.
Будто желая доказать искренность своих слов, барон повел его, качая головой, через просторную и сырую переднюю, ворча на ходу:
— Я знаю, что говорю. К сожалению, я свои возможности хорошо знаю, и они весьма ограниченны. Если вы француз, господин барон, хотя ваш немецкий выговор свидетельствует скорее об обратном, а итальянское имя… Впрочем, это к делу не относится. Так вот, если вы француз, как я уже сказал, имя Таверне должно вызывать у вас представление о роскоши: когда-то говорили «Таверне Богатый».
Бальзамо думал, что за этими словами последует вздох, но он ошибся.
«Философ», — отметил он про себя.
— Сюда пожалуйте, господин барон, теперь сюда, — продолжал хозяин, распахивая дверь столовой. — Ну-ка, метр Ла Бри, обслужите нас так, будто у вас не две ноги, а двадцать.
Ла Бри бросился исполнять приказание.
— У меня остался только этот лакей, сударь, — пояснил Таверне, — он не справляется со своими обязанностями. Этот дурак служит мне уже лет двадцать задаром, не получая ни единого су, ну а я кормлю его так, как он работает… Он глуп, вот вы увидите…
Бальзамо продолжал присматриваться к тому, что его окружало.
«До чего бессердечен! — подумал он. — Впрочем, возможно, это напускное».
Барон притворил дверь столовой. Подняв подсвечник над головой, путешественник окинул взглядом залу.
Он оказался в большой комнате с низким потолком, бывшей когда-то главным залом небольшой фермы, возведенной владельцем в ранг замка. Он так скудно был меблирован, что казался почти пустым. Плетеные стулья с резными спинками, гравюры с батальных картин Лебрена в черных лакированных рамках, дубовый шкаф, почерневший от копоти и старости, — вот и вся меблировка. Посреди зала возвышался небольшой круглый стол, на котором дымилось единственное кушанье, приготовленное из куропаток с капустой. Вино было подано в пузатой керамической бутылке. Столовое серебро — истертое, почерневшее — состояло из трех приборов, кубка и солонки. Солонка была тонкой работы, но очень массивная; она казалась бесценным бриллиантом среди бесцветных камней.
— Вот сюда, сударь, прошу вас, — предложил барон стул гостю, не спуская с него пытливого взгляда. — Вижу, вы обратили внимание на солонку, вы любуетесь ею; что ж, это свидетельствует о прекрасном вкусе. Это тем более любезно с вашей стороны, что солонка — единственная здесь вещь, достойная внимания. Сударь! Разрешите от всего сердца поблагодарить вас. Впрочем, я ошибся. У меня есть еще кое-что, клянусь честью! Моя дочь!
— Мадемуазель Андре? — спросил Бальзамо.
— Да, Андре, — отвечал барон, не скрывая своего удивления осведомленностью гостя. — Я желал бы представить ей вас. Андре! Андре! Поди сюда, дитя мое, тебе нечего бояться.
— Я не боюсь, отец, — отвечала нежным, мелодичным голосом молодая особа, без тени смущения или робости появившись в дверях.
Джузеппе Бальзамо умел хорошо владеть собой, в чем мы уже имели случай убедиться, однако он не смог удержаться, чтобы не склониться перед этой совершенной красотой.
Андре де Таверне, словно осветившая своим появлением зал, в самом деле, была хороша собой. Ее рыжеватые волосы были чуть светлее на висках и затылке. Черные глаза, большие и ясные, смотрели пристально, невозможно было отвести взгляда от ее притягивающих глаз. Влажные коралловые губы капризно изгибались. Восхитительные, античной формы, длиннее обыкновенного, белые руки поражали красотой. Гибкая талия была словно заимствована у языческой статуи, которая чудом ожила. Изгибом изящной ножки девушка могла бы соперничать с Дианой-охотницей; казалось, она не шла, а плыла, словно бестелесное чудо. И наконец, ее простое, скромное платье было сшито с таким вкусом, так чудесно сидело на ней, что самый богатый королевский наряд мог бы по сравнению с ним показаться менее элегантным и дорогим.
Все эти подробности поразили Бальзамо. Одним взглядом, еще прежде чем поклониться, он охватил и отметил их, пока мадемуазель де Таверне входила в зал. Барон же, со своей стороны, ревниво следил за впечатлением, которое произвела на гостя красота девушки.
— Вы совершенно правы, — проговорил Бальзамо едва слышно, — мадемуазель на редкость красива.
— Не говорите бедняжке Андре слишком много комплиментов, — небрежно отвечал барон, — она только что из монастыря и поверит всему, что вы скажете. Это не значит, — продолжал он, — что я могу заподозрить ее в кокетстве — напротив, моя дорогая дочь недостаточно кокетлива, сударь; будучи заботливым отцом, я пытаюсь развить в ней это качество — главное оружие всякой женщины.
Андре потупилась, краснея. При всем желании она не могла одобрить странной теории своего отца.
— Скажите, а в монастыре мадемуазель тоже этому учили? — со смехом спросил Джузеппе Бальзамо у барона. — Это также предписывалось воспитанием, которое давали ей монахини?
— Сударь! — отвечал барон. — Я имею честь излагать свои собственные идеи, как вы, должно быть, уже могли заметить.
Бальзамо поклонился в знак того, что всецело согласен с бароном.
— Да нет, — продолжал тот, — я далек от того, чтобы повторять вслед за теми отцами семейства, которые говорят своим дочерям: «Будь осмотрительной, непоколебимой, слепой, гордись своей честью, деликатностью, холодностью…» Глупцы! Они ведут борцов на ристалище, совершенно обезоружив их перед схваткой с противником, вооруженным до зубов. Нет, черт возьми! Не бывать Андре безоружной, хотя и воспитывается она в такой дыре, как Таверне.
Бальзамо был того же мнения о замке Таверне, однако счел своим долгом из вежливости изобразить на лице несогласие.
— Да ладно уж, — махнул рукой барон, словно отвечая на возражения Бальзамо. — Я-то знаю, чего стоит Таверне. Но, как бы там ни было, как мы ни далеки от блеска Версаля, моя дочь узнает свет, который я сам так хорошо знал когда-то. Если ей суждено когда-нибудь войти в высшее общество, я постараюсь вооружить ее согласно своему опыту и сообразно воспоминаниям… Однако я должен признать, сударь, что монастырь сильно ей навредил… Моя дочь — надо же такому случиться! — дочь моя оказалась благодарной воспитанницей, взявшей все лучшее у монахинь и почитающей Священное писание. Тысяча чертей! Согласитесь, барон, что это большое несчастье!
— Мадемуазель — сущий ангел, — отвечал Бальзамо, — по правде говоря, меня ничуть не удивляет все, что вы рассказываете.
Андре поклонилась гостю в знак признательности и симпатии, затем села на место, которое указал ей глазами отец.
— Садитесь, барон, — пригласил Таверне путешественника, — если голодны — угощайтесь. Это отвратительное рагу состряпал скотина Ла Бри.
— Куропатки! И вы называете это отвратительным рагу? — с улыбкой переспросил гость. — Да вы просто несправедливы! Куропатки в мае! Они, должно быть, из ваших лесов?
— Мои леса… Все, что у меня было, — должен признаться, батюшка оставил мне неплохое состояние, — так вот, все, что у меня было, давно уже продано, съедено и переварено! О Господи, да нет, благодарение Богу, у меня и клочка земли не осталось. Это все бездельник Жильбер: он украл — уж не знаю где — ружье, немного пороху да свинца, теперь тайком охотится на землях моих соседей. А ведь он способен только валяться с книжкой и мечтать… Угодит на галеры, а я ни за что не буду вмешиваться, я жду не дождусь, когда от него избавлюсь. Правда, Андре любит дичь; только поэтому я и терплю этого бездельника.
Как ни всматривался Бальзамо в лицо прекрасной Андре, он не заметил на нем и тени смущения.
Он занял место между бароном и его дочерью, она стала ухаживать за ним, нимало не смущаясь скудостью стола: он состоял из дичи, подстреленной Жильбером, приготовленной метром Ла Бри и сурово осужденной бароном.
Бедняга Ла Бри не пропускал ни единой похвалы путешественника в свой адрес. Он подавал тарелки с сокрушенным видом, сменявшимся мало-помалу торжествующим выражением по мере того, как Бальзамо расхваливал приправы.
— Да он даже не посолил это дрянное рагу! — вскричал барон, обглодав пару крылышек, которые дочь положила ему на тарелку вместе с плававшей в жиру капустой. — Андре! Передайте солонку господину барону!
Андре послушно протянула руку с необычайной грациозностью.
— А, вижу, вы снова восхищаетесь моей солонкой, барон, — заметил Таверне.
— На сей раз вы заблуждаетесь, сударь, — возразил Бальзамо. — Я залюбовался рукой мадемуазель де Таверне.
— Браво! Ответ, достойный Ришелье! Но раз уж эта восхитительная солонка попала вам в руки, барон, и вы сразу же оценили ее по достоинству, рассмотрите ее хорошенько! Она была изготовлена по заказу регента ювелиром Люка. Вы видите на ней сатиров и вакханок, это несколько вольно, но премило.
Только тогда Бальзамо отметил, что, несмотря на тонкое, изящное исполнение, изображенная на солонке сцена была не просто вольна, но скорее непристойна. Он был восхищен спокойным безразличием Андре: подчиняясь приказанию отца, она подала путешественнику солонку без малейшего смущения и невозмутимо продолжала ужинать.
Однако барон, как видно, стремился хотя бы поцарапать лак невинности, который, подобно библейскому покрывалу девственности, защищал его дочь. Он продолжал подробно расписывать прелесть серебряной безделушки, несмотря на усилия Бальзамо переменить тему разговора.
— Ах да, кушайте, кушайте, барон! — воскликнул Таверне. — Должен предупредить вас, что, кроме этого блюда, ничего нет. Вы, может быть, думаете, что принесут еще жаркое или вас ждут закуски, но не обольщайтесь, не то будете сильно разочарованы.
— Прошу прощения, сударь, — произнесла Андре со свойственной ей холодностью, — Надеюсь, Николь правильно меня поняла, она, должно быть, уже начала готовить десерт по моему рецепту.
— Рецепт? Вы дали кулинарный рецепт Николь Леге, вашей служанке? Ваша служанка занимается стряпней? Не хватало только, чтобы вы сами начали стряпать! Разве герцогиня де Шатору или маркиза де Помпадур готовили еду? Напротив, король подавал им омлеты собственного приготовления… Господи Боже! Что я вижу: в моем доме женщины на кухне! Барон, извините мою дочь, умоляю вас!
— Да ведь надо же что-то есть, отец! — спокойно возразила Андре. — Леге, милочка, — продолжала она громким голосом, — готово?
— Да, госпожа, — отвечала девушка, внося блюдо, распространявшее изумительный аромат.
— Ну а я знаю того, кто ни за что на свете не притронется к этому! — вскричал взбешенный Таверне, швырнув на пол тарелку.
— Может быть, вы, сударь, попробуете? — холодно спросила Андре гостя.
Затем она обратилась к отцу:
— Вам хорошо известно, сударь, что у вас осталось всего семнадцать тарелок этого сервиза, завещанного мне матушкой.
С этими словами она разрезала на куски дымившийся пирог, который подала к столу хорошенькая служанка.
Назад: ВВЕДЕНИЕ
Дальше: VI АНДРЕ ДЕ ТАВЕРНЕ

