Книга: Дюма. Том 05. Графиня де Монсоро
Назад: XXX О ТОМ, КАК ГЕРЦОГ АНЖУЙСКИЙ ОТПРАВИЛСЯ В МЕРИДОРСКИЙ ЗАМОК, ДАБЫ ВЫРАЗИТЬ ГРАФИНЕ ДЕ МОНСОРО СВОИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПО ПОВОДУ КОНЧИНЫ ЕЕ СУПРУГА, И О ТОМ, КАК ЭТОТ ПОСЛЕДНИЙ ВЫШЕЛ ЕМУ НАВСТРЕЧУ
Дальше: XLVI ПРАЗДНИК СВЯТЫХ ДАРОВ
XXXVIII
О ТОМ, В КАКОЙ ОБЛАСТИ ГОСПОДИН ДЕ СЕН-ЛЮК БЫЛ ПРОСВЕЩЕННЕЕ ГОСПОДИНА ДЕ БЮССИ, КАКИЕ УРОКИ ОН ЕМУ ПРЕПОДАЛ И КАК ИСПОЛЬЗОВАЛ ЭТИ УРОКИ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ ПРЕКРАСНОЙ ДИАНЫ
Сен-Люк возвратился весьма гордый столь хорошо выполненным поручением.
Дожидавшийся его Бюсси поблагодарил друга.
Сен-Люку он показался очень грустным; подобное состояние было неестественным для исключительно храброго человека, которому сообщили, что ему предстоит столь блестящий поединок.
— Я сделал что-нибудь не так? — спросил Сен-Люк. — У вас расстроенный вид.
— Даю слово, милый друг, мне жаль, что, вместо того чтобы назначить срок, вы не сказали: “Немедленно”.
— А! Терпение. Анжуйцы еще не вернулись. Какого черта! Дайте им время приехать! Зачем вам торопиться устилать землю убитыми и ранеными?
— Дело в том, что я хочу как можно скорее умереть.
Сен-Люк уставился на Бюсси с тем удивлением, которое люди с идеально устроенным организмом испытывают на первых порах при малейшем признаке несчастья, пусть даже чужого.
— Умереть! В вашем возрасте, с вашим именем, имея такую возлюбленную!
— Да! Я убью всех четверых, я в этом уверен, но я сам получу хороший удар, который успокоит меня навеки.
— Что за черные мысли, Бюсси?
— Побывали бы вы в моей шкуре! Муж, считавшийся мертвым, воскресает. Жена не может оторваться ни на минуту от изголовья постели этого, с позволения сказать, умирающего. Ни обменяться улыбками, ни словечком перекинуться, ни руки коснуться! Черт подери! С удовольствием изрубил бы кого-нибудь в куски…
Сен-Люк ответил на эту тираду взрывом смеха, который вспугнул целую стаю воробьев, клевавших рябину в малом саду Лувра.
— Ах! — вскричал он. — Какое простодушие! И подумать только, что женщины любят этого Бюсси, этого школяра! Но, мой милый, вы потеряли рассудок: в целом мире не сыщется любовника счастливей вас.
— Вот как? Попробуйте-ка доказать мне это вы, человек женатый!
— Nihil facilius, как говаривал иезуит Трике, мой учитель. Вы в дружбе с господином де Монсоро?
— Клянусь, мне стыдно за человеческий разум! Этот болван называет меня своим другом.
— Что ж, и будьте его другом.
— О!.. Злоупотреблять этим званием?!
— Prorsus absurdum , говорил в таких случаях Трике. Он и в самом деле ваш друг?
— Он так утверждает.
— Нет, он не друг ваш, потому что он делает вас несчастным. В чем цель дружбы? В том, чтобы люди приносили друг другу счастье. По крайней мере, так определяет дружбу его величество, а король — человек ученый.
Бюсси рассмеялся.
— Я продолжаю, — сказал Сен-Люк. — Если Монсоро делает вас несчастным, значит, вы не друзья. Следовательно, вы можете относиться к нему либо безразлично — ив таком случае отобрать у него жену, либо враждебно — и тогда убить его еще раз, коли одного раза недостаточно.
— По правде говоря, — сказал Бюсси, — я его ненавижу.
— А он вас боится.
— Вы думаете, он меня не любит?
— Проклятье! Испытайте его! Отнимите у него жену, и вы увидите.
— Это тоже логика отца Трике?
— Нет, это моя.
— Поздравляю вас.
— Она вам подходит?
— Нет. Мне больше нравится быть человеком чести.
— И предоставить госпоже де Монсоро излечить ее супруга духовно и физически? Ведь в конце-то концов, если вас убьют, нет никакого сомнения, что она прилепится к единственному оставшемуся у нее мужчине…
Бюсси нахмурился.
— Впрочем, — добавил Сен-Люк, — вот идет госпожа де Сен-Люк, это прекрасный советчик. Она нарвала себе букет в цветниках королевы-матери, и настроение у нее должно быть хорошим. Послушайте Жанну, каждое ее слово — золото.
И в самом деле, к ним приближалась Жанна, сияющая, преисполненная радости, искрящаяся лукавством.
Есть такие счастливые натуры, которые, подобно утренней песне жаворонка в полях, несут всему окружающему радость и добрые предзнаменования.
Бюсси дружески поклонился молодой женщине.
Она протянула ему руку, из чего с полной неопровержимостью явствует, что вовсе не полномочный посол Дюбуа завез к нам эту моду из Англии вместе с договором о четырехстороннем союзе.
— Как ваша любовь? — сказала Жанна, перевязывая свой букет золотой тесьмой.
— Умирает, — ответил Бюсси.
— Полноте! Она лишь ранена и потеряла сознание, — вмешался Сен-Люк. — Ручаюсь, что вы приведете ее в чувство, Жанна.
— Поглядим, — сказала Жанна, — покажите-ка мне рану.
— В двух словах дело вот в чем, — продолжал Сен-Люк. — Господина де Бюсси тяготит необходимость улыбаться графу де Монсоро, и он принял решение ретироваться.
— И оставить Диану графу? — в ужасе воскликнула Жанна.
Обеспокоенный этим первым проявлением ее чувства, Бюсси пояснил:
— О, сударыня, Сен-Люк не сказал вам, что я хочу умереть.
Некоторое время Жанна глядела на него с состраданием, в котором не было ничего евангельского.
— Бедная Диана, — прошептала она. — Вот и любите после этого! Нет, решительно, вы, мужчины, все до одного себялюбцы.
— Прекрасно! — сказал Сен-Люк. — Вот приговор моей супруги.
— Себялюбец, я? — вскричал Бюсси. — Не потому ли, что я боюсь унизить мою любовь трусливым лицемерием?
— Ах, сударь, это всего лишь жалкий предлог, — сказала Жанна. — Если бы вы любили по-настоящему, вы боялись бы только одного унижения: что вас разлюбят.
— Золотые слова! — сказал Сен-Люк. — Раскрывайте-ка свой кошелек, мой милый.
— Но, сударыня, — возразил Бюсси голосом, дрожащим от любви, — есть жертвы, которые…
— Ни слова больше. Признайтесь, что вы уже не любите Диану, так будет достойнее для благородного человека.
При одной мысли об этом Бюсси побелел.
— Вы не осмеливаетесь сказать ей это?! Что ж, тогда я скажу сама!
— Сударыня, сударыня!
— Вы очень забавны, все вы, с вашими жертвами… А мы разве не приносим жертв? Как! Подвергаясь опасности быть зверски убитой этим тигром Монсоро, сохранить все супружеские права для любимого, проявив такие силу и волю, на которые были бы неспособны даже Самсон и Ганнибал; укротить это злобное детище Марса и впрячь его в колесницу господина триумфатора — это ли не геройство? О, клянусь вам, Диана просто великолепна, я бы и четверти того не смогла совершить, что она делает каждый день.
— Благодарю, — сказал Сен-Люк с таким благоговейным поклоном, что Жанна залилась смехом.
Бюсси был в нерешительности.
— И он еще думает! — воскликнула Жанна. — Он не падает на колени, не говорит "mea culpa"!
— Вы правы, — сказал Бюсси, — я всего лишь мужчина, то есть существо несовершенное, стоящее ниже самой обыкновенной женщины.
— Радостно сознавать, — сказала Жанна, — что я вас убедила.
— Что мне делать? Приказывайте.
— Сейчас же отправляйтесь с визитом…
— К господину де Монсоро?
— Да что вы! Разве об этом речь? К Диане.
— Но, мне кажется, они не расстаются.
— Когда вы навещали, и столь часто, госпожу де Барбезье, разве возле нее не было все время той большой обезьяны, которая кусала вас из чувства ревности?
Бюсси расхохотался, Сен-Люк последовал его примеру, Жанна присоединилась к ним. Жизнерадостный смех этого трио привлек к окнам всех придворных, прогуливавшихся по галереям.
— Сударыня, — сказал наконец Бюсси, — я отправляюсь к господину де Монсоро. Прощайте.
На этом они расстались. Предварительно Бюсси попросил Сен-Люка никому не говорить о том, что он вызвал миньонов на поединок.
Затем он отправился к господину де Монсоро, которого застал в постели.
Граф встретил появление Бюсси радостными восклицаниями.
Реми только что пообещал ему, что не пройдет и трех недель, как его рана затянется.
Диана приложила палец к губам: это было ее условное приветствие.
Бюсси пришлось подробно рассказать графу о поручении, возложенном на него герцогом Анжуйским, о посещении двора, о недовольном виде короля и кислых физиономиях миньонов.
Бюсси так и сказал: “кислые физиономии”, чем очень развеселил Диану.
Монсоро при этих известиях задумался, попросил Бюсси наклониться и шепнул ему на ухо:
— У герцога есть еще и другие замыслы, правда?
— Должно быть, — ответил Бюсси.
— Поверьте мне, — сказал Монсоро, — не компрометируйте себя ради этого подлого человека. Я знаю его. Он вероломен. Ручаюсь вам, что он никогда не остановится перед изменой.
— Я знаю, — улыбнулся Бюсси, тем самым напомнив графу об обстоятельствах, при которых сам Бюсси пострадал от измены герцога.
— Видите ли, — сказал Монсоро, — вы мой друг, поэтому я и хочу вас предостеречь. И еще: всякий раз, когда вы попадете в затруднительное положение, обращайтесь ко мне за советом.
— Сударь, сударь! После перевязки надо спать, — вмешался Реми. — Давайте-ка заснем.
— Сейчас, милый доктор. Друг мой, погуляйте немного с госпожой де Монсоро, — сказал граф. — Говорят, что в нынешнем году сад просто чудесен.
— Повинуюсь, — ответил Бюсси.
XXXIX
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ГОСПОДИНА ДЕ МОНСОРО
Сен-Люк был прав, Жанна была права. Через неделю Бюсси это понял и воздал должное их мудрости.
Уподобиться героям древних времен — значит стать на века идеалом величия и красоты. Но это значит также раньше времени превратить себя в старика. И Бюсси, позабывший о Плутархе, которого он перестал числить среди своих любимых авторов, с тех пор как поддался разлагающему влиянию любви, прекрасный, как Алкивиад, заботился теперь только о настоящем и не проявлял более никакого пристрастия к жизнеописаниям Сципиона или Баярда в дни их воздержания.
Диана была проще, естественней, как теперь говорят. Она жила повинуясь двум инстинктивным стремлениям, которые мизантроп Фигаро считал присущими роду человеческому: стремлению любить и стремлению обманывать. Ей даже и в голову не приходило возводить до философских умозрений свое понимание того, что Шаррон и Монтень называют честностью.
Любить Бюсси — в этом была ее логика. Принадлежать только Бюсси — в этом состояла ее мораль. Вздрагивать всем телом при одном прикосновении его руки — в этом заключалась ее метафизика.
Господин де Монсоро — прошло уже две недели с тех пор, как с ним случилось несчастье, — чувствовал себя все лучше и лучше. Он уже уберегся от лихорадки благодаря холодным примочкам — новому средству, которое случай или, скорее, Провидение открыли Амбруазу Парэ, но тут внезапно на него обрушилась новая беда: граф узнал, что в Париж только что прибыл герцог Анжуйский вместе со вдовствующей королевой и своими анжуйцами.
Монсоро беспокоился недаром, ибо на следующее же утро принц явился к нему домой, на улицу Пти-Пэр, под тем предлогом, что жаждет узнать, как он себя чувствует. Невозможно закрыть двери перед его королевским высочеством, который дает вам доказательство столь нежного внимания. Господин де Монсоро принял герцога Анжуйского, а герцог Анжуйский был весьма мил с главным ловчим, и в особенности с его супругой.
Как только принц ушел, господин де Монсоро призвал Диану, оперся на ее руку и, несмотря на вопли Реми, трижды обошел вокруг своего кресла. После чего он снова уселся в то самое кресло, вокруг которого, как мы уже сказали, перед тем описал тройную циркумваллационную линию. Вид у него был весьма довольный, и по его улыбке Диана догадалась, что он замышляет какую-то хитрость.
Но все это относится к частной истории семейства Монсоро.
Возвратимся лучше к прибытию герцога Анжуйского в Париж, принадлежащему к эпической части нашего повествования.
Само собой разумеется, день возвращения его высочества Франсуа де Валуа в Лувр не прошел мимо внимания наблюдателей.
Вот что они отметили.
Король держался весьма надменно.
Королева была очень ласкова.
Герцог Анжуйский был исполнен наглого смирения и словно вопрошал всем своим видом: “ Какого дьявола вы меня звали, ежели сейчас, когда я тут, вы сидите передо мной с такой надутой миной?”
Аудиенция была приправлена сверкающими, горящими, испепеляющими взглядами господ де Ливаро, де Рибейрака, д‘Антрагэ, которые, уже предупрежденные Бюсси, были рады показать своим будущим противникам, что если предстоящая дуэль и встретит какие-нибудь помехи, то, уж конечно, не со стороны анжуйцев.
Шико в этот день суетился больше, чем Цезарь перед Фарсальской битвой.
Потом наступило полнейшее затишье.
Через день после возвращения в Лувр принц снова пришел навестить раненого.
Монсоро, посвященный в малейшие подробности встречи короля с братом, осыпал герцога Анжуйского льстивыми похвалами, чтобы поддержать в нем враждебные чувства к Генриху.
Затем граф, состояние которого все улучшалось, когда принц отбыл, оперся на руку своей жены и уже обошел не три раза вокруг кресла, а один раз — вокруг комнаты. После чего с еще более довольным видом уселся в кресло.
Диана, заметим, успела предупредить Бюсси, что господин де Монсоро определенно что-то замышляет.
— Подумать только, — сказал Монсоро, когда они остались с Бюсси наедине, что этот принц, который так мил со мной, — мой смертельный враг и что именно он приказал господину де Сен-Люку убить меня!
— О! Убить! — возразил Бюсси. — Полноте, господин граф! Сен-Люк — человек чести. Вы сами признались, что дали ему повод и первым обнажили шпагу и что удар вам был нанесен в бою.
— Верно, но верно и то, что Сен-Люк действовал по наущению герцога Анжуйского.
— Послушайте, — сказал Бюсси, — я знаю герцога, а главное, знаю господина де Сен-Люка. Должен сказать вам, что господин де Сен-Люк всецело принадлежит королю, и отнюдь не принцу. Если бы вы получили этот удар от Антрагэ, Ливаро или Рибейрака, — тоща другое дело… Но что касается Сен-Люка…
— Вы не знаете французской истории, как знаю ее я, любезный господин де Бюсси, — сказал Монсоро, упорствуя в своем мнении.
На это Бюсси мог бы ему ответить, что если он плохо знает историю Франции, то зато отлично знаком с историей Анжу, и в особенности той его части, где расположен Меридор.
В конце концов Монсоро встал и спустился в сад.
— С меня достаточно, — сказал он, вернувшись в дом. — Сегодня вечером мы переезжаем.
— Зачем? — сказал Реми. — Разве воздух улицы Пти-Пэр для вас нехорош или же у вас здесь мало развлечений?
— Напротив, — сказал Монсоро, — здесь у меня их слишком много. Его высочество герцог Анжуйский докучает мне своими посещениями. Он каждый раз приводит с собой три десятка дворян, и звон их шпор ужасно раздражает меня.
— Но куда вы отправляетесь?
— Я приказал привести в порядок мой домик, что возле Турнельского дворца.
Бюсси и Диана обменялись влюбленными взглядами, исполненными воспоминаний.
— Как! Эту лачугу? — воскликнул, не подумав, Реми.
— А! Так вы его знаете? — произнес Монсоро.
— Клянусь Богом! — сказал молодой человек. — Как же не знать дома главного ловчего Франции, особенно если живешь на улице Ботрейи?
У Монсоро, по обыкновению, шевельнулись в душе какие-то смутные подозрения.
— Да, да, я перееду в этот дом, — сказал он, — и мне там будет хорошо. Там больше четырех человек не примешь. Это крепость, и из окна за триста шагов видно, кто идет к тебе с визитом.
— Ну и?.. — спросил Реми.
— Ну и можно избегнуть этого визита, коли захочется, — сказал Монсоро, — особенно ежели ты здоров.
Бюсси закусил губу. Он боялся, что наступит время, когда Монсоро начнет избегать и его посещений.
Диана вздохнула. Она вспомнила, как в этом домике на ее постели лежал потерявший сознание раненый Бюсси.
Реми размышлял, и поэтому он первый из троих нашелся с ответом.
— Вам это не удастся, — заявил он.
— Почему же, скажите на милость, господин лекарь?
— Потому что главный ловчий Франции должен давать приемы, держать слуг, иметь хороший выезд. Пусть он отведет дворец для своих собак — это можно понять, но совершенно недопустимо, чтобы он сам поселился в конуре.
— Гм! — протянул Монсоро тоном, который говорил: “Это верно”.
— И кроме того, — продолжал Реми, — я ведь врачую не только тела, но и сердца, и поэтому знаю, что вас волнует не ваше собственное пребывание здесь.
— Тогда чье же?
— Госпожи графини.
— Ну и что?
— Распорядитесь, чтобы графиня уехала отсюда.
— Расстаться с ней? — вскричал Монсоро, устремив на Диану взгляд, в котором, вне всякого сомнения, было больше гнева, чем любви.
— В таком случае, расстаньтесь с вашей должностью главного ловчего, подайте в отставку. Я полагаю, это было бы мудро, ибо в самом деле: либо вы будете исполнять ваши обязанности, либо вы не будете их исполнять. Если вы не будете их исполнять, вы навлечете на себя недовольство короля, если же вы будете их исполнять…
— Я буду делать то, что нужно, — процедил Монсоро сквозь зубы, — но не расстанусь с графиней.
Не успел граф произнести эти слова, как во дворе раздался топот копыт и послышались громкие голоса.
Монсоро содрогнулся.
— Опять герцог! — прошептал он.
— Да, это он, — сказал, подойдя к окну, Реми.
Он еще не закончил фразы, а герцог, пользуясь привилегией принцев входить без доклада, уже вошел в комнату.
Монсоро был настороже. Он увидел, что первый взгляд Франсуа был обращен к Диане.
Вскоре неистощимые любезности герцога еще больше открыли глаза главному ловчему. Герцог привез Диане одну из тех редких драгоценностей, какие не более трех или четырех за всю жизнь изготовляли терпеливые и талантливые художники, прославившие свое время, когда шедевры, несмотря на то что их делали так медленно, появлялись на свет чаще, чем в наши дни.
То был прелестный кинжал с рукоятью золотого чекана. Рукоять являлась одновременно и флаконом. На клинке с поразительным мастерством была вырезана целая охота; собаки, лошади, охотники, дичь, деревья, небо были соединены в гармоническом беспорядке, который надолго приковывал взгляд к этому клинку из золота и лазури.
— Можно поглядеть? — сказал Монсоро, опасавшийся, не спрятана ли в рукоятке какая-нибудь записка.
Принц опроверг его опасения, отделив рукоятку от клинка.
— Вам, охотнику, — клинок, — сказал он, — а графине — рукоятка. Здравствуйте, Бюсси, вы, я вижу, стали теперь близким другом графа?
Диана покраснела.
Бюсси, напротив, сумел совладать с собой.
— Ваше высочество, — сказал он, — вы забыли, что сами просили меня сегодня утром зайти к господину де Монсоро и узнать, как он себя чувствует. Я, по обыкновению, повиновался приказу вашего высочества.
— Это верно, — сказал герцог.
После чего он сел возле Дианы и повел с ней разговор.
Через некоторое время герцог сказал:
— Граф, в этой комнате — комнате больного, ужасно жарко. Я вижу, графине душно, и хочу предложить ей руку, чтобы прогуляться по саду.
Муж и возлюбленный обменялись свирепыми взглядами.
Диана, получив приглашение, поднялась и положила свою руку на руку принца.
— Дайте мне вашу руку, — сказал граф де Монсоро Бюсси.
И главный ловчий спустился в сад вслед за женой.
— А! — сказал герцог. — Вы, как я вижу, совсем поправились?
— Да, ваше высочество, и я надеюсь, что скоро буду в состоянии сопровождать госпожу де Монсоро повсюду, куда бы она ни направлялась.
— Великолепно! Но до той поры не следует утомлять себя.
Монсоро и сам чувствовал, насколько справедлив совет принца.
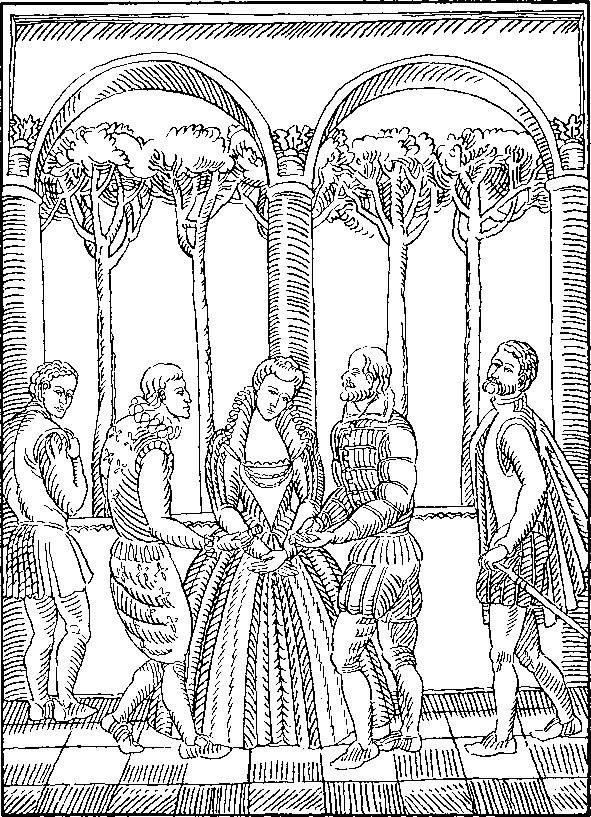
Он уселся так, чтобы не терять принца и Диану из виду.
— Послушайте, граф, — сказал он Бюсси, — не окажете ли вы мне любезность отвезти госпожу де Монсоро в мой домик возле Бастилии? По правде говоря, я предпочитаю, чтобы она находилась там. Я вырвал ее из когтей этого ястреба в Меридоре не для того, чтобы он сожрал ее в Париже.
— Нет, сударь, — сказал Реми своему господину, — нет, вы не можете принять это предложение.
— Почему же? — спросил Бюсси.
— Потому, что вы принадлежите к людям его высочества герцога Анжуйского и герцог никогда не простит вам, что вы помогли графу оставить его с носом.
“Что мне до того?” — уже собрался воскликнуть горячий Бюсси, когда взгляд Реми призвал его к молчанию.
Монсоро размышлял:
— Реми прав, — сказал он, — об этом нужно просить не вас. Я сам отвезу ее, ведь завтра или послезавтра я уже смогу поселиться в том доме.
— Безумие, — сказал Бюсси, — вы потеряете вашу должность.
— Возможно, — ответил граф, — но я сохраню жену.
При этих словах он нахмурился, что вызвало вздох у Бюсси.
И действительно, тем же вечером граф со своей женой отправился в дом возле Турнельского дворца, хорошо известный нашим читателям.
Реми помог выздоравливающему обосноваться там.
Затем, так как он был человеком безгранично преданным и понимал, что в этом тесном жилище любовь Бюсси, оказавшись под угрозой, будет очень нуждаться в его содействии, он снова сблизился с Гертрудой, которая начала с того, что отколотила его, и кончила тем, что простила ему.
Диана снова поселилась в своей комнате, выходящей окнами на улицу, — в комнате с портретом и белым, тканным золотом пологом.
От комнаты графа Монсоро ее отделял всего лишь коридор.
Бюсси рвал на себе волосы.
Сен-Люк утверждал, что веревочные лестницы достигли самого высокого совершенства и прекрасно могут заменить лестницы обыкновенные.
Монсоро потирал руки и улыбался, представляя себе досаду герцога Анжуйского.
XL
ВИЗИТ В ДОМИК ВОЗЛЕ ТУРНЕЛЬСКОГО ДВОРЦА
У некоторых людей вожделение заменяет настоящую страсть, подобно тому как у волка и гиены голод создает видимость смелости.
Во власти такого чувства герцог Анжуйский и вернулся в Париж. Его досада, после того как обнаружилось, что Дианы больше нет в Меридоре, не поддается описанию. Он был почти влюблен в эту женщину, и именно потому, что ее у него отняли.
Вследствие этого ненависть принца к Монсоро, зародившаяся в тот день, когда принц узнал, что граф ему изменил, вследствие этого, повторяем мы, его ненависть превратилась в своего рода безумие, тем более опасное, что, уже столкнувшись раз с решительным характером графа, он собирался нанести удар из-за угла.
С другой стороны, герцог отнюдь не отказался от своих политических притязаний, и уверенность в своей значительности, приобретенная им в Анжу, возвышала его в собственных глазах. Едва возвратившись в Париж, он возобновил свои темные и тайные происки.
Момент для этого был благоприятный: многие склонные к колебаниям заговорщики, из числа тех, кто предан не делу, а успеху, ободренные подобием победы, одержанной анжуйцами благодаря слабости короля и коварству Екатерины, заискивали перед герцогом, связывая невидимыми, но крепкими нитями дело принца с делом Гизов, которые предусмотрительно оставались в тени и хранили молчание, весьма беспокоившее Шико.
К этому надо добавить, что принц больше не вел с Бюсси откровенных политических разговоров. Лицемерные заверения в дружбе — вот и все, что он допускал. Принца безотчетно беспокоила встреча с Бюсси в доме Монсоро, и он сердился на молодого человека за доверие, оказываемое ему столь подозрительным графом.
Его также пугало сияющее радостью лицо Дианы, эти нежные краски, делавшие ее восхитительной и желанной. Принц знал, что цветы горят красками и благоухают только от солнца, а женщины расцветают от любви. Диана явно была счастлива, а всегда завистливому и настороженному принцу чужое счастье казалось враждебным, направленным лично против него.
Рожденный принцем, герцог Анжуйский достиг могущества темными и извилистыми путями и привык прибегать к силе — будь то в делах любви или в делах мести, — после того как сила обеспечила ему успех. Так и сейчас он, поддерживаемый к тому же советами Орильи, счел, что для него зазорно остановиться в удовлетворении своих желаний из-за таких смехотворных препятствий, как ревность мужа и отвращение жены.
Однажды, после дурно проведенной ночи, истерзанный теми мрачными видениями, которые порождает лихорадочное состояние полусна, он почувствовал, что вожделения его дошли до предела, и приказал седлать коней, чтобы отправиться с визитом к Монсоро.
Монсоро, как известно, уже переселился в дом возле Турнельского дворца.
Услышав сие сообщение, принц улыбнулся. То была сцена из меридорской комедии. Еще одна.
Для виду он осведомился, где находится тот дом. Ему ответили, что на площади Сент-Антуан, и тоща, обернувшись к Бюсси, который сопровождал его, принц сказал:
— Раз его дом возле Турнельского дворца, поедем к Турнельскому дворцу.
Кавалькада тронулась в путь, и вскоре две дюжины знатных дворян, составлявших обычную свиту принца, за каждым из которых следовали два лакея с тремя лошадьми, наполнили шумом весь квартал.
Принц хорошо знал и дом и дверь. Бюсси знал их не хуже его.
Они остановились возле двери, вошли в прихожую и поднялись по лестнице. Но принц вошел в комнаты, а Бюсси остался в коридоре.
Вследствие такого распределения принц, казалось бы получивший преимущество, увидел только Монсоро, который встретил его лежа в кресле, в то время как Бюсси встретили руки Дианы, нежно обвившиеся вокруг его шеи, пока Гертруда стояла на страже.
Бледный от природы, Монсоро при виде принца просто посинел. Принц был его кошмаром.
— Ваше высочество! — воскликнул граф, дрожа от злости. — Вы — в этом бедном домишке! Нет, в самом деле, слишком много чести для такого маленького человека, как я.
Ирония бросалась в глаза, потому что Монсоро почти не дал себе труда замаскировать ее.
Однако принц, словно и не заметив иронии, с улыбкой на лице подошел к выздоравливающему.
— Куда бы ни ехал мой страждущий друг, — сказал он, — еду и я, чтобы узнать о его здоровье.
— Помилуйте, принц, мне показалось, что ваше высочество произнесли слово “друг”.
— Я произнес его, любезный граф. Как вы себя чувствуете?
— Гораздо лучше, ваше высочество. Я поднимаюсь, хожу и через неделю буду совсем здоров.
— Это ваш лекарь прописал вам воздух Бастилии? — спросил принц с самым простодушным видом.
— Да, ваше высочество.
— Разве вам было плохо на улице Пти-Пэр?
— Да, ваше высочество, там приходилось принимать слишком много гостей, и эти гости поднимали слишком много шума.
Граф произнес эти слова твердым тоном, что не ускользнуло от принца, и тем не менее Франсуа словно бы не обратил на них никакого внимания.
— Но тут у вас, кажется, нет сада, — сказал он.
— Сад был мне вреден, ваше высочество, — ответил Монсоро.
— Но где же вы гуляли, дорогой мой?
— Да я вообще не гулял, ваше высочество.
Принц закусил губу и откинулся на спинку стула.
— Известно ли вам, граф, — сказал он после короткого молчания, — что очень многие просят короля передать им вашу должность главного ловчего?
— Вот как! И под каким предлогом, ваше высочество?
— Они уверяют, что вы умерли.
— О! Я уверен, что вы, ваше высочество, отвечаете им, что я жив.
— Я ничего не отвечаю. Вы хороните себя, дорогой мой, значит, вы мертвы.
Монсоро, в свою очередь, закусил губу.
— Ну что же, — сказал он, — пусть я потеряю свою должность.
— Вот как?
— Да, есть вещи, которые для меня важнее.
. — А! — произнес принц. — Стало быть, честолюбие вам чуждо?
— Таков уж я, ваше высочество.
— Значит, вы не найдете ничего дурного в том, что об этом узнает король?
— Кто же ему скажет?
— Проклятье! Если он спросит меня, мне, безусловно, придется рассказать о нашем разговоре.
— По чести говоря, ваше высочество, если рассказывать королю все, о чем говорят в Париже, его величеству не хватит ушей.
— А о чем говорят в Париже, сударь? — спросил принц, обернувшись к Монсоро так резко, словно его ужалила змея.
Монсоро увидел, что разговор постепенно принял слишком серьезный оборот для человека, который еще не вполне оправился от болезни и лишен полной свободы действий. Он смирил злобу, кипевшую в нем, и, приняв безразличный вид, сказал:
— Что могу знать я, бедный паралитик? Жизнь идет, а я вижу только тень от нее, да и то не всегда. Ежели король недоволен тем, что я плохо несу свою службу, он не прав.
— То есть как?
— Конечно. Несчастье, случившееся со мной…
— Ну!
— …произошло отчасти по его вине.
— Что вы этим хотите сказать?
— Проклятье! Разве господин де Сен-Люк, проколовший меня шпагой, не из числа самых близких друзей короля? Ведь секретному удару, которым он продырявил мне грудь, его научил король, и я не вижу ничего невозможного в том, что король сам же исподтишка и подстрекнул его завести ссору со мной.
Герцог Анжуйский слегка кивнул головой.
— Вы правы, — сказал он, — но, как ни кинь, король есть король.
— До тех пор, пока он не перестанет быть им, не так ли? — сказал Монсоро.
Герцог вздрогнул.
— Кстати, — сказал он, — разве госпожа де Монсоро не живет здесь?
— Графиня сейчас нездорова, иначе она уже явилась бы сюда засвидетельствовать вам свое глубокое почтение.
— Нездорова? Бедняжка!
— Нездорова, ваше высочество.
— От горя, которое ей причиняет вид ваших страданий.
— И от этого, и от утомления, вызванного переездом.
— Будем надеяться, что нездоровье ее продлится недолго, дорогой граф. У вас такой умелый лекарь.
И принц поднялся со стула.
— Что и говорить, — сказал Монсоро, — милый Реми прекрасно лечил меня.
— Реми? Но ведь так зовут лекаря Бюсси?
— Да, верно, это граф одолжил его мне, ваше высочество.
— Значит, вы очень дружны с Бюсси?
— Он мой лучший и, следовало бы даже сказать, мой единственный друг, — холодно ответил Монсоро.
— Прощайте, граф, — сказал принц, отодвигая шелковую портьеру.
В то самое мгновение, когда голова его высунулась за портьеру, принцу показалось, что он увидел край платья, исчезнувший в комнате напротив, и внезапно перед ним, на своем посту посреди коридора, вырос Бюсси.
Подозрения принца усилились.
— Мы уезжаем, — сказал он.
Бюсси не ответил и поспешил спуститься вниз, чтобы отдать распоряжение эскорту подготовиться, но, возможно, и для того, чтобы скрыть от принца румянец на своем лице.
Оставшись один, герцог попытался проникнуть туда, где исчезло шелковое платье. Но, обернувшись, увидел, что Монсоро вышел вслед за ним и, бледный как смерть, стоит на пороге своей комнаты.
— Ваше высочество ошиблись дверью, — холодно сказал граф.
— В самом деле, — пробормотал герцог, — благодарю вас.
И, кипя от ярости, спустился вниз.
В течение всего обратного довольно долгого пути он и Бюсси не обменялись ни единым словом.
Бюсси распрощался с герцогом у дверей его дворца.
Когда Франсуа вошел в дом и остался в кабинете один, к нему с таинственным видом проскользнул Орильи.
— Ну вот, — сказал, завидев его, герцог, — муж потешается надо мной.
— А возможно, и любовник тоже, ваше высочество, — добавил музыкант.
— Что ты сказал?
— Правду, ваше высочество.
— Тогда продолжай.
— Послушайте, ваше высочество, я надеюсь, вы простите меня, потому что я сделал все это, движимый одним желанием — услужить вам.
— Решено, я тебя прощаю заранее. Дальше!
— Ну так вот, после того как вы вошли в дом, я сторожил под навесом во дворе.
— Ага! И ты увидел?
— Я увидел женское платье, увидел, как женщина наклонилась, увидел, как две руки обвились вокруг ее шеи, и, так как ухо у меня чуткое, я отчетливо услышал звук долгого и нежного поцелуя.
— Но кто был этот мужчина? — спросил герцог. — Ты узнал его?
— Я не мог узнать рук, — возразил Орильи, — у перчаток нет лица, ваше высочество.
— Разумеется, но можно узнать перчатки.
— Действительно, и мне показалось… — продолжал Орильи.
— …что они тебе знакомы, верно? Ну-ну!
— Но это всего лишь предположение.
— Неважно, все равно говори!
— Так вот, ваше высочество, мне показалось, что это перчатки господина де Бюсси.
— Кожаные перчатки, расшитые золотом, не так ли? — вскричал герцог, с глаз которого внезапно спала застилавшая правду пелена.
— Да, ваше высочество, из буйволовой кожи и расшитые золотом, они самые, — подтвердил Орильи.
— А! Бюсси! Конечно, Бюсси! Это Бюсси! — снова воскликнул герцог. — Как я был слеп! Нет, я не был слеп, я просто не мог бы поверить в такую дерзость.
— Осторожней, — сказал Орильи, — мне кажется, ваше высочество, вы говорите слишком громко.
— Бюсси! — еще раз повторил герцог, перебирая в памяти тысячи мелочей, которые в свое время прошли для него незамеченными, а теперь снова возникли перед его мысленным взором во всем их значении.
— Однако, ваше высочество, — сказал Орильи, — не надо спешить с выводами, может статься, в комнате госпожи де Монсоро прятался какой-нибудь другой мужчина.
— Да, это возможно, но Бюсси, ведь он оставался в коридоре, должен был увидеть этого мужчину.
— Вы правы, ваше высочество.
— И потом, перчатки, перчатки!
— И это верно. И еще: кроме звука поцелуя, я услышал…
— Что?
— …три слова.
— Какие?
— “До завтрашнего вечера”.
— Боже мой!
— Таким образом, ваше высочество, если мы пожелаем возобновить те прогулки, которыми когда-то занимались, мы сможем проверить наши подозрения.
— Орильи, мы возобновим их завтра же вечером!
— Ваше высочество знает, что я всегда к вашим услугам.
— Отлично. Ах, Бюсси! — повторил герцог сквозь зубы. — Бюсси изменил своему сеньору! Бюсси, повергающий всех в трепет! Безупречный Бюсси! Бюсси, который не хочет, чтобы я стал королем Франции!
И, улыбаясь своей дьявольской улыбкой, герцог отпустил Орильи, чтобы поразмыслить в одиночестве.
XLI
СОГЛЯДАТАИ
Орильи и герцог Анжуйский выполнили свое намерение. Герцог в течение всего дня старался по возможности держать Бюсси возле себя, чтобы следить за всеми его действиями.
Бюсси ничего лучшего и не желал, как провести день в обществе герцога и получить, таким образом, вечер в свое распоряжение.
Так он поступал обычно, даже когда у него не было никаких тайных планов.
В десять часов вечера Бюсси закутался в плащ и, с веревочной лестницей под мышкой, зашагал к Бастилии.
Герцог, который не знал, что Бюсси держит в его передней лестницу, и не думал, что можно осмелиться в этот час выйти одному на улицы Парижа; герцог, который полагал, что Бюсси зайдет к себе домой за конем и слугою, потерял десять минут на сборы. За эти десять минут, легкий на ногу и влюбленный, Бюсси успел проделать уже три четверти пути.
Бюсси повезло, как обычно везет смелым людям. Он никого не встретил на улицах и, подойдя к дому, увидел в окне свет.
Это был условный между ним и Дианой сигнал.
Молодой человек закинул лестницу на балкон. Она была снабжена шестью крюками, повернутыми в разные стороны, и всегда без промаха цеплялась за что-нибудь.
Услышав шум, Диана погасила светильник и открыла окно, чтобы закрепить лестницу.
Это было делом одной минуты.
Диана окинула взором площадь, внимательно осмотрев все углы и закоулки.
Площадь показалась ей безлюдной.
Тогда она сделала знак Бюсси, что он может подниматься. Увидев этот знак, Бюсси стал взбираться по лестнице, шагая через две перекладины. Их было десять, поэтому на подъем потребовалось всего пять шагов, то есть пять секунд.
Момент был выбран очень удачно, потому что, в то время как Бюсси поднимался к окну, господин де Монсоро, более десяти минут терпеливо подслушивавший у дверей жены, с трудом спускался по лестнице, опираясь на руку доверенного слуги, который с успехом заменял Реми всякий раз, когда дело шло не о перевязках и не о лекарствах.
Этот двойной маневр, словно согласованный умелым стратегом, был выполнен так точно, что Монсоро открыл дверь на улицу как раз в то мгновение, когда Бюсси втянул лестницу и Диана закрыла окно.
Монсоро вышел на улицу. Но, как мы уже сказали, она была пустынна, и граф ничего не увидел.
— Может быть, тебе дали неверные сведения? — спросил Монсоро у слуги.
— Нет, ваше сиятельство, — ответил тот. — Я уходил из Анжуйского дворца, и старший конюх, мы с ним приятели, сказал мне совершенно точно, что его высочество герцог приказал оседлать к вечеру двух коней. Разве только он собирался в какое-нибудь другое место ехать, а не сюда.
— Куда ему еще ехать? — мрачно сказал Монсоро.
Подобно всем ревнивцам, граф не представлял себе, что у всего остального человечества могли найтись иные заботы, кроме одной — мучить его.
Он снова оглядел улицу.
— Может, лучше мне было остаться в комнате Дианы, — пробурчал он. — Но они, вероятно, переговариваются сигналами. Она могла бы предупредить его, что я там, и тоща я бы ничего не узнал. Лучше сторожить снаружи, как мы договорились. Ну-ка, проведи меня в то укромное место, откуда, по-моему, все видно.
— Пойдемте, сударь, — сказал слуга.
Монсоро двинулся вперед, одной рукой опираясь о руку слуги, другой — о стену.
И действительно, в двадцати — двадцати пяти шагах от дома, в направлении Бастилии, лежала большая груда камней, оставшихся от разрушенных домов. Местные мальчишки использовали ее как укрепление, когда играли в войну — игру, ставшую популярной со времен войн арманьяков и бур-гиньонов.
Посреди этой груды камней слуга соорудил что-то вроде укрытия, где без труда могли спрятаться два человека.
Он расстелил на камнях свой плащ, и Монсоро присел на него. Слуга расположился у ног графа.
Возле них на всякий случай лежал заряженный мушкет.
Слуга хотел было поджечь фитиль, но Монсоро остановил его.
— Погоди, — сказал он, — еще успеется. Мы выслеживаем королевскую дичь. Всякий, кто поднимет на нее руку, карается смертной казнью через повешение.
Он переводил свой взгляд, горящий, словно у волка, притаившегося возле овчарни, с окна Дианы в глубину улицы, а оттуда — на прилегающие улицы, ибо, желая застигнуть врага врасплох, боялся, как бы его самого врасплох не застигли.
Диана предусмотрительно задернула плотные гобеленовые занавеси, и лишь узенькая полоска света пробивалась между ними, свидетельствуя, что в этом совершенно темном доме теплится жизнь.
Монсоро не просидел в засаде и десяти минут, как из улицы Сент-Антуан выехали два всадника. '
Слуга не произнес ни слова и лишь рукой указал в их сторону.
— Да, — шепнул Монсоро, — вижу.
Возле угла Турнельского дворца всадники спешились и привязали лошадей к железному кольцу, вделанному для этой цели в стену.
— Ваше высочество, — сказал Орильи, — по-моему, мы приехали слишком поздно. По всей вероятности, он отправился прямо из вашего дворца, опередив вас на десять минут. Он уже там.
— Пусть так, — сказал принц, — но если мы не видели, как он вошел, мы увидим, как он выйдет.
— Да, но когда это будет? — сказал Орильи.
— Когда мы захотим, — сказал принц.
— Не сочтете ли вы за нескромность с моей стороны, если я спрошу, как вы собираетесь этого добиться?
— Нет ничего легче. Один из нас, например ты, постучит в дверь под предлогом, что пришел осведомиться о здоровье господина де Монсоро. Все влюбленные боятся шума, и, стоит тебе войти в дом, он тотчас же вылезет в окно, а я, оставаясь здесь, увижу, как он улепетывает.
— А Монсоро?
— Что он, черт побери, может сказать? Он мой друг, я обеспокоен, я прислал узнать о его здоровье, потому что днем мне показалось, что он плохо выглядит. Нет ничего проще.
— Как нельзя более хитроумно, ваше высочество, — сказал Орильи.
“Ты слышишь, что они говорят?” — спросил Монсоро слугу.
“Нет, ваше сиятельство, но если они будут продолжать разговор, мы обязательно их услышим, потому что они идут в нашу сторону”.
— Ваше высочество, — сказал Орильи, — вот груда камней, которая словно нарочно тут положена, чтобы вам за ней спрятаться…
— Ну что ж. Однако постой, может, удастся что-нибудь разглядеть в щель между занавесками?
Как мы уже сказали, Диана снова зажгла светильник, и из комнаты пробивался наружу слабый свет. Герцог и Орильи добрые десять минут вертелись так и сяк, пытаясь найти ту точку, откуда их взоры могли бы проникнуть в опочивальню.
Во время этих эволюций Монсоро кипел от негодования. Рука его то и дело хваталась за ствол мушкета, куда менее холодный, чем рука!
— О! Неужели я вынесу это? — шептал он. — Проглочу еще и это оскорбление? Нет, нет! Терпение мое иссякло, черт побери! Не иметь возможности ни спать, ни бодрствовать, ни даже болеть спокойно из-за того, что в праздном мозгу этого ничтожного принца угнездилась позорная прихоть! Нет, я не угодливый слуга, я граф де Монсоро! Пусть он только пойдет в эту сторону, и, клянусь честью, я всажу ему пулю в лоб. Зажигай фитиль, Рене, зажигай!
Именно в это мгновение принц, увидев, что проникнуть взглядом за занавески невозможно, вернулся к своему первому плану и собрался уже было спрятаться за камнями, пока Орильи пойдет стучать в дверь, как вдруг Орильи, позабыв о разнице в положении, схватил его за руку.
— В чем дело? — спросил удивленный принц.
— Идемте, ваше высочество, идемте, — сказал Орильи.
— Но почему?
— Разве вы не видите? Там, слева, что-то светится. Идемте, ваше высочество, идемте.
— И верно, я вижу какую-то искорку среди тех камней.
— Это фитиль мушкета или аркебузы, ваше высочество!
— А! — произнес герцог. — Кто же, черт побери, может там прятаться?
— Кто-нибудь из друзей или слуг Бюсси. Удалимся, сделаем крюк и вернемся с другой стороны. Слуга поднимет тревогу, и мы увидим, как Бюсси вылезет из окна.
— И верно, твоя правда, — сказал герцог. — Пойдем.
Они перешли через улицу, направляясь туда, где были привязаны их лошади.
— Уходят, — сказал слуга.
— Да, — сказал Монсоро. — Ты узнал их?
— Я почти уверен, что это принц и Орильи.
— Так оно и есть. Но сейчас я удостоверюсь в этом окончательно.
— Что вы собираетесь делать, ваше сиятельство?
— Пошли!
Тем временем герцог и Орильи свернули в улицу Сент-Катрин с намерением проехать вдоль садов и возвратиться обратно по бульвару Бастилии.
Монсоро вошел в дом и приказал заложить карету.
Случилось то, что и предвидел герцог.
Услышав шум, который произвел Монсоро, Бюсси встревожился: свет снова погас, окно открылось, лестницу опустили, и Бюсси, к своему великому сожалению, был вынужден бежать, как Ромео, но, в отличие от Ромео, он не увидел первого луча занимающегося дня и не услышал пения жаворонка.
В ту минуту, когда он ступил на землю и Диана сбросила ему лестницу, из-за угла Бастилии появились герцог и Орильи.
Они еще успели заметить прямо перед окном Дианы какую-то тень, словно висящую между небом и землей, но почти в то же мгновение тень эта исчезла за углом улицы Сен-Поль.
— Сударь, — уговаривал графа де Монсоро слуга, — мы поднимем на ноги весь дом.
— Что из того? — отвечал взбешенный Монсоро. — Кажется, я тут хозяин и имею полное право делать у себя в доме то, что собирался сделать господин герцог Анжуйский.
Карета была подана. Монсоро послал за двумя слугами, которые жили на улице Турнель, и, когда эти люди, со времени его решения всюду его сопровождавшие, пришли и заняли свои места на подножках, экипаж тронулся в путь. Две крепкие лошади бежали рысью и меньше чем через четверть часа доставили графа к дверям Анжуйского дворца.
Герцог и Орильи возвратились так недавно, что даже кони их не были еще расседланы.
Монсоро, имевший право являться к принцу без приглашения, показался на пороге как раз в тот момент, когда принц, швырнув свою фетровую шляпу на кресло, протягивал ноги в сапогах камердинеру.
Лакей, шедший на несколько шагов впереди Монсоро, объявил о прибытии господина главного ловчего.
Даже если бы молния ударила в окна комнаты, принц не был бы потрясен больше, чем при этом известии.
— Господин де Монсоро! — вскричал он, охваченный беспокойством, о котором свидетельствовали и его бледность, и его взволнованный вид.
— Да, ваше высочество, я самый, — сказал граф, успокаивая, вернее, пытаясь успокоить бушевавшую в его жилах кровь.
Усилие, которое он над собой делал, было столь жестоким, что граф почувствовал, как ноги под ним подогнулись, и упал в кресло возле дверей.
— Но вы убьете себя, дорогой друг, — сказал герцог. — Вы уже сейчас так бледны, что, сдается, вот-вот лишитесь чувств.
— О нет, ваше высочество! Сейчас я должен сообщить вам слишком важные известия. Быть может, потом я и впрямь упаду в обморок, это вероятно.
— Так говорите же, дорогой граф, — сказал Франсуа в полном смятении.
— Но не в присутствии слуг, я полагаю? — сказал Монсоро.
Герцог отослал всех, кроме Орильи.
Они остались наедине.
— Ваше высочество, вы откуда-то возвратились? — спросил Монсоро.
— Как видите, граф.
— Это весьма неосторожно со стороны вашего высочества — ходить среди ночи по улицам.
— Кто вам сказал, что я ходил по улицам?
— Проклятье! А пыль на ваших сапогах…
— Господин де Монсоро, — ответил принц тоном, в котором нельзя было ошибиться, — разве у вас есть и другая должность, кроме должности главного ловчего?
— Должность соглядатая? Увы, ваше высочество. В наши дни все этим занимаются, одни больше, другие меньше, ну и я — как все.
— И что же вам приносит эта должность?
— Я знаю обо всем, что происходит.
— Любопытно, — произнес принц, подвигаясь поближе к звонку, чтобы иметь возможность вызвать слуг.
— Весьма любопытно, — сказал Монсоро.
— Ну что ж, сообщите мне то, что хотели.
— Я затем и пришел.
— Вы позволите мне тоже сесть?
— Не надо смеяться над смиренным и верным другом, который, невзирая на поздний час и болезненное состояние, явился сюда, чтобы оказать вам важную услугу. Если я и сел, ваше высочество, то, клянусь честью, лишь потому, что ноги меня не держат.
— Услугу? — переспросил герцог. — Услугу?
— Да.
— Так говорите же!
— Ваше высочество, я явился к вам по поручению одного могущественного лица.
— Короля?
— Нет, его светлости герцога де Гиза.
— А, — сказал принц, — по поручению герцога де Гиза — это другое дело. Подойдите ко мне и говорите тише.
XLII
О ТОМ, КАК ГЕРЦОГ АНЖУЙСКИЙ ПОСТАВИЛ СВОЮ ПОДПИСЬ, И О ТОМ, ЧТО ОН СКАЗАЛ ПОСЛЕ
ЭТОГО
Некоторое время герцог Анжуйский и Монсоро молчали. Затем герцог прервал молчание.
— Ну, господин граф, — спросил он, — что же господа де Гизы поручили вам сообщить мне?
— Очень многое, ваше высочество.
— Значит, вы получили от них письмо?
— О нет. После странного исчезновения мэтра Никола Давида господа де Гизы больше не посылают писем.
— В таком случае, вы сами побывали в армии?
— Нет, ваше высочество, это они приехали в Париж.
— Господа де Гизы в Париже? — воскликнул герцог.
— Да.
— И я их не видел!
— Они слишком осторожны, чтобы подвергать опасности себя, а также и ваше высочество.
— И меня даже не известили!
— Почему же нет, ваше высочество? Как раз этим я сейчас и занимаюсь.
— А что они собираются здесь делать?
— Но ведь они явились на встречу, которую вы им сами назначили.
— Я! Я назначил им встречу?
— Разумеется. В тот самый день, когда вы, ваше высочество, были арестованы, вы получили письмо от господ де Гизов и через мое посредство ответили им, слово в слово, что они должны быть в Париже с тридцать первого мая до второго июня. Сегодня тридцать первое мая. Если вы забыли господ де Гизов, то господа де Гизы, как видите, вас не забыли, ваше высочество.
Франсуа побелел.
С того дня произошло столько событий, что он упустил из виду это свидание, несмотря на всю его важность.
— Верно, — сказал он, — но между мною и господами де Гизами больше не существует тех отношений, которые существовали тогда.
— Если это так, ваше высочество, — сказал граф, — вам лучше предупредить их, ибо мне кажется, что у них на этот счет совсем иное мнение.
— То есть?
— Вы, быть может, полагаете, что развязались с ними, ваше высочество, но они продолжают считать себя связанными с вами.
— Это западня, любезный граф, приманка, на которую такой человек, как я, во второй раз не попадется.
— А где же ваше высочество попались в первый раз?
— Как где я попался? Да в Лувре, черт побери!
— Разве это было по вине господ де Гизов?
— Я не утверждаю этого, — проворчал герцог, — я не утверждаю, я только говорю, что они ничего не сделали, чтобы помочь мне бежать.
— Это было бы нелегко, так как они сами находились в бегах.
— Верно, — прошептал герцог.
— Но, как только вы очутились в Анжу, разве они не поручили мне сказать вам, что вы можете всегда рассчитывать на них, как они рассчитывают на вас, и что в тот день, когда вы двинетесь на Париж, они тоже выступят против него?
— И это верно, — сказал герцог, — но я не двинулся на Париж.
— Нет, двинулись, ваше высочество, раз вы в Париже.
— Да, я в Париже, но как союзник моего брата.
— Разрешите вам заметить, ваше высочество, что Гизам вы больше чем союзник.
— Кто же я им?
— Сообщник, ваше высочество.
Герцог Анжуйский прикусил губу.
— Так вы говорите, что они поручили вам объявить мне об их прибытии?
— Да, ваше высочество, они оказали мне эту честь.
— Но они не сообщили вам причин своего возращения?
— Зная меня как доверенное лицо вашего высочества, они сообщили мне все: и причины и планы.
— Так у них есть планы? Какие?
— Те же, что и прежде.
— И они считают их осуществимыми?
— Они в них уверены.
— А цель этих планов по-прежнему…
Герцог остановился, не решаясь выговорить слова, которые должны были последовать за теми, что он произнес.
Монсоро закончил его мысль:
— Да, ваше высочество, их цель — сделать вас королем Франции.
Герцог почувствовал, как лицо его краснеет от радости.
— Но благоприятный ли сейчас момент? — спросил он.
— Это решит ваша мудрость.
— Моя мудрость?
— Да. Вот факты, факты очевидные, неопровержимые.
— Я слушаю.
— Провозглашение короля главой Лиги было не более чем комедией, в этом быстро разобрались, а разобравшись, тут же осудили. Теперь начинается противоборство, и все государство поднимается против тирана-короля и его ставленников. Проповеди звучат как призывы к борьбе, в церквах, вместо того чтобы молиться Богу, проклинают короля. Армия дрожит от нетерпения, буржуа присоединяются к нам, наши эмиссары только и делают, что сообщают о новых вступлениях в Лигу. В общем, царствованию Валуа приходит конец. В этих условиях господам де Гизам необходимо выбрать серьезного претендента на трон, и их выбор, натурально, остановился на вас. Так вот, отказываетесь ли вы от ваших прежних замыслов?
Герцог не ответил.
— О чем вы думаете, ваше высочество? — спросил Монсоро.
— Проклятье! Я думаю…
— Ваше высочество, вы можете говорить со мной вполне откровенно.
— Я думаю о том, — сказал герцог, — что у моего брата нет детей, что после него трон должен перейти ко мне, что король не крепкого здоровья. Зачем же мне в таком случае суетиться вместе со всем этим людом и в бессмысленном соперничестве марать свое имя, достоинство, свою братскую привязанность и, наконец, зачем мне добиваться с опасностью для себя того, что причитается мне по праву?
— Вот как раз в этом, — сказал Монсоро, — ваше высочество и ошибаетесь: трон вашего брата перейдет к вам только в том случае, если вы им завладеете. Господа де Гизы сами не могут стать королями, но они не допустят, чтобы на троне сидел неугодный им король. Они рассчитывали, что тем королем, который сменит ныне царствующего, будете вы, ваше высочество, но, в случае вашего отказа, они найдут другого, предупреждаю вас.
— Кого же? — вскричал герцог Анжуйский, нахмурившись. — Кто посмеет сесть на трон Карла Великого?
— Бурбон вместо Валуа, вот и все, ваше высочество, потомок святого Людовика вместо потомка святого Людовика.
— Король Наваррский? — воскликнул Франсуа.
— А почему бы и нет? Он молод, храбр. Правда, у него нет детей, но все уверены, что он может их иметь.
— Он гугенот.
— Он? Да разве он не обратился во время Варфоломеевской ночи?
— Да. Но позже он отрекся.
— Э, ваше высочество, то, что он сделал ради жизни, он сделает и ради трона.
— Значит, они думают, что я уступлю свои права без борьбы?
— Я полагаю, что они это предусмотрели.
— Я буду отчаянно сражаться.
— Этим вы их не напугаете. Они старые вояки.
— Я встану во главе Лиги.
— Они ее душа.
— Я объединюсь со своим братом.
— Ваш брат будет мертв.
— Я призову на помощь королей Европы.
— Короли Европы охотно вступят в войну с королями, но они дважды подумают, прежде чем вступить в войну с народом.
— С народом?
— Разумеется. Господа де Гизы готовы на все, даже на созыв штатов, даже на провозглашение республики.
Франсуа стиснул руки в невыразимой тоске. Монсоро со своими столь исчерпывающими ответами был страшен.
— Республики? — прошептал принц.
— О! Господи Боже мой! Да, как в Швейцарии, как в Генуе, как в Венеции.
— Но я и мои сторонники — мы не потерпим, чтобы из Франции сделали республику.
— Ваши сторонники? — переспросил Монсоро. — Ах, ваше высочество, вы были так ко всему равнодушны, так чужды всего земного, что, даю слово, сегодня у вас остались только два сторонника — господин де Бюсси да я.
Герцог не мог подавить мрачной улыбки.
— Значит, я связан по рукам и ногам, — сказал он.
— Похоже на то, ваше высочество.
— Тогда какой им смысл иметь со мной дело, если я, как вы утверждаете, лишен всякого могущества?
— Я имел в виду, ваше высочество, что вы бессильны без господ Гизов, но вместе с ними всесильны.
— Я всесилен вместе с ними?
— Да. Скажите слово, ивы — король.
Герцог в страшном волнении поднялся и заходил по кабинету, комкая все, что попадалось ему под руку: занавеси, портьеры, скатерти. Наконец он остановился перед Монсоро.
— Ты был прав, граф, когда сказал, что у меня остались два друга: ты и Бюсси.
Он произнес эти слова с приветливой улыбкой, которой уже успел заменить выражение гнева на своем бледном лице.
— Итак? — спросил Монсоро. Глаза его горели радостью.
— Итак, мой верный слуга, — ответил принц, — говорите, я слушаю.
— Вы мне приказываете, ваше высочество?
— Да.
— Так вот, ваше высочество, в двух словах, весь план.
Герцог побледнел, но приготовился слушать.
Граф продолжал:
— Через неделю праздник Святых даров, не правда ли, ваше высочество?
— Да.
— Для этого святого дня король давно замыслил устроить торжественное шествие к главным монастырям Парижа.
— Да, у него в обычае устраивать каждый год такие шествия ради этого праздника.
— И, как ваше высочество помнит, при короле в этот день нет охраны, или, вернее, охрана остается за дверями монастыря. В каждом монастыре король останавливается возле алтаря, опускается на колени и читает по пять раз “Pater” и “Ave”, да еще сверх того семь покаянных псалмов.
— Все это мне известно.
— Среди прочих монастырей он посетит и аббатство святой Женевьевы.
— Бесспорно..
— Но поскольку перед монастырем накануне ночью случится нечто непредвиденное…
— Непредвиденное?
— Да. Лопнет сточная труба.
— И что?
— Алтарь нельзя будет поставить снаружи — под портиком, и его поместят внутри — во дворе.
— Ну и?
— Не спешите, ваше высочество. Король войдет, с ним вместе войдут четверо или пятеро из свиты. Но за королем и этими четырьмя или пятью двери закроются.
— И тогда?
— И тогда… — ответил Монсоро. — Вы, ваше высочество, уже знакомы с монахами, которые будут принимать его величество в аббатстве.
— Это будут те же самые?
— Вот именно. Те же самые, которые были там при миропомазании вашего высочества.
— И они осмелятся поднять руки на помазанника Божьего?
— О! Только для того, чтобы постричь его, вот и все. Вы же знаете это четверостишие:
Из трех корон ты сдуру Лишился уже одной.
Час близок — лишишься второй,
Вместо третьей получишь тонзуру.
— И они посмеют это сделать? — вскричал герцог с алчно горящим взором. — Они прикоснутся к голове короля?
— О! К тому времени он уже не будет королем.
— Каким образом?
— Вам не приходилось слышать о некоем брате из монастыря святой Женевьевы, святом человеке, который произносит речи в ожидании той поры, когда он начнет творить чудеса?
— О брате Горанфло?
— О нем самом.
— Это тот, который хотел проповедовать Лигу с аркебузой на плече?
— Тот самый.
— Ну и вот, короля отведут в его келью. Наш монах обещал, что, как только король окажется там, он заставит его подписать отречение. После того как король отречется, войдет госпожа де Монпансье с ножницами в руках. Ножницы уже куплены, и госпожа де Монпансье носит их на поясе. Это прелестные ножницы из чистого золота, с восхитительной резьбой: кесарю — кесарево.
Франсуа молчал. Зрачки его лживых глаз расширились, как у кошки, которая подстерегает в темноте свою добычу.
— Дальнейшее вам понятно, ваше высочество, — продолжал граф. — Народу объявят, что король, испытав святое раскаяние в своих заблуждениях, дал обет навсегда остаться в монастыре. На случай, если кто-нибудь усомнится в том, что король действительно дал такой обет, у герцога де Гиза есть армия, у господина кардинала — церковь, а у герцога Майенского — горожане; располагая этими тремя могущественными силами, можно заставить народ поверить почти во все что угодно.
— Но меня обвинят в насилии, — сказал герцог после недолгого молчания.
— Вам незачем там находиться.
— Меня будут считать узурпатором.
— Ваше высочество забывает про отречение.
— Король не согласится подписать его.
— Кажется, брат Горанфло не только весьма красноречив, но еще и очень силен.
— Значит, план готов?
— Окончательно.
— И они не опасаются, что я их выдам?
— Нет, ваше высочество, потому что у них есть другой, не менее верный план — против вас, на случай вашей измены.
— А! — произнес принц.
— Да, ваше высочество, но я с ним незнаком. Им хорошо известно, что я ваш друг, и они мне не доверяют. Я знаю только о существовании плана, и это все.
— В таком случае я сдаюсь, граф. Что надо делать?
— Одобрить.
— Что ж, я одобряю.
— Да. Но недостаточно одобрить на словах.
— Как же еще могу я дать свое одобрение?
— В письменном виде.
— Безумие думать, что я соглашусь на это.
— Почему же?
— А если заговор не удастся?
— Как раз на тот случай, если он не удастся, у вашего высочества и просят подпись.
— Значит, они хотят укрыться за моим именем?
— Разумеется.
— Тогда я наотрез отказываюсь.
— Вы уже не можете.
— Я уже не могу отказаться?
— Нет.
— Вы что, с ума сошли?
— Отказаться — значит изменить.
— Почему?
— Потому что я с удовольствием бы смолчал, но ваше высочество сами приказали мне говорить.
— Ну что ж, пусть господа де Гизы смотрят на это так, как им вздумается. По крайней мере, я сам выберу из двух зол.
— Ваше высочество, не ошибитесь в выборе!
— Я рискну, — сказал Франсуа, немного взволнованный, но пытающийся тем не менее держаться твердо.
— Не советую, ваше высочество, — сказал граф, — в ваших интересах.
— Но, подписываясь, я себя компрометирую.
— Отказываясь подписаться, вы делаете нечто гораздо худшее: вы себя убиваете.
Франсуа содрогнулся.
— И они осмелятся? — сказал он.
— Они осмелятся на все! Они слишком далеко зашли. Им надо добиться успеха любой ценой.
Вполне понятно, что герцог заколебался.
— Я подпишу, — сказал он.
— Когда?
— Завтра.
— Нет, ваше высочество, подписать надо не завтра, а немедленно, если вы решились.
— Но ведь господа де Гизы должны еще составить обязательство, которое я беру по отношению к ним.
— Обязательство уже составлено, разумеется, оно со мной.
Монсоро вынул из кармана бумагу: это было полное и безоговорочное одобрение известного нам плана. Герцог прочел его целиком, от первой до последней строчки, и граф видел, что, по мере того как он читал, лицо его покрывалось бледностью. Когда он закончил чтение, ноги его подкосились и он сел, вернее, повалился в кресло перед столом.
— Возьмите, ваше высочество, — сказал граф, подавая ему перо.
— Значит, я должен это подписать? — спросил принц, подпирая лоб рукою — у него кружилась голова.
— Должны — если вы хотите! Никто вас к этому не вынуждает.
— Нет, вынуждают, если вы угрожаете мне убийством.
— Я вам не угрожаю, ваше высочество, Боже меня упаси. Я вас предупреждаю, а это большая разница.
— Давайте, — сказал герцог.
И, словно сделав над собой усилие, он взял или, скорее, выхватил перо из рук графа и подписал.
Монсоро следил за ним, трепеща от ненависти и — надежды… Когда он увидел, что перо прикоснулось к бумаге, он принужден был опереться о стол; зрачки его, казалось, расширялись все больше и больше по мере того, как рука герцога выводила буквы подписи.
— Уф! — вздохнул Монсоро, когда все было закончено.
И, схватив бумагу таким же порывистым движением, каким герцог схватил перо, он сложил ее и спрятал между рубашкой и куском шелковой ткани, заменявшим в то время жилет, застегнул камзол и поверх него запахнул плащ.
Герцог с удивлением следил за ним, не в силах понять выражения этого бледного лица, по которому молнией промелькнула свирепая радость.
— А теперь, ваше высочество, — сказал Монсоро, — будьте осторожны.
— То есть? — спросил герцог.
— Не ходите по улицам в ночное время вместе с Орильи, как вы делали только что.
— Что это значит?
— Это значит, ваше высочество, что сегодня ночью вы отправились добиваться любви женщины, которую ее муж боготворит и ревнует так, что способен… да, клянусь честью, способен убить всякого, кто приблизится к ней без его разрешения.
— Не о себе ли, часом, и не о своей ли жене вы говорите?
— Да, ваше высочество. Раз уж вы угадали точнехонько с первого раза, я даже не стану пытаться отрицать этого! Я женился на Диане де Меридор, она принадлежит мне, и никому другому, даже самому принцу, принадлежать не будет, во всяком случае, пока я жив. И дабы вы твердо это знали, ваше высочество, глядите: я клянусь в этом моим именем на своем кинжале.
И он почти коснулся клинком груди принца, который попятился назад.
— Сударь, вы мне угрожаете? — воскликнул Франсуа, бледный от гнева и ярости.
— „Нет, мой господин, я только предупреждаю вас.
— О чем?
— О том, что моя жена не будет принадлежать другому!
— А я, господин глупец, — вскричал вне себя герцог Анжуйский, — я отвечаю вам, что вы предупреждаете меня слишком поздно: она уже принадлежит кое-кому.
Монсоро страшно вскрикнул и вцепился руками себе в волосы.
— Не вам ли? — прохрипел он. — Не вам ли, ваше высочество?
Ему стоило только протянуть руку, все еще сжимавшую кинжал, и клинок вонзился бы в грудь принца.
Франсуа отступил.
— Вы лишились рассудка, граф, — сказал он, готовясь позвонить в колокольчик.
— Нет, я вижу ясно, говорю разумно и понимаю правильно. Вы сказали, что моя жена принадлежит кому-то другому, вы так сказали.
— И повторяю.
— Назовите этого человека и приведите доказательства.
— Кто прятался сегодня ночью в двадцати шагах от ваших дверей с мушкетом в руках?
— Я.
— Очень хорошо, граф, а в это время…
— В это время?..
— … у вас в доме, вернее, у вашей жены был мужчина.
— Вы видели, как он вошел?
— Я видел, как он вышел.
— Из дверей?
— Из окна.
— Вы узнали этого мужчину?
— Да, — сказал герцог.
— Назовите его, — вскричал Монсоро, — назовите его, ваше высочество, или я ни за что не отвечаю!
Герцог провел рукою по лбу, и на губах его мелькнуло подобие улыбки.
— Господин граф, — сказал он, — даю честное слово принца крови, клянусь Господом моим и моей душой, через неделю я укажу вам человека, который обладает вашей женой.
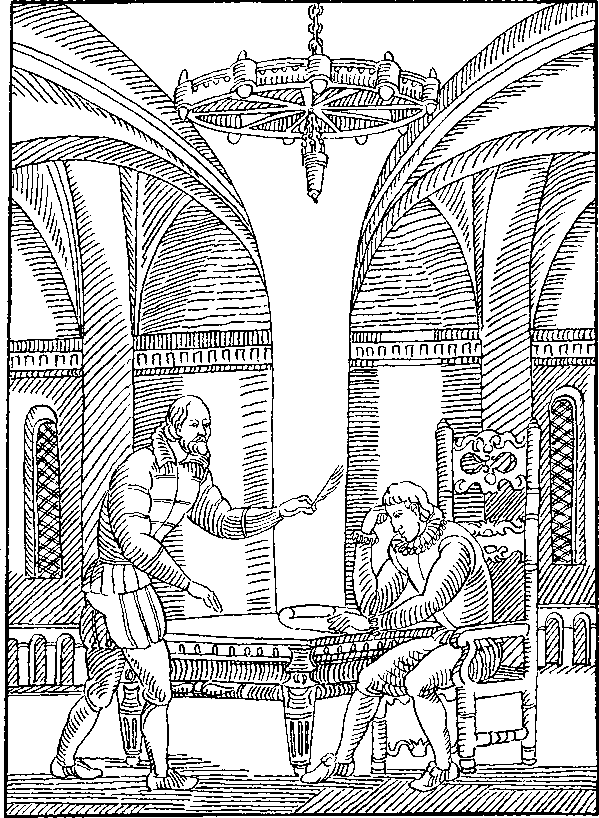
— Вы клянетесь? — воскликнул Монсоро.
— Клянусь.
— Что ж, ваше высочество, через неделю, — сказал граф и похлопал рукой по тому месту на груди, где лежала подписанная принцем бумага, — через неделю, или… вы понимаете?..
— Приходите через неделю — вот все, что я могу вам сказать.
— Хорошо, так даже лучше, — согласился Монсоро. — Через неделю ко мне вернутся все мои силы, а когда человек собирается мстить, ему нужны все силы.
Он отвесил герцогу прощальный поклон, в котором нетрудно было прочесть угрозу, и вышел.
XLIII
ПРОГУЛКА К БАСТИЛИИ
Тем временем анжуйские дворяне, один за другим, возвратились в Париж.
Если бы мы сказали, что они приехали исполненные доверия, вы усомнились бы в этом. Слишком хорошо знали они короля, его брата и мать, чтобы помыслить, будто все может обойтись родственными объятиями.
У анжуйцев еще свежа была в памяти охота, которую устроили на них друзья короля, и после той малоприятной процедуры они не могли тешить себя надеждой на триумфальную встречу.
Поэтому они возвращались с опаской, пробирались в город незаметно, вооруженные до зубов, готовые стрелять при первом подозрительном движении; и по пути к Анжуйскому дворцу с полсотни раз обнажали шпаги против горожан, единственное преступление которых состояло лишь в том, что те позволяли себе поглазеть на проезжавших мимо анжуйцев. Особенно бесился Антрагэ: он винил во всех своих невзгодах господ королевских миньонов и дал себе клятву сказать им при случае пару теплых слов.
Антрагэ поделился своим планом с Рибейраком, человеком очень разумным, и тот заявил ему, что, прежде чем доставить себе подобное удовольствие, надо иметь поблизости границу, а то и две.
— Это можно устроить, — ответил Антрагэ.
Герцог принял их очень хорошо. Они были его людьми, так же как господа де Можирон, де Келюс, де Шомберг и д’Эпернон были людьми короля.
Для начала он сказал им:
— Друзья мои, здесь, кажется, собираются вас прикончить. Все идет к тому. Будьте очень осторожны.
— Мы уже осторожны, ваше высочество, — ответил Антрагэ. — Но не подобает ли нам отправиться в Лувр засвидетельствовать его величеству наше нижайшее почтение? Ведь в конце концов, если мы будем прятаться, это не сделает чести Анжу. Как вы полагаете?
— Вы правы, — сказал герцог. — Отправляйтесь, и, если хотите, я составлю вам компанию.
Молодые люди обменялись вопросительными взглядами. В это минуту в зал вошел Бюсси и кинулся обнимать друзей.
— Э! — сказал он. — Долго же вы добирались! Но что я слышу! Его высочество хочет отправиться в Лувр, чтобы его там закололи, как Цезаря в римском сенате? Подумайте о том, что каждый из миньонов охотно унес бы кусочек вашего высочества под полой своего плаща.
— Но, дорогой друг, мы хотим слегка приласкать этих господ.
Бюсси расхохотался:
— Там будет видно, там будет видно.
Герцог пристально посмотрел на него.
— Пойдемте в Лувр, — предложил Бюсси, — но только одни; а его высочество останется у себя в саду срубать головы макам.
Франсуа засмеялся с притворной веселостью. По правде говоря, в глубине души он был рад, что избавился от неприятной обязанности.
Анжуйцы нарядились в великолепные одежды.
Все они были знатными вельможами и охотно проматывали на шелках, бархате и позументах доходы от родовых земель.
Они шли, сверкая золотом, драгоценными камнями, парчой, встречаемые приветственными возгласами простолюдинов, чей безошибочный нюх угадывал за пышными нарядами сердца, пылающие ненавистью к королевским миньонам.
Но Генрих III не пожелал принять господ из Анжу, и они напрасно прождали в галерее.
И не кто иные, как господа де Келюс, де Можирон, де Шомберг и д’Эпернон, с вежливыми поклонами и с изъявлениями глубочайшего сожаления явились сообщить анжуйцам решение короля.
— Ах, господа, — сказал Антрагэ, потому что Бюсси старался держаться как можно незаметней, — это печальное известие, но в ваших устах оно становится значительно менее неприятным.
— Господа, — ответствовал Шомберг, — вы сама обходительность, сама любезность. Не угодно ли вам, чтобы мы заменили неудавшийся прием небольшой прогулкой?
— А мы как раз собирались просить вас об этом, — с живостью ответил Антрагэ, но Бюсси незаметно тронул его за руку и шепнул:
— Помолчи, пусть они сами.
— Куда бы нам пойти? — сказал Келюс в раздумье.
— Я знаю чудесный уголок возле Бастилии, — откликнулся Шомберг.
— Господа, мы следуем за вами, — сказал Рибейрак. — Идите вперед.
И четверо миньонов, в сопровождении четырех анжуйцев, вышли из Лувра и зашагали по набережным к бывшему турнельскому загону для скота, а в те времена — Конскому рынку, подобию ровной площади, где росло несколько чахлых деревьев и там и сям были расставлены загородки, предназначенные для содержания лошадей.
По дороге наши восемь дворян взялись под руки, и, обмениваясь бесчисленными любезностями, весело болтали о всяких пустяках, к величайшему удивлению горожан, которые уже сожалели, впрочем, о своих недавних здравицах анжуйцам и говорили теперь, что те приехали, чтобы заключить сделку с поросятами Ирода.
Когда пришли на место, Келюс взял слово:
— Посмотрите, что за прекрасный, уединенный уголок и как твердо стоит нога на этой пропитанной конской мочой земле.
— По чести, так, — откликнулся Антрагэ, топнув несколько раз.
— Ну вот, — продолжал Келюс, — мы и подумали, эти господа и я, что вы охотно придете сюда с нами в один из ближайших дней, чтобы составить компанию вашему другу, господину де Бюсси, который оказал нам честь вызвать нас всех четверых разом.
— Это верно, — подтвердил Бюсси ошеломленным друзьям.
— Он нам ничего не сказал! — воскликнул Антрагэ.
— О! Господин де Бюсси знает все тонкости дела, — ответил Можирон. — Ну как? Вы согласны, господа анжуйцы?
— Разумеется, согласны, — ответили трое анжуйцев в один голос, — мы польщены столь высокой честью.
— Вот и чудесно, — сказал Шомберг, потирая руки. — А теперь, если вам будет угодно, давайте выберем себе противника.
— Меня это вполне устраивает, — сказал Рибейрак, в глазах которого горела ненависть к миньонам. — И в таком случае…
— Нет, — прервал его Бюсси, — так было бы несправедливо! Мы все охвачены одним и тем же чувством, значит, нас вдохновляет Всевышний. Мыслями человеческими управляет Бог, господа, уверяю вас. Предоставим же Богу разделить нас на пары. К тому же вам известно, как мало это будет иметь значения, если мы решим, что первый освободившийся приходит на помощь остальным.
— Обязательно, обязательно! — вскричали миньоны.
— Тогда тем более поступим, как братья Горации: бросим жребий.
— Разве они бросали жребий? — спросил К ел юс.
— Я в этом совершенно уверен, — ответил Бюсси.
— Что ж, последуем их примеру…
— Минутку, — сказал Бюсси. — Прежде чем определить наших противников, договоримся о правилах боя. Не подобает об условиях боя договариваться после выбора противников.
— Все очень просто, — сказал Шомберг. — Мы будем сражаться насмерть, как сказал господин де Сен-Люк.
— Разумеется, но каким оружием мы будем сражаться?
— Шпагой и кинжалом, — сказал Бюсси. — Мы все владеем этим оружием.
— Пешие? — спросил Келюс.
— А зачем вам конь? Он только сковывает движения.
— Пусть будет так, пешие.
— В какой день?
— Чем скорее, тем лучше.
— Нет, — сказал д’Эпернон. — Мне нужно еще уладить тысячу дел, написать завещание. Простите, но я предпочитаю подождать… Лишние три дня или шесть только усилят в нас жажду боя.
— Вот речь храбреца, — с нескрываемой иронией заметил Бюсси.
— Договорились?
— Да. Мы по-прежнему прекрасно понимаем друг друга.
— Тогда бросим жребий, — сказал Бюсси:
— Еще минуту, — вступил в разговор Антрагэ. — Я вот что предлагаю: давайте разделим беспристрастно и поле боя. По жребию мы разделимся на пары. Разделим же и землю на четыре участка — по участку для каждой пары.
— Хорошо придумано.
— Для первой пары я предлагаю тот прямоугольник между двумя липами… там отличное место.
— Принято.
— А солнце?
— Тем хуже для второго номера, он будет стоять лицом на восток.
— Нет, господа, это несправедливо, — сказал Бюсси. — У нас честный бой, а не убийство. Давайте опишем полукруг и расположимся на нем. Пусть солнце светит нам всем сбоку.
Бюсси показал эту позицию, и она была принята; затем стали тянуть жребий.
Первый выпал Шомбергу, второй — Рибейраку. Они составили первую пару.
Келюс и Антрагэ вошли во вторую.
Ливаро и Можирон — в третью.
Когда прозвучало имя Келюса, Бюсси, рассчитывавший получить его в противники, нахмурился.
Д’Эпернон, видя, что он попал в одну пару с Бюсси, побледнел и был вынужден подергать себя за усы, чтобы вызвать хоть немного краски на лице.
— Теперь, господа, — сказал Бюсси, — до сражения мы принадлежим друг другу. Мы друзья на жизнь и на смерть. Не соблаговолите ли вы пожаловать ко мне на обед?
Все поклонились в знак согласия и отправились к Бюсси, где пышное празднество объединило их до утра.
XLIV
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ШИКО ЗАСЫПАЕТ
За объяснением миньонов с анжуйцами наблюдали сначала король — в Лувре, а затем Шико.
Генрих волновался у себя в покоях, с нетерпением ожидая возвращения своих друзей после их прогулки с господами из Анжу.
Шико издали следил за этой прогулкой, глазом знатока подмечая то, чего никто не мог бы понять лучше, чем он. Уяснив себе намерения Бюсси и Келюса, он свернул к домику Монсоро.
Монсоро был человеком хитрым, но провести Шико ему, конечно, было не под силу: гасконец принес графу глубочайшие соболезнования короля. Ну мог ли граф не оказать ему радушнейшего приема?!
Шико застал главного ловчего в постели.
Недавнее посещение Анжуйского дворца подорвало силы еще не окрепшего организма, и Реми, подперев кулаком подбородок, с досадой ждал первых признаков лихорадки, которая угрожала снова завладеть своей жертвой.
Тем не менее Монсоро оказался в состоянии поддерживать разговор и так ловко скрывал свою ненависть к герцогу Анжуйскому, что никто другой, кроме Шико, ничего бы и не заподозрил. Но чем больше осторожничал граф, тем больше сомневался Шико в его искренности.
“Нет, — говорил себе гасконец, — он не стал бы так распинаться в своей любви к герцогу Анжуйскому без какой-то задней мысли”.
Шико, разбиравшийся в болезнях, захотел также убедиться, не является ли лихорадка графа комедией, наподобие той, которую разыграл перед ним в свое время Никола Давид.
Но Реми не обманывал, и, проверив пульс Монсоро, Шико подумал: "Этот болен по-настоящему и не в силах ничего сделать. Остается господин де Бюсси, посмотрим, на что способен он".
Шико поспешил к Бюсси и обнаружил, что его дом сияет огнями и весь окутан запахами, которые исторгли бы из груди Горанфло вопли восторга.
— Не женится ли, случаем, господин де Бюсси? — спросил Шико у слуги.
— Нет, сударь, — ответил тот. — Господин де Бюсси помирился с несколькими знатными господами и отмечает примирение обедом, отличнейшим обедом, дозвольте вас уверить!
“С этой стороны его величеству тоже пока ничего не грозит, — подумал Шико, — разве что Бюсси их отравит, но я считаю его неспособным на такое дело”.
Шико возвратился в Лувр и в оружейной палате увидел Генриха, который шагал из угла в угол и сыпал проклятиями.
Король отправил к Келюсу уже трех гонцов. Но все они, не понимая, почему беспокоится его величество, заглянули по пути в заведение, которое содержал Бираг-сын и где каждый носящий королевскую ливрею всегда мог рассчитывать на полный стакан вина, ломоть ветчины и засахаренные фрукты.
Этим способом Бираги сохраняли милость короля.
При появлении Шико в дверях оружейной Генрих издал громкое восклицание:
— О! Дорогой друг, ты не знаешь, что с ними?
— С кем? С твоими миньонами?
— Увы! Да, с моими бедными друзьями.
— Должно быть, они в эту минуту лежат пластом, — ответил Шико.
— Убиты?! — закричал Генрих, и в глазах его сверкнула угроза.
— Нет, нет! Но боюсь, что они смертельно…
— Ранены? И ты еще смеешься, нехристь!
— Погоди, сын мой, смертельно-то смертельно, да не ранены, а пьяны.
— Ах, шут… как ты меня напугал! Но почему ты клевещешь на этих достойных людей?
— Совсем напротив, я их восхваляю.
— Все зубоскалишь… Послушай, будь же серьезен, молю тебя. Ты знаешь, что они вышли вместе с анжуйцами?
— Разрази Господь! Конечно, знаю.
— Ну и чем же это кончилось?
— Ну и кончилось это так, как я сказал: они смертельно пьяны или близки к тому.
— Но Бюсси, Бюсси?
— Бюсси их спаивает, он весьма опасный человек.
— Шико, ради Бога!
— Ну так уж и быть: Бюсси угощает их обедом, твоих ^друзей. Это тебя устраивает, а?
— Бюсси угощает их обедом! О! Нет, невозможно. Заклятые враги…
— Вот как раз если бы они были друзьями, им незачем было бы напиваться вместе. Послушай-ка, у тебя крепкие ноги?
— А что?
— Сможешь ты дойти до реки?
— Я смогу дойти до края света, только бы полюбоваться на это зрелище.
— Дойди-ка покамест до дома Бюсси, и ты увидишь это чудо!
— Ты пойдешь со мной?
— Благодарю за приглашение, я только что оттуда.
— Но, Шико…
— Нет и нет! Ведь ты понимаешь, раз я уже видел, мне незачем идти туда снова, чтобы в этом убедиться! У меня и так от этой беготни ноги стали на три дюйма короче! В живот вколотились! Коли я опять туда потащусь, у меня, чего доброго, колени под самым брюхом окажутся!
— Иди, мой сын, иди!
Король устремил на шута гневный взгляд.
— Очень милое твой стороны, — заметил Шико, — портить себе кровь из-за таких людей. Они смеются, пируют и поносят твои законы. Ответь на все это, как подобает философу: они смеются — будем и мы смеяться; они обедают — прикажем подать нам что-нибудь повкуснее и погорячее; они поносят наши законы — ляжем-ка после обеда спать.
Король не мог удержаться от улыбки.
— Ты можешь считать себя настоящим мудрецом, — сказал Шико. — Во Франции были длинноволосые короли, один смелый король, один великий король, были короли ленивые; я уверен, что тебя нарекут Генрихом Терпеливым… Ах! Сын мой, терпение — такая прекрасная добродетель… за неимением других!
— Меня предали! — сказал король. — Предали! Эти люди не имеют понятия о том, как должны поступать настоящие дворяне.
— Вот оно что! Ты тревожишься о своих друзьях, — воскликнул Шико, подталкивая короля к залу, где им уже накрыли стол, — ты их оплакиваешь, словно мертвых, а когда тебе говорят, что они не умерли, все равно продолжаешь плакать и жаловаться… Вечно ты ноешь, Генрих.
— Вы меня раздражаете, господин Шико.
— Послушай, неужели ты предпочел бы, чтобы каждый из них получил по семь-восемь хороших ударов рапирой в живот? Будь же последовательным!
— Я предпочел бы иметь друзей, на которых можно положиться, — сказал Генрих мрачно.
— О! Клянусь святым чревом! — ответил Шико. — Полагайся на меня, я здесь, сын мой, но только покорми меня. Я хочу фазана и… трюфелей, — добавил он, протягивая свою тарелку.
Генрих и его единственный друг улеглись спать рано. Король вздыхал, потому что сердце его было опустошено. Шико пыхтел, потому что желудок его был переполнен.
Назавтра к малому утреннему туалету короля явились господа де К ел юс, де Шомберг, де Можирон и д’Эпернон. Лакей, как обычно, впустил их в опочивальню Генриха.
Шико еще спал, король всю ночь не сомкнул глаз. Взбешенный, он вскочил с постели и, срывая с лица и рук благоухающие повязки, закричал:
— Вон отсюда! Вон!
Пораженный лакей пояснил молодым людям, что король отпускает их. Они переглянулись, пораженные не менее его.
— Но, государь, — пролепетал Келюс, — мы хотели сказать вашему величеству…
— Что вы уже протрезвели, — завопил Генрих, — не так ли?
Шико открыл глаз.
— Простите, ваше величество, — с достоинством возразил Келюс, — вы ошибаетесь…
— С чего бы это? Я же не пил анжуйского вина!
— А! Понятно, понятно!.. — сказал Келюс с улыбкой. — Хорошо. В таком случае…
— Что в таком случае?
— Соблаговолите остаться с нами наедине, ваше величество, и мы объяснимся.
— Ненавижу пьяниц и изменников!
— Государь! — вскричали хором трое остальных.
— Терпение, господа, — остановил их Келюс. — Его величество плохо выспался, ему снились скверные сны. Одно слово — и настроение нашего высокочтимого государя исправится.
Эта дерзкая попытка подданного оправдать своего короля произвела впечатление на Генриха. Он понял: если у человека хватает смелости произнести подобные слова, значит, за ним нет ничего дурного.
— Говорите, — сказал он, — да покороче.
— Можно и покороче, государь, но это будет трудно.
— Конечно… чтобы ответить на некоторые обвинения, приходится крутиться вокруг да около.
— Нет, государь, мы пойдем прямо, — возразил Келюс и бросил взгляд на Шико и лакея, словно повторяя Генриху свою просьбу о частной аудиенции.
Король подал знак: лакей вышел. Шико открыл второй глаз и сказал:
— Не обращайте на меня внимания, я сплю, как сурок.
И, снова закрыв глаза, он принялся храпеть во всю силу своих легких.
XLV
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ШИКО ПРОСЫПАЕТСЯ
Увидев, что Шико спит столь добросовестно, все перестали обращать на него внимание. К тому же здесь давно уже вошло в привычку относиться к Шико как к предмету меблировки королевской опочивальни.
— Вашему величеству, — сказал К ел юс, склоняясь в поклоне, — известна лишь половина того, что произошло, и, беру на себя смелость заявить, наименее интересная половина. Совершенно верно, и никто из нас не намерен этого отрицать, совершенно верно, что все мы обедали у господина де Бюсси, и должен заметить, в похвалу его повару, что мы чудесно отобедали.
— Там особенно одно вино было, — заметил Шомберг, — австрийское или венгерское, мне оно показалось просто восхитительным.
— О! Мерзкий немец, — прервал король, — он падок на вино, я это всегда подозревал.
— А я в этом был уверен, — подал голос Шико, — я раз двадцать видел его пьяным.
Шомберг оглянулся на шута.
— Не обращай внимания, сын мой, — сказал гасконец, — во сне я всегда разговариваю; можешь справиться у короля.
Шомберг снова повернулся к Генриху.
— По чести, государь, — сказал он, — я не скрываю ни моих привязанностей, ни моих неприязней. Хорошее вино — это хорошо.
— Не будем называть хорошим то, что заставляет нас забыть о своем господине, — сдержанно заметил король.
Шомберг собирался уже возразить, не желая, очевидно, так быстро оставлять такую прекрасную тему, но К ел юс сделал ему знак.
— Ты прав, — спохватился Шомберг, — говори дальше.
— Итак, государь, — продолжал К ел юс, — во время обеда, и особенно перед ним, мы вели очень важный и любопытный разговор, затрагивающий, в частности, интересы вашего величества.
— Вступление у вас весьма длинное, — сказал Генрих, — это скверный признак.
— Черт подери! Ну и болтлив этот Валуа! — воскликнул Шико.
— О! О! Мэтр гасконец, — сказал высокомерно Генрих, — если вы не спите, ступайте вон.
— Клянусь Богом, — сказал Шико, — если я и не сплю, так только потому, что ты мне мешаешь: твой язык трещит, как трещотки в Страстную пятницу.
Келюс, видя, что в королевском покое невозможно говорить серьезно ни о чем, даже о самом серьезном — до того все привыкли здесь к легкомыслию, вздохнул, пожал плечами и, раздосадованный, умолк.
— Государь, — сказал, переминаясь с ноги на ногу, д’Эпернон, — а ведь речь идет об очень важном деле.
— О важном деле? — переспросил Генрих.
— Конечно, если, разумеется, жизнь восьми доблестных дворян кажется вашему величеству достойной размышлений, — заметил Келюс.
— Что ты хочешь этим сказать? — воскликнул король.
— Что я жду, чтобы король соблаговолил выслушать меня, наконец.
— Я слушаю, сын мой, я слушаю, — сказал Генрих, кладя руку на плечо Келюса.
— Я уже говорил вам, государь, что мы вели серьезный разговор, и вот итог нашей беседы: королевская власть ослабла, она под угрозой.
— Кажется, все только и делают, что плетут заговоры против нее! — вскричал Генрих.
— Она похожа, — продолжал Келюс, — на тех странных богов, которые, подобно богам Тиберия и Калигулы, старели, но не умирали, а все шли и шли в свое бессмертие дорогой смертельных немощей. Эти боги могли избавиться от своей непрерывно возрастающей дряхлости, вернуть свою молодость, возродиться лишь в том случае, если какой-нибудь самоотверженный фанатик приносил им себя в жертву. Тогда, обновленные влившейся в них молодой, горячей, здоровой кровью, они снова становились сильными и могущественными. Ваша королевская власть, государь, напоминает этих богов, она может сохранить жизнеспособность только ценой жертвоприношений.
— Золотые слова, — сказал Шико. — Келюс, сын мой, ступай проповедовать на улицах Парижа, и ставлю тельца против яйца, что ты затмишь Линсестра, Кайе, Коттона и даже эту бочку красноречия, которую именуют Горанфло.
Генрих молчал. Было заметно, что в настроении его происходит глубокая перемена: сначала он бросал на миньонов высокомерные взгляды, потом, постепенно осознал их правоту. Он снова стал задумчивым, мрачным, обеспокоенным.
— Продолжайте, — сказал он, — вы же видите, что я вас слушаю, Келюс.
— Государь, — продолжал тот, вы великий король, но кругозор ваш намеренно ограничивают. Дворянство воздвигло перед вами преграды, по ту сторону которых ваш взгляд уже ничего не видит, разве что он видит другие, все растущие преграды, которые, в свою очередь, возводит перед вами народ. Государь, вы храбры и отважны, так ответьте, что делают на войне, коща один батальон встает, как грозная стена, в тридцати шагах перед другим батальоном и движется на него? Трусы оглядываются назад и, видя свободное пространство, бегут, смельчаки пригибают головы и устремляются вперед.
— Что же, пусть будет так. Вперед! — вскричал король. — Клянусь смертью нашего Спасителя! Разве я не первый дворянин в моем королевстве? Известны ли вам, спрашиваю я, более славные битвы, чем битвы моей юности? И знает ли столетие, которое уже приближается к концу, слова более громкие, чем Жарнак и Монконтур? Итак, вперед, господа, и я пойду первым, это мое правило. Бой будет жарким, я полагаю.
— Да, государь, бесспорно, — воскликнули молодые люди, воодушевленные воинственной речью короля. — Вперед!
Шико принял сидячее положение.
— Тише, вы там, — сказал он, — предоставьте оратору возможность продолжать. Давай, Келюс, давай, сын мой. Ты уже сказал много верных и хороших слов, но далеко не все, что можешь; продолжай, мой друг, продолжай.
— Да, Шико, ты прав, как это частенько с тобой случается. Я продолжу и скажу его величеству, что для королевской власти наступила минута, когда ей необходимо принести одну из тех жертв, о коих мы только что говорили. Против всех преград, которые невидимой стеной окружили ваше величество, выступят четверо, уверенные, что вы их поддержите, государь, а потомки прославят.
— О чем ты говоришь, Келюс? — спросил король, и глаза его зажглись радостью, умеряемой тревогой. — Кто эти четверо?
— Я и эти господа, — сказал Келюс с чувством гордости, которое возвышает любого человека, рискующего жизнью ради идеи или страсти, — я и эти господа — мы приносим себя в жертву, государь.
— В жертву? Чему же?
— Вашему спасению.
— От кого?
— От ваших врагов.
— Все это не более чем обычная ссора между молодыми людьми! — воскликнул Генрих.
— О! Это распространенное заблуждение, государь. Привязанность вашего величества к нам столь великодушна, что рядится в одежды заурядности. Но мы ее узнали. Говорите как король, государь, а не как буржуа с улицы Сен-Дени. Не притворяйтесь, будто вы верите, что Можирон ненавидит Антрагэ, что Шомберг мешает Ливаро, что д’Эпернон завидует Бюсси, а Келюс сердит на Рибейрака. Нет, все они молоды, прекрасны и добры. Друзья и враги, все они могли бы любить друг друга, как братья. Нет, не соперничество вкладывает нам в руки шпаги, а вражда Франции с Анжу, вражда между правом народным и правом божественным. Мы как поборники королевской власти выступаем на то ристалище, где уже находятся поборники Лиги, и говорим вам: “Благословите нас, сеньор, одарите улыбкой тех, кто идет за вас на смерть. Ваше благословение, быть может, приведет их к победе, ваша улыбка облегчит им смерть”.
Задыхаясь от слез, Генрих распахнул объятия Келюсу и его друзьям.
Он прижал их всех к своему сердцу. Могла ли эта сцена не волновать, могла ли эта картина не впечатлять?! Мужество соединилось тут с глубокой нежностью, и все это было освящено самоотречением…
Из глубины алькова, подперев рукою щеку, глядел на это Шико, серьезный и опечаленный, и лицо его, обычно холодно-безразличное или искаженное саркастическим смехом, сейчас дышало благородством и говорило не менее, чем лица остальных.
— Ах, мои храбрецы, — проговорил наконец король, — это прекрасные мысли, это благородное дело, и сегодня я горжусь не тем, что царствую во Франции, а тем, что я ваш друг. Но я лучше кого бы то ни было знаю, в чем мои интересы, и поэтому не приму жертвы, которая, суля столь много в случае вашей победы, отдаст меня, если вы потерпите поражение, в руки моих врагов. Чтобы вести войну с Анжу, хватит и Франции, поверьте мне. Я знаю своего брата, Гизов и Лигу, в своей жизни я усмирял и не таких норовистых и горячих коней.
— Но, государь, — воскликнул Можирон, — солдаты так не рассуждают! Они не должны считаться с возможностью неудачи в делах такого рода — делах чести, делах совести, коща человек действует, повинуясь внутреннему убеждению и не задумываясь о том, как его действия будут выглядеть перед судом разума.
— Увы, Можирон, — ответил король, — солдат может действовать вслепую, но полководец — размышляет.
— Так размышляйте, государь, а нам предоставьте действовать, ведь мы всего лишь солдаты, — ответил Шомберг. — К тому же я не знаком с неудачей, мне всегда везет.
— Друг мой, милый друг, — прервал его печально король, — я не могу сказать того же о себе. Правда, тебе всего лишь двадцать лет.
— Государь, — сказал Келюс, — добрые слова вашего величества лишь удвоят наш пыл. Когда мы можем скрестить шпаги с господами де Бюсси, де Ливаро, д’Антрагэ и де Рибейраком?
— Никогда. Я это вам решительно запрещаю. Никогда, вы слышите?
— Простите нас, государь, простите, пожалуйста, — продолжал К ел юс, — но вчера перед обедом у нас состоялась встреча, слово дано, и мы не можем взять его обратно.
— Извините, сударь, — ответил Генрих, — говоря “я хочу” или “я не хочу”, король освобождает от всяких клятв и слов, ибо король всемогущ! Сообщите этим господам, что я пригрозил обрушить на вас всю силу своего королевского гнева, ежели вы осмелитесь с ними драться, и, чтобы у вас не было сомнений в моей решимости, я клянусь отправить вас в изгнание, коли вы…
— Остановитесь, государь, — сказал Келюс, — ибо если вы можете освободить нас от нашего слова, вас от вашего может освободить лишь Господь. Поэтому не клянитесь. Если из-за такого дела мы навлекли на себя ваш гнев и этот гнев выразится в нашем изгнании, мы отправимся в изгнание с радостью, ведь, покинув земли вашего величества, мы сможем сдержать свое слово и встретиться с нашими противниками на чужой земле.
— Если эти господа приблизятся к вам даже на расстояние выстрела из аркебузы, — вскричал Генрих, — я прикажу бросить их в Бастилию, всех четверых!
— Государь, — отвечал Келюс, — в тот день, когда ваше величество сделает это, мы отправимся босиком и с веревкой на шее к коменданту Бастилии мэтру Лорану Тестю, чтобы он заключил нас в темницу вместе с этими дворянами.
— Я прикажу отрубить им головы, черт возьми! В конце концов я король!
— Если с нашими врагами это случится, государь, мы перережем себе горло у подножия их эшафота.
Генрих долго молчал, потом вскинул свои черные глаза и сказал:
— В добрый час. Вот оно, славное и храброе дворянство!..Что ж, если Господь не благословит дело, которое защищают такие люди!..
— Не безбожничай… не богохульствуй, — торжественно провозгласил Шико, встав с постели и направляясь к королю. — Боже мой! Какие благородные сердца! Ну, сделай же то, чего они хотят; ты слышишь, мой господин? Давай назначь этим молодым людям день для поединка: займись своим делом, вместо того чтобы поучать Всевышнего, в чем состоит его долг.
— Ах, Боже мой! Боже мой! — прошептал Генрих.
— Государь, мы молим вас об этом, — сказали четверо молодых людей, склонив голову и опускаясь на колени.
— Хорошо, будь по-вашему. И верно: Бог справедлив, он должен даровать вам победу. Впрочем, мы и сами сумеем подготовить ее, разумно и по-христиански. Дорогие друзья, вспомните, что Жарнак всегда обязательно исповедовался и причащался перед поединком. Ла-Шатеньерэ великолепно владел шпагой, но он перед поединком искал забвения в пирах, празднествах, отправлялся к женщинам. Какой омерзительный грех! Короче, он искушал Бога, который, быть может, радовался его молодости, красоте, силе и хотел спасти ему жизнь. И вот Жарнак убил противника. Послушайте, мы исповедуемся и причастимся. Если бы у меня было время, я послал бы ваши шпаги в Рим, чтобы их благословил его святейшество. Но у нас есть рака святой Женевьевы, она стоит самых лучших реликвий. Попостимся вместе, умертвим свою плоть, отпразднуем великий день Святых даров, а наутро…
— О! Государь, спасибо, спасибо! — вскричали молодые люди. — Значит, через неделю.
И они бросились в объятия короля, который еще раз прижал их к сердцу и, проливая слезы, удалился в свою молельню.
— Условия нашего поединка уже составлены, — сказал Келюс, — остается только вписать в них день и час. Пиши, Можирон, на этом столе… и пером короля, пиши: “В день после праздника Святых даров”.
— Готово, — сказал Можирон. — Кто будет герольдом и отнесет это письмо?
— Я, если вы пожелаете, — сказал Шико, подходя. — Только я хочу дать вам совет, малыши. Его величество говорит о посте, умерщвлении плоти, раке святой Женевьевы… Все это великолепно во исполнение обета — после победы, но я считаю, что до победы вам будет полезнее хорошая еда, доброе вино, восьмичасовой сон в полном одиночестве, в дневное или ночное время. Ничто не сообщает руке такой гибкости и силы, как трехчасовое пребывание за столом, коли не напиваешься допьяна, разумеется. В том же, что касается любви, я, в общем, поддерживаю короля. Слишком уж она разнеживает, и будет лучше, если вы от нее воздержитесь.
— Браво, Шико! — дружно воскликнули молодые люди.
— Прощайте, мои львята, — ответил гасконец, — я отправляюсь во дворец Бюсси.
Он сделал три шага и вернулся назад.
— Кстати, — сказал он, — не покидайте короля в прекрасный день праздника Святых даров. Не уезжайте за город; оставайтесь в Лувре, как горстка паладинов. Договорились? Да? Тогда я ухожу выполнять ваше поручение.
И Шико раздвинул циркуль своих длиннющих ног и исчез с письмом в руке.
Назад: XXX О ТОМ, КАК ГЕРЦОГ АНЖУЙСКИЙ ОТПРАВИЛСЯ В МЕРИДОРСКИЙ ЗАМОК, ДАБЫ ВЫРАЗИТЬ ГРАФИНЕ ДЕ МОНСОРО СВОИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПО ПОВОДУ КОНЧИНЫ ЕЕ СУПРУГА, И О ТОМ, КАК ЭТОТ ПОСЛЕДНИЙ ВЫШЕЛ ЕМУ НАВСТРЕЧУ
Дальше: XLVI ПРАЗДНИК СВЯТЫХ ДАРОВ

