Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 23. Графиня де Шарни. Часть. 4,5,6
Назад: Часть шестая
Дальше: XII ДНЕМ 2 СЕНТЯБРЯ
VI
КРОВАВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Революция 1789 года, то есть революция Неккеров, Сиейесов и Байи, завершилась в 1790 году; революция Барнавов, Мирабо и Лафайетов окончилась в 1792 году; великая революция, кровавая революция, революция Дантонов, Маратов и Робеспьеров только начиналась.
Ставя рядом имена трех последних деятелей, мы вовсе не желаем их смешивать и давать им единую оценку; скорее наоборот: по нашему мнению, все они яркие фигуры, и каждый из них олицетворяет собой один из трех этапов этой революции.
Дантон явился воплощением 1792 года, Марат — 1793-го, Робеспьер — 1794-го.
Однако события не ждут; сначала мы проследим за этими событиями, затем рассмотрим средства, при помощи которых Национальное собрание и Коммуна пытаются их предупредить или, наоборот, ускорить.
Впрочем, мы почти полностью ушли в историю: почти всех героев нашей книги за редкими исключениями уже поглотила революционная буря.
Что сталось с тремя братьями Шарни: Жоржем, Изидором и Оливье? Убиты. Где королева и Андре? В заточении. Что с Лафайетом? Бежал.
Семнадцатого августа Лафайет в обращении к армии призвал солдат и офицеров идти войной на Париж, восстановить конституционный строй, уничтожить содеянное 10 августа и реставрировать монархию.
Лафайет, человек честный, потерял голову, как, впрочем, и многие другие; то, что он хотел сделать, означало открыть дорогу в Париж пруссакам и австрийцам.
Армия инстинктивно отвергла его, как восемь месяцев спустя оттолкнула и Дюмурье.
История непременно соединила бы имена этих двух личностей — мы бы даже сказали: сплела воедино, — если бы Лафайету, которого ненавидела королева, не посчастливилось попасть в плен к австрийцам, после чего он был отправлен в Ольмюц; плен заставил забыть о его дезертирстве.
Восемнадцатого Лафайет пересек границу.
Двадцать первого враги Франции, те самые союзники монархии, против которых совершили 10 августа и против которых еще совершат 2 сентября; те самые австрийцы, которых Мария Антуанетта призывала на помощь в ту ясную ночь, когда лунный свет сквозь окна спальни заливал ее постель, — вот эти-то австрийцы теперь и осадили Лонгви.
Через двадцать четыре часа непрерывного обстрела Лонгви сдался.
Накануне этой капитуляции на другом конце Франции начались беспорядки в Вандее: поводом к восстанию послужило введение присяги для священников.
Чтобы противостоять этим событиям, Собрание назначило Дюмурье командующим Восточной армией, а также постановило арестовать Лафайета.
Оно решило, что, как только город Лонгви будет возвращен под власть французской нации, все его дома, за исключением принадлежавших нации, будут разрушены и сметены с лица земли; Собрание издало закон, по которому с французской территории изгонялись все не приведенные к присяге священники; оно разрешало обыски в жилищах граждан; оно конфисковало и пустило в продажу имущество эмигрантов.
Что же в это время делала Коммуна?
Мы уже сказали, что ее оракулом был Марат.
Коммуна гильотинировала на площади Карусель. Ей давали одну голову в день; этого было мало; однако в опубликованной в конце августа брошюре члены трибунала объясняют, что вынуждены проделывать огромную работу для достижения этого успеха, как бы ни был он неудовлетворителен. Брошюра даже подписана; ее автор — Фукье-Тенвиль!
Вот о чем мечтает Коммуна; в свое время читатели увидят, как эта мечта воплотилась в жизнь.
Двадцать третьего вечером она излагает свои требования.
Сопровождаемая всяким сбродом, подобранным в сточных канавах предместий и рынков, депутация Коммуны является около полуночи в Национальное собрание.
Чего она требует? Чтобы из Орлеана пленники были привезены в Париж и казнены.
Но над орлеанскими пленниками еще не было суда.
Будьте покойны: это формальность, и Коммуна обойдет ее без особого труда.
И потом, должна же она отметить свой праздник — 10 августа; он-то ей и придет на помощь.
Сержан, ее художник, становится распорядителем праздника; он уже организовал процессию "Отечество в опасности!", и читатели знают, насколько постановка удалась.
На сей раз Сержан превзойдет самого себя.
Ведь необходимо наполнить скорбью, жаждой мести, смертельной болью душу тех, кто потерял 10 августа родных и близких.
Итак, напротив гильотины, действующей на площади Карусель, он устанавливает в центре большого бассейна Тюильри гигантскую пирамиду, покрытую черной саржей; с каждой из четырех сторон — напоминания о массовых убийствах, которые ставят в вину роялистам: бойня в Нанси, бойня в Ниме, бойня в Монтобане, бойня на Марсовом поле.
Гильотина говорила: "Я убиваю!" — пирамида отвечала: "Убивай!"
Вечером в воскресенье 27 августа — пять дней спустя после возглавленного духовенством восстания в Вандее, четыре дня спустя после капитуляции Лонгви, захваченного генералом Клерфе от имени короля Людовика XVI, — покаянная процессия двинулась в путь в темноте, сообщающей всему таинственность и величавость.
Впереди сквозь дым, клубившийся вдоль всего пути следования процессии, шли вдовы и сироты 10 августа, одетые в белые платья, перехваченные по талии черными поясами; они несли в ковчеге, сработанном наподобие библейского, ту самую петицию, что была продиктована г-жой Ролан, записана на алтаре отечества мадемуазель Керальо, а ее окровавленные страницы были тщательно собраны на Марсовом поле, — петицию, еще с 17 июля 1791 года требовавшую установления республики.
За женщинами следовали гигантские черные саркофаги, олицетворявшие собой повозки, нагруженные вечером 10 августа во дворах Тюильри и уезжавшие в предместья, жалобно скрипя под тяжестью трупов; за саркофагами несли знамена траура и мести с призывами ответить смертью за смерть, а за ними — огромную статую Закона с внушительных размеров мечом. За статуей следовали судьи трибуналов во главе с Революционным трибуналом 10 августа, тем самым, который извинялся, что рубит всего одну голову в день.
Потом выступала Коммуна, кровавая мать этого кровавого трибунала: ее члены несли статую Свободы, такую же огромную, как статуя Закона; наконец, замыкали шествие депутаты Собрания в своих гражданских венках, которые, возможно, утешают мертвых, но отнюдь не удовлетворяют живых.
Вся эта процессия величаво двигалась под мрачные песни Шенье, под суровую музыку Госсека, выступая уверенно, под стать музыке.
Часть ночи с 27 на 28 августа ушла на эту искупительную церемонию поминовения погибших, во время которой толпа грозила кулаками пустовавшему Тюильрийскому дворцу и тюрьмам — надежным крепостям, которые получили король и роялисты в обмен на дворцы и замки.
Но вот, наконец, погашены последние лампионы и факелы: народ разошелся по домам.
Статуи Закона и Свободы остались в одиночестве, охраняя огромный саркофаг; но, так как об их собственной охране никто не позаботился (то ли по неосмотрительности, то ли из безразличия), ночью обе статуи, обе несчастные богини, были раздеты и наутро оказались даже непохожи на женщин.
На следующий день это зрелище заставило народ взвыть от бешенства; он обвинил в кощунстве роялистов, бросился в Собрание, потребовал отмщения; толпа подхватила статуи, одела их и в отместку перенесла на площадь Людовика XV.
Позже за ними последовал эшафот, и 21 января народ был отомщен за тяжкое оскорбление, нанесенное ему 28 августа.
В тот же день, 28 августа, Собрание приняло закон о домашних обысках.
В народе стали ходить слухи о том, что прусская и австрийская армии соединились и что Лонгви взят генералом Клерфе.
Таким образом, враг, вызванный королем, дворянством и духовенством, шел на Париж, и если предположить, что его ничто не остановит, то через шесть переходов он будет в столице.
Что же стало бы с Парижем, бурлившим подобно кратеру, потрясения которого вот уже три года держали в напряжении весь мир? А то, о чем говорилось в письме Буйе — дерзкой шутке, вызвавшей такое буйное веселье, но могла стать действительностью: от Парижа не останется камня на камне!
Более того, говорили о всеобщем судилище как о деле решенном — судилище страшном, беспощадном, — оно разрушит Париж и приведет к гибели всех его жителей. Каким образом и кем оно будет осуществлено? Об этом рассказывают сочинения той эпохи; кровавая рука Коммуны угадывается за этой легендой, которая, вместо того чтобы говорить о прошлом, предсказывает будущее.
Но отчего, впрочем, было не поверить этой легенде? Вот о чем стало известно из письма, найденного в Тюильри 10 августа; мы прочли его в архивах, где оно хранится до сих пор:
"Трибуналы должны прибывать вслед за войсками; эмигранты — члены парламентов — будут производить по мере продвижения лагеря короля Прусского следствие по делу якобинцев и готовить им виселицу".
Это означало, что, когда прусские и австрийские войска прибудут в Париж, дознание уже будет проведено, приговор — вынесен и останется лишь привести его в исполнение.
Словно подтверждая то, о чем говорится в письме, вот что сообщалось в официальном военном бюллетене:
"Австрийская кавалерия в окрестностях Саарлуи захватила в плен мэров-патриотов и известных республиканцев.
Уланы отрезали муниципальным служащим уши и прибили им ко лбу".
Если подобные злодеяния творились в безобидной провинции, то чего же ждать от иноземных войск в революционном Париже?..
Это отнюдь не было тайной.
Вот какая новость облетела город, звучала на всех перекрестках от центра до окраин.
Для королей-союзников будет возведен огромный трон перед грудой руин, что прежде была Парижем; всех взятых в плен жителей волоком притащат и бросят к подножию этого трона; там, как в день Страшного суда, всех разделят на хороших и плохих; хорошие, то есть роялисты, дворяне, духовные лица, отойдут вправо, и с Францией им позволят сделать все, что они ни пожелают; плохие, то есть революционеры, отойдут влево, где их будет ждать гильотина — изобретенная революцией машина, которая революцию и погубит.
Революция, то есть Франция, погибнет, и погибнет не только она — это бы еще куда ни шло, — ведь народы для того и созданы, чтобы служить жертвой идеям; итак, погибнет не только Франция, но и ее мысль!
Почему Франция первой произнесла слово "свобода"? Она полагала, что провозглашает нечто святое, что несет свет человечеству, что вдыхает жизнь в души людей; она сказала: "Свободу Франции! Свободу Европе! Свободу всему миру!" Она полагала, что совершает великое благо, неся земному шару освобождение, но, кажется, ошиблась! Господь обвиняет ее! Провидение против нее! Считая себя невинной и возвышенной, она оказалась в действительности виновной и бесчестной. Она совершила преступление, веря в то, что совершает великое дело! И вот ее судят, приговаривают к смерти, обезглавливают, предают всеобщему поруганию, и мир, ради спасения которого она умирает, радуется ее смерти!
Так Иисус Христос, распятый ради спасения мира, умер под его насмешки и оскорбления!
Но, может быть, этот несчастный народ перед лицом неприятеля способен найти хоть какую-нибудь опору в себе самом? Может быть, его защитят те, кого он обожал, кого он обогащал, кому он платил?
Нет.
Его король вступает в заговор с его врагами и из Тампля, куда он заключен, продолжает поддерживать переписку с пруссаками и австрийцами; дворянство тоже идет против своего народа, объединившись под знаменами принцев; его духовенство сеет смуту среди крестьян.
Из глубины своих темниц заключенные-роялисты рукоплещут поражениям Франции; когда пруссаки захватили Лонгви, в Тампле и Аббатстве это вызвало крик радости.
И вот Дантон, человек крайних решений, ворвался в Собрание, рыча от гнева.
Министр юстиции полагает, что правосудие бессильно, и потому пришел требовать, чтобы его облекли не только властью, но и силой: опираясь на силу, правосудие уверенно пойдет вперед.
Он поднимается на трибуну, встряхивает львиной гривой, простирает мощную руку, разбившую 10 августа ворота Тюильри.
— Необходимо заставить содрогнуться всю нацию, чтобы деспоты отступили, — говорит он. — До сих пор мы лишь играли в войну; теперь об этой жалкой игре не может быть и речи. Надо, чтобы весь народ набросился, устремился на врагов и уничтожил их одним ударом; в то же время надо обуздать всех заговорщиков и не дать им наносить вред!
И Дантон потребовал, чтобы народ поднялся как один человек; он потребовал разрешения на обыски жилищ, а также на обыски граждан в ночное время; он потребовал смертной казни для любого, кто будет препятствовать действиям временного правительства.
Дантон получил все, чего он требовал.
Попроси он больше, он и получил бы больше.
"Никогда, — говорит Мишле, — народ не был так близок к гибели. Когда Голландия, видя у своих ворот Людовика XIV, не нашла ничего лучшего, как затопить себя самое, она и то подвергалась меньшей опасности, ибо на ее стороне была Европа. Когда афиняне увидели трон Ксеркса на Саламинской скале, они поняли, что потеряли землю, и бросились в море, но и тогда, имея родиной одну воду, они были в меньшей опасности: у них был мощный флот, прекрасно управляемый рукою Фемистокла, и они были счастливее французов, потому что их никто не предавал изнутри".
Франция была дезорганизована, разобщена, предана, продана и отдана на поругание! Над Францией, словно над Ифигенией, был занесен нож Калхаса. Окружившие страну монархи ждали лишь ее смерти, чтобы подул в их паруса ветер деспотизма; она умоляюще тянула руки к богам, но те оставались глухи!
Наконец когда она почувствовала прикосновение холодной руки смерти, она сжалась, страшным напряжением собрала силы и, подобно вулкану жизни, выбросила из своих недр пламя, которое в течение полувека освещало весь мир.
Правда, на солнце этом оказалось кровавое пятно.
Речь идет о кровавом пятне 2 сентября! Мы еще увидим, кто пролил эту кровь и есть ли в том вина Франции; но прежде, дабы завершить эту главу, позаимствуем еще две страницы из Мишле.
Рядом с этим гигантом мы чувствуем свое бессилие и, как Дантон, призываем на помощь силу.
Итак, слушайте!
"Париж походил на крепость; можно было подумать, что находишься в Лилле или в Страсбуре. Повсюду — запреты, часовые, военные приготовления, надо признать преждевременные; враг находился тогда на расстоянии пятидесяти — шестидесяти льё. Что было гораздо серьезнее, что было по-настоящему трогательно, так это глубокое, достойное восхищения чувство солидарности, проявлявшееся повсюду; каждый обращался сразу ко всем согражданам, говорил, просил от имени всей родины; каждый становился вербовщиком, ходил от дома к дому, предлагал тем, что могли стать рекрутами, оружие, форму — все, что у него было; все произносили речи, проповедовали, разглагольствовали, распевали патриотические песни. Кто не сочинял в эти дни? Кто не печатался? Кто не писал воззваний? Кто не был участником в этом грандиозном спектакле? Наивнейшие сцены, в которых актерами были все до единого, разыгрывались ежедневно повсюду: на площадях, на вербовочных помостах, на трибунах, где записывались добровольцы; со всех сторон доносились песни, крики, слезы воодушевления или расставания; а над всеми этими голосами поднимался голос, отдававшийся в каждом сердце, голос беззвучный, но от этого еще более проникновенный… голос самой Франции, красноречивый во всех своих символах, патетичный в самом трагическом из них — святом и страшном знамени отечества в опасности. Вывешенное в окнах ратуши, огромное, развевавшееся на ветру, оно будто подавало знак народным легионам как можно скорее пройти от Пиренеев к Шельде, от Сены к Рейну.
Дабы по-настоящему познать, что настало время жертв, стоило бы заглянуть в каждую хижину, в каждое жилье и собственными глазами увидеть страдания жен, расстающихся с мужьями, слезы матерей, для которых эти новые роды были в сто раз болезненнее, чем те муки, какие они испытывали, когда это дитя появлялось из их окровавленной утробы; надо было видеть старую женщину, с сухими глазами и разрывающимся сердцем, спешно собиравшую сыну в дорогу убогую одежду, присовокупляя к ней жалкие гроши, которые она ценой жестокой экономии, лишая себя последнего ради сына, сберегла к этому дню невыносимых страданий.
Отдать своих детей этой войне, не обещавшей ничего хорошего, принести их в жертву крайнему и отчаянному положению было выше сил многих матерей: они или не выдерживали этого испытания или, повинуясь вполне естественному движению души, впадали в ярость: они ничего не жалели, ничего не боялись; никакой страх не мог повлиять на состояние их духа. Да и какой страх может быть у того, кто желает смерти?
Нам рассказывали, как однажды — произошло это, очевидно, в августе или в сентябре — толпа разъяренных женщин встретила на улице Дантона; они набросились на него с оскорблениями (стали бы они так хулить саму войну?), они упрекали его за революцию, за всю кровь, которая должна пролиться, и за смерть своих сыновей; они проклинали его, прося Господа, чтобы его гнев пал на голову трибуна. Однако Дантона это ничуть не удивило, и, хотя он почувствовал, что в него вот-вот со всех сторон вцепятся когти, он резко обернулся, взглянул на этих женщин и взял их жалостью. Дантон был человеком очень сердечным; он взобрался на каменную тумбу и, чтобы их утешить, начал с тех же оскорблений, которыми они осыпали его: первые его слова были грубы, шутливы, циничны. И вот уже его слушательницы обескуражены; его гнев — настоящий или наигранный — привел их в замешательство. Это необыкновенный оратор, говоривший инстинктивно и в то же время расчетливо, имел успех у народа благодаря своему мощному, чувственному темпераменту. Дантон был словно создан для плотской любви, в которой главенствовали тело и кровь; он был прежде всего и раньше всего самцом; много в нем было от льва и от дога, так же как и от быка. Его некрасивое лицо вызывало испуг; когда он был в гневе, в этом лице появлялось даже нечто возвышенное, сообщая его резким, порою разящим словам какую-то первобытную побудительную энергию. Толпа, которая любит силу, чувствовала перед собой то, что вызывает страх и вместе с тем симпатию — необузданную мощь. В то же время под маской грубого разгневанного человека чувствовалось доброе сердце, и слушатели в конце концов начинали догадываться; что этот страшный человек, пересыпавший свою речь угрозами, был, в сущности, славным малым, И вот столпившиеся вокруг него женщины тоже начали смутно все это чувствовать и потому не только позволили ему говорить, но подпали под его влияние и присмирели; он повел их туда, куда пожелал сам; он с откровенной грубостью им объяснил, зачем нужна женщина, зачем нужна любовь, зачем появляется новое поколение; он сказал, что детей рожают не для себя, а для отечества… Дойдя до этих слов, он как бы вырос и, ни к кому не обращаясь, заговорил (так казалось) словно только для себя. Вся его душа выплеснулась с этими словами из груди, с такой грубой нежностью он признавался в любви к Франции; при этом по его некрасивому, изрытому оспой лицу, походившему на застывшую лаву Везувия или Этны, покатились крупные капли: то были слезы. Женщины не могли этого вынести: они стали оплакивать Францию, вместо того чтобы плакать над судьбой своих сыновей, и с рыданиями бросились бежать, закрывая лица фартуками".
О великий историк по имени Мишле, где ты теперь?
В Нерви!
О великий поэт по имени Гюго, где ты теперь?
На Джерси!
VII
НАКАНУНЕ СОБЫТИЙ 2 СЕНТЯБРЯ
— Когда отечество в опасности, — сказал Дантон 28 августа в Национальном собрании, — все принадлежит ему.
Двадцать девятого в четыре часа пополудни прозвучал сигнал к общему сбору.
Все уже знали, что это означало: должны были пройти обыски.
Как по мановению волшебной палочки с первыми же раскатами барабанной дроби Париж изменился: из многолюдного стал пустынным.
Закрылись лавочки; улицы оказались оцеплены отрядами по шестьдесят человек.
Городские заставы охранялись, река охранялась.
В час ночи начались повальные обыски.
Комиссары секций стучали в наружную дверь дома, приказывая именем закона открыть — им открывали.
Затем они стучали в каждую квартиру, приказывая именем того же закона отворить — и перед ним отворялись все двери. В пустые жилища они врывались силой.
Было захвачено две тысячи ружей; было арестовано три тысячи человек.
Нужен был террор — он начался.
Как следствие этой меры возникло то, о чем заранее не подумали или же, напротив, на что и делалась ставка.
Эти обыски отворили перед бедными двери богатых: вооруженные санкюлоты, следовавшие повсюду за представителями власти с изумлением разглядывали затянутые шелком и раззолоченные комнаты великолепных особняков, в которых еще оставались их владельцы или которые до времени опустели. Это отнюдь не порождало жажду грабежа, но еще больше разжигало ненависть.
Грабили в те времена редко. Бомарше, находившийся в те дни в заточении, рассказывает, что в его восхитительных садах на бульваре Сент-Антуан какая-то женщина сорвала розу, и за это ее едва не утопили.
Обращаем внимание читателей на то, что именно в это время Коммуна издала декрет о том, что спекулирующие на денежном курсе будут приговариваться к смертной казни.
Итак, Коммуна подменяла собой Собрание; она приговаривала к смертной казни. Незадолго до этого она наделила Шометта правом открывать двери тюрем и выпускать узников, то есть присвоила себе право помилования. Наконец, она приказала, чтобы у входа в каждую тюрьму вывешивался список узников; это был призыв к ненависти и отмщению: каждый мог сам охранять дверь камеры, где сидел его заклятый враг. Собрание понимало, в какую бездну его толкают. Кто-то вопреки воле членов Собрания заставлял их обагрить свои руки кровью.
И кто же? Коммуна, его враг!
Нужен был лишь повод, чтобы вспыхнула страшная война между обеими силами.
И такой случай представился, когда Коммуна самовольно присвоила себе еще одно право, принадлежавшее Собранию.
Двадцать девятого августа, в день обысков, Коммуна за газетную статью призвала к ответу Жире-Дюпре, одного из самых молодых и потому самых дерзких жирондистов.
Жире-Дюпре укрылся в военном министерстве, не успев спрятаться в Собрании.
Югенен, председатель Коммуны, приказал окружить министерство, чтобы вырвать оттуда жирондистского журналиста силой.
Жиронда тогда еще представляла в Собрании большинство; оскорбленная в лице одного из своих членов, Жиронда возмутилась и в свою очередь потребовала к ответу Югенена.
Однако председатель Югенен оставил вызов Собрания без ответа.
Тридцатого Собрание приняло декрет о роспуске парижского муниципалитета.
Одно обстоятельство, доказывающее, как преследовались в те времена кражи, весьма способствовало принятию Собранием этого декрета.
Один из членов Коммуны (или же назвавшийся таковым) приказал отпереть Королевскую кладовую и взял оттуда небольшую серебряную пушку — дар города Людовику XIV, когда тот был еще мальчиком.
Камбон, назначенный хранителем национального имущества, узнав об этой краже, приказал вызвать обвиняемого в Собрание; тот не стал ни отпираться, ни оправдываться и заявил: этот дорогой предмет могут украсть и потому он подумал, что у него дома он будет в большей безопасности, чем где бы то ни было.
Такая тирания Коммуны очень всех удручала и казалась многим невыносимой. Луве, человек смелый и решительный, был председателем секции улицы Менял; от имени своей секции он заявил, что Генеральный совет Коммуны повинен в узурпации власти.
Чувствуя поддержку, Собрание постановило, что председатель Коммуны, тот самый Югенен, что не пожелал явиться в Собрание по доброй воле, будет приведен силой, и что в двадцать четыре часа секции должны избрать новую Коммуну.
Декрет был принят 30 августа в пять часов вечера.
Будем считать часы, потому что с это времени мы приближаемся к бойне 2 сентября и каждая минута — это еще один шаг к кровавому божеству, с заломленными руками, разметавшимися волосами и безумным взглядом, и богу, имя которому — Террор.
Помимо всего прочего, Собрание, побаиваясь своего грозного врага, объявляло, распуская Коммуну, что она имеет немалые заслуги перед отечеством, что, строго говоря, было не весьма последовательно.
"Omandum, tollendum!" — сказал Цицерон, имея в виду Октавиана.
Коммуна поступила точно так же, как Октавиан. Она позволила себя увенчать, но не позволила себя изгнать.
Два часа спустя после принятия декрета секретарь Коммуны Тальен, мелкий писец, на каждом углу называвший себя человеком Дантона, выступил в секции Терм с предложением двинуться против секции Менял.
Ну уж на сей раз это была гражданская война: не народ шел на короля, не буржуа выступали против аристократов, не хижины — против дворцов, не лачуги — против замков, а секция шла войной на другую секцию, пики скрещивались с пиками, граждане убивали граждан.
В это время подали голоса Марат и Робеспьер: последний выступил как член Коммуны, первый — от себя лично.
Марат потребовал устроить резню в Национальном собрании; это было неудивительно: все уже привыкли к его предложениям.
Но вот Робеспьер, осторожный двуличный Робеспьер, автор туманных многословных доносов, потребовал взяться за оружие и не только защитить себя, но и перейти в наступление.
Должно быть, Робеспьер чувствовал за Коммуной большую силу, если осмелился высказаться таким образом!
Коммуна и в самом деле была сильна, потому что в ту же ночь ее секретарь Тальен отправляется в Собрание в сопровождении вооруженных пиками трех тысяч человек.
— Коммуна, и только Коммуна, — говорит он, — подняла членов Собрания до уровня представителей свободного народа; Коммуна настояла на принятии декрета против священников-смутьянов и арестовала этих людей, на которых никто не смел поднять руку; Коммуна, — сказал он в заключение, — могла бы в несколько дней очистить от них родину свободы!
Таким образом, в ночь с 30 на 31 августа перед Собранием, которое только что распустило Коммуну, сама она первая заговорила о бойне.
Кто же первым произнес это слово? Кто бросил в зал, если можно так выразиться, пока еще черновик красной, кровавой программы?
Как видели читатели, этим человеком оказался Тальен, тот самый, который совершит переворот 9 термидора.
Собрание — надобно отдать ему должное — вскипело от возмущения.
Манюэль, прокурор Коммуны, понял, что они зашли слишком далеко; он приказал арестовать Тальена и потребовал, чтобы Югенен принес публичные извинения членам Собрания.
Однако когда Манюэль арестовывал Тальена и требовал от Югенена извинений, он отлично знал, что вскоре должно было произойти; вот что он сделал, несчастный педант, ограниченный ум, но честное сердце.
В Аббатстве находился его личный враг Бомарше.
Бомарше, большой шутник, отчаянно высмеял Манюэля, и вот Манюэлю взбрело в голову, что, если Бомарше постигнет участь других узников, его убийство может быть приписано его, Манюэля, мести из самолюбия. Он побежал в Аббатство и вызвал Бомарше. Тот при виде его хотел было извиниться и объясниться со своей литературной жертвой.
— Речь сейчас не о литературе, не о журналистике, не о критике. Дверь открыта; бегите, если не хотите, чтобы завтра вас прирезали!
Автор "Фигаро" не заставил просить себя дважды: он проскользнул в приотворенную дверь и скрылся.
Представьте себе, что он освистал бы жалкого актеришку Колло д’Эрбуа, вместо того, чтобы высмеивать писателя Манюэля; Бомарше был бы мертв!
Наступило 31 августа, этот великий день, который должен был рассудить Собрание и Коммуну — иными словами, модерантизм и террор.
Коммуна решила остаться любой ценой.
Собрание подало в отставку в пользу нового Собрания.
Естественно, что победа должна была достаться Коммуне, тем более что ее поддерживали массы.
Народ, сам не зная, куда ему идти, стремился пойти хоть куда-нибудь. Его подтолкнули на выступление 20 июня, подтолкнули еще дальше 10 августа, и теперь он ощущал смутную жажду крови и разрушения.
Надобно отметить, что его чрезвычайно взбудоражил Марат, с одной стороны, а Эбер — с другой! Не было никого, включая Робеспьера, мечтавшего вновь завоевать сильно пошатнувшуюся популярность (вся Франция жаждала войны — Робеспьер призывал к миру), — итак, не было никого, включая Робеспьера, кто не стал бы сплетником; однако измышления Робеспьера по нелепости не имели себе равных.
Он, например, заявил, что некая сильная партия предлагает трон герцогу Брауншвейгскому.
Какие же три сильные партии в этот момент вели борьбу? Собрание, Коммуна, якобинцы, да и то Коммуна и якобинцы могли бы в случае необходимости объединиться.
Итак, речь не могла идти ни о Коммуне, ни о якобинцах: Робеспьер был членом и Якобинского клуба, и муниципалитета; не мог же он обвинять самого себя!
Значит, под этой сильной партией он подразумевал Жиронду!
Как мы уже сказали, Робеспьер оставил позади самых вздорных сплетников: что могло быть, в самом деле, несуразнее обвинения в том, что Жиронда, объявившая войну Пруссии и Австрии, предлагает трон вражескому генералу?
И кого лично он в этом обвинял? Таких людей, как Верньо, Ролан, Клавьер, Серван, Жансонне, Гюаде, Барбару — то есть самых горячих патриотов и честнейших французов!
Однако бывают моменты, когда человек вроде Робеспьера говорит все, что взбредет ему на ум, и самое страшное — бывают моменты, когда народ верит всему!
Итак, наступило 31 августа.
Если бы врач в этот день держал руку на пульсе Франции, он почувствовал бы, как биение его учащается с каждой минутой.
Тридцатого в пять часов вечера Собрание, как мы уже сказали, распустило Коммуну; декрет гласил, что в течение суток секции должны избрать новый генеральный совет.
Тридцать первого в пять часов вечера декрет должен быть приведен в исполнение.
Однако вопли Марата, угрозы Эбера, клевета Робеспьера придали Коммуне Парижа такой вес, что секции не посмели проводить голосование. Они объяснили свое неповиновение тем, что декрет не был им передан официальным порядком.
К полудню 31 августа Собрание убедилось в том, что принятый им накануне декрет не исполняется и не будет исполнен. Следовало бы прибегнуть к силе, но кто знает, будет ли сила на стороне Собрания?
Коммуна имела влияние на Сантера через его шурина Паниса. Тот, как помнят читатели, был фанатичным поклонником Робеспьера и предложил Ребекки и Барбару назначить диктатора, дав понять, что диктатором должен стать Неподкупный; Сантер олицетворял собой предместья, а предместья обладали неотразимой силой океана.
Предместья взломали ворота Тюильри, они могут разнести и двери Собрания.
Кроме того, Собрание опасалось, что если оно вооружится против Коммуны, то его не только покинут крайние патриоты, жаждущие революцию любой ценой, но что еще хуже — его поддержат вопреки его собственному желанию умеренные роялисты.
И тогда оно окончательно погибнет!
К шести часам вечера среди его членов поползли слухи о том, что вокруг Аббатства собирается толпа недовольных.
Только что был оправдан некий г-н де Монморен; в народе решили, что речь шла о министре, подписавшем паспорта, с которыми Людовик XVI пытался бежать; тогда в тюрьму устремился возмущенный народ, требуя смерти предателю. С невероятным трудом удалось разъяснить толпе ее ошибку: всю ночь Париж бурлил.
Чувствовалось, что на следующий день самое незначительное происшествие может вследствие этого всеобщего возбуждения разрастись до колоссальных размеров.
Такое происшествие — мы попытаемся рассказать о нем в подробностях, потому что оно имеет отношение к одному из героев нашей истории, которого мы давно уже потеряли из виду, — зрело в тюрьме Шатле.
VIII
ГЛАВА, В КОТОРОЙ МЫ ЕЩЕ РАЗ ВСТРЕЧАЕМСЯ С ГОСПОДИНОМ ДЕ БОСИРОМ
После событий 10 августа был создан специальный трибунал для рассмотрения дел о кражах, совершенных в Тюильрийском дворце. Народ сам, как рассказывает Пельтье, расстрелял на месте двести или триста человек, схваченных с поличным; однако, помимо них, существовало еще столько же воров, которым, как нетрудно догадаться, удалось спрятать украденное.
В числе этих благородных предпринимателей был и наш старый знакомый, г-н де Босир, бывший унтер-офицер его величества.
Те из наших читателей, кто помнит прошлые проделки любовника мадемуазель Олива, отца юного Туссена, не удивятся, увидев его среди тех, кто должен дать отчет не нации, а трибуналу о том, что они позаимствовали из Тюильрийского дворца.
Господин де Босир в самом деле вошел в Тюильри вслед за другими; он был человеком более чем здравомыслящим, чтобы совершить глупость и лезть первым или одним из первых туда, где опасно было появляться впереди других.
Господина де Босира толкали в королевский дворец отнюдь не политические убеждения: он не собирался ни оплакивать падение монархии, ни аплодировать победе народа; нет, г-н де Босир отправился туда как любитель, будучи выше человеческих слабостей, называемых убеждениями, и имея только одну цель: взглянуть, не обронили ли вместе с короной те, кто только что потерял трон, какую-нибудь более портативную безделушку, для которой можно без особого труда найти более надежное место.
Однако, чтобы соблюсти приличия, г-н де Босир напялил красный колпак, вооружился огромной саблей, затем вымазал рубашку и руки кровью первого же подвернувшегося мертвеца; таким образом этого шакала, следовавшего за армией победителей, этого стервятника, парившего над полем мертвых, можно было на первый взгляд принять за победителя.
Так оно и вышло: многие из тех, кто слышал, как он кричит "Смерть аристократам!", и видел, как он шарит под кроватями, в шкафах и даже ящиках комодов, решили, что это патриот, желающий убедиться в том, не забрался ли туда какой-нибудь аристократ.
К несчастью г-на де Босира, одновременно с ним во дворце появился человек, который ничего не кричал, не заглядывал под кровати, не открывал шкафы; он оказался среди воюющих, хотя был без оружия, находился среди победителей, хотя никого не победил; он прогуливался, заложив руки за спину, словно в публичном саду праздничным вечером, с хладнокровным и невозмутимым видом, одетый в черный поношенный чистый сюртук; время от времени он лишь открывал рот, чтобы заметить:
— Не забывайте, граждане: женщин не убивать, драгоценностей не трогать!
Когда же он видел, как победители убивают мужчин и в ярости швыряют в окно мебель, он считал себя не вправе вмешиваться.
Он сразу же отметил про себя, что г-н де Босир к таковым не относится.
Около половины десятого вечера Питу, получивший, как нам уже известно, почетное задание охранять вестибюль павильона Часов, заметил, как к нему из внутренних покоев дворца направляется человек огромного роста и устрашающего вида; вежливо, но твердо, словно исполняя возложенную на него миссию заменить беспорядок порядком и месть — справедливостью, он сказал:
— Капитан! Когда вы увидите, как по лестнице спускается, размахивая саблей, человек в красном колпаке, арестуйте его и прикажите своим людям обыскать: он украл футляр с бриллиантами.
— Слушаюсь, господин Майяр, — ответил Питу, поднеся руку к шляпе.
— Так-так… — произнес бывший судебный исполнитель, — вы, стало быть, меня знаете, дружок?
— Еще бы! — вскричал Питу. — Неужели вы забыли, господин Майяр, что мы вместе брали Бастилию?
— Возможно, — отозвался Майяр.
— А позже, в ночь с пятого на шестое октября, мы вместе были в Версале.
— Я там действительно был.
— Черт побери! Вот доказательство: вы сопровождали женщин и еще сразились при входе в Тюильри со стражником, который не хотел вас пропускать.
— Так вы сделаете то, о чем я вам сказал?
— Это и все, что вам будет угодно! Все, что вы мне прикажете! Ведь вы настоящий патриот!
— И горжусь этим! — воскликнул Майяр. — Именно поэтому мы и не должны никому позволять позорить звание, принадлежащее нам по праву. A-а! Вот тот, о ком я вам говорил.
И действительно, в эту самую минуту на лестнице показался г-н де Босир; размахивая саблей, он прокричал: "Да здравствует нация!"
Питу подал знак Телье и Манике, и те, не привлекая ничьего внимания, заняли места у двери; сам Питу стал ждать г-на де Босира у нижней ступеньки лестницы.
Однако тот заметил маневр и, несомненно, почувствовал беспокойство: он остановился, будто что-то забыл, и сделал движение, собираясь подняться обратно.
— Прошу прощения, гражданин, — обратился к нему Питу, — выход здесь.
— A-а, так выход здесь, говорите?
— Есть приказ очистить Тюильри: проходите, пожалуйста.
Босир задрал голову и продолжал спускаться по лестнице.
Дойдя до последней ступеньки, он приложил руку к красному колпаку и, подделываясь под армейский тон, произнес:
— Ну, так как, товарищ, могу я пройти или нет?
— Можете; но сначала необходимо подвергнуться небольшой формальности, — ответил Питу.
— Хм! Что за формальность, дорогой капитан?
— Вас обыщут, гражданин.
— Обыщут!
— Да.
— Обыскивать патриота, победителя, человека, который только что уничтожал аристократов?
— Таков приказ; итак, товарищ, а мы ведь товарищи, верно? — заметил Питу. — Вложите свою большую саблю в ножны — она теперь не нужна, ведь все аристократы перебиты, и дайте себя обыскать по доброй воле, иначе мне придется применить силу.
— Силу? — переспросил Босир. — Ты так говоришь, милейший капитан, потому что у тебя под началом двадцать человек; а вот если б мы разговаривали с глазу на глаз!..
— Если бы мы были одни, гражданин, — подхватил Питу, — я бы сделал следующее: я бы тебя взял правой рукой за запястье, вот так, смотри! Левой рукой я вырвал бы у тебя саблю и сломал бы ее ногой, потому что она недостойна руки честного человека, после того как побывала в руках у вора!
И Питу, претворяя развиваемую им теорию в практику, схватил мнимого патриота правой рукой за запястье, левой вырвал у него саблю, наступил на лезвие, отломал эфес и отшвырнул его подальше.
— Вор?! — взревел человек в красном колпаке. — Я, господин де Босир, — вор?!
— Друзья мои, — обратился к своим людям Питу, подтолкнув бывшего гвардейца, — обыщите господина де Босира!
— Ну что ж, обыскивайте! — поднимая руки, смиренно проговорил бывший гвардеец. — Обыскивайте!
Не дожидаясь позволения г-на де Босира, солдаты приступили к обыску; однако, к величайшему изумлению Питу и в особенности Майяра, поиски оказались тщетны; напрасно ему выворачивали карманы, ощупывали его в самых потайных местах — у бывшего гвардейца обнаружили только колоду истертых карт с едва различимыми мастями и деньги: одиннадцать су.
Питу взглянул на Майяра.
Тот пожал плечами с таким видом, словно хотел сказать: "Что поделать!"
— Обыщите еще раз! — приказал Питу, одним из главных качеств которого, как мы помним, было терпение.
Босира обыскали еще раз, но и повторный обыск оказался столь же бесплодным, как первый: кроме все той же колоды карт и одиннадцати су, у него так ничего и не нашли.
Господин де Босир ликовал.
— Ну что, — спросил он, — вы по-прежнему считаете эту саблю опозоренной из-за того, что она побывала в моих руках?
— Нет, сударь, — отозвался Питу, — и вот доказательство: если вас не удовлетворят мои извинения, один из моих людей отдаст вам свою саблю, а я готов дать вам любое удовлетворение, какое пожелаете.
— Спасибо, молодой человек, — приосанился г-н де Босир, — вы исполняли приказ, а я, бывший солдат, знаю, что приказ — вещь священная! А теперь, должен вам заметить, госпожа де Босир, должно быть, волнуется, что меня так долго нет, и если мне можно идти…
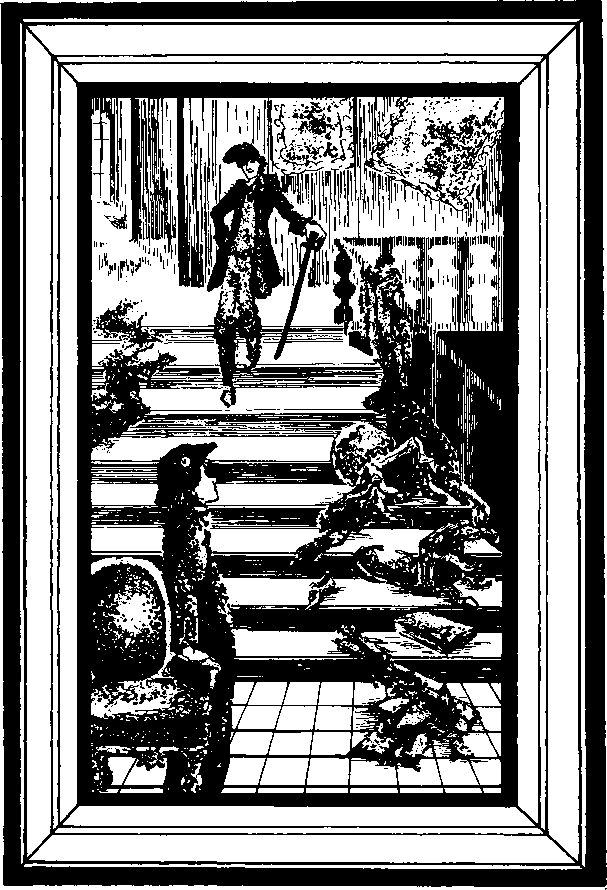
— Идите, сударь, — кивнул Питу, — вы свободны.
Босир непринужденно поклонился и вышел.
Питу поискал взглядом Майяра: тот исчез.
— Кто видел, куда пошел господин Майяр? — спросил он.
— Мне показалось, — сообщил один из арамонцев, — что он поднялся по лестнице.
— Правильно вам показалось, — подтвердил Питу, — вон он спускается.
Майяр в самом деле спускался в это время по лестнице; благодаря длинным ногам он шагал через одну ступеньку, так что очень скоро уже был в вестибюле.
— Ну что, — спросил он, — нашли что-нибудь?
— Нет, — отвечал Питу.
— А мне повезло больше вашего: я нашел футляр.
— Значит, мы напрасно его обыскивали?
— Нет, не напрасно.
Майяр открыл футляр и достал оттуда золотую оправу, из которой кто-то выковырял все до единого драгоценные камни.
— Гляди-ка! — удивился Питу. — Что бы это значило?
— Это значит, что малый оказался отнюдь не простак: предвидя возможный обыск, он вынул бриллианты и, сочтя оправу чересчур обременительной, бросил футляр с оправой в кабинете, где я только что его подобрал.
— А где же бриллианты? — удивился Питу.
— Да уж, видно, он нашел, как их припрятать.
— Ах, разбойник!
— Давно он ушел?
— Когда вы спускались, он выходил через ворота среднего двора.
— А в какую сторону он направился?
— Свернул на набережную.
— Прощайте, капитан.
— Уже уходите, господин Майяр?
— Хочу пройтись для очистки совести, — заявил бывший судебный исполнитель.
И, широко шагая, он поспешил вдогонку за г-ном Босиром.
Это происшествие привело Питу в недоумение; он еще находился под впечатлением этой сцены, когда ему вдруг почудилось, что он узнает графиню де Шарни; затем последовали события, уже описанные нами в свое время, поскольку мы не вправе перегружать их рассказом, который, по нашему мнению, должен занять в этом повествовании положенное ему место.
IX
СЛАБИТЕЛЬНОЕ
Как быстро ни шагал Майяр, он не смог нагнать г-на де Босира, имевшего три преимущества: прежде всего, он вышел десятью минутами раньше; кроме того, уже стемнело; наконец, на площади Карусель было довольно многолюдно, и г-н де Босир смешался с толпой.
Однако выйдя на набережную Тюильри, бывший судебный исполнитель Шатле пошел дальше: он жил, как мы уже рассказывали, в Сент-Антуанском предместье, и дорога к его дому проходила по набережным до Гревской площади.
На Новом мосту, а также на мосту Менял наблюдалось большое скопление народа: на площади Дворца правосудия были сложены тела погибших, и каждый спешил туда в надежде, вернее в страхе, найти там брата, родственника или друга.
Майяр последовал за толпой.
На углу Бочарной улицы и площади Дворца жил один его приятель, фармацевт, или, как говорили еще в те времена, аптекарь.
Майяр зашел к своему приятелю и сел поболтать; к фармацевту заходили хирурги за бинтами, мазями, корпией — одним словом, за всем тем, что требовалось для перевязки раненых, ибо среди кучи мертвых тел время от времени раздавался крик, стон, вздох, и если какой-нибудь несчастный еще был жив, его вытаскивали, перевязывали и относили в Отель-Дьё.
Итак, в лавочке почтенного аптекаря царила суматоха; однако Майяр не был помехой, к тому же, в те дни приятно было принимать у себя такого патриота, как Майяр, ведь его встречали и в городе и в предместье с распростертыми объятиями.
Он сидел у аптекаря уже около четверти часа, подобрав свои длинные ноги и стараясь занимать как можно меньше места, как вдруг в лавочку вошла женщина лет тридцати семи-тридцати восьми, в облике которой, несмотря на самую отвратительную бедность, угадывалась былая жизнь в богатстве, а в манерах — аристократизм, если и не врожденный, то приобретенный с годами.
Но что особенно поразило Майяра, так это ее необычайное сходство с королевой; он вскрикнул бы от изумления, если бы не его самообладание, в котором мы уже имели возможность убедиться.
Женщина вела за руку мальчика лет восьми-девяти; робко подойдя к прилавку и пытаясь, насколько это было в ее силах, скрыть свою нищету, еще больше подчеркивавшую аккуратность, с которой она ухаживала за своими руками и лицом, она заговорила.
Некоторое время слов невозможно было разобрать из-за царившего в лавочке гомона; наконец, стало слышно, как она обратилась к хозяину заведения:
— Сударь! Мне нужно для мужа слабительное, он заболел.
— Какое слабительное желаете, гражданка? — спросил аптекарь.
— Да все равно, сударь, лишь бы это стоило не дороже одиннадцати су.
Названная ею цифра поразила Майяра: именно эта сумма, как помнит читатель, была обнаружена в кармане у г-на де Босира.
— Почему же лекарство должно стоить не дороже одиннадцати су? — поинтересовался аптекарь.
— Потому что это все, что смог дать мне муж.
— Приготовьте смесь тамариска и александрийского листа для этой гражданки, — приказал аптекарь ученику.
Тот взялся за приготовление снадобья, а аптекарь тем временем занялся другими посетителями.
Однако Майяр, которого ничто не отвлекало, обратил все свое внимание на женщину, которая пришла за слабительным с одиннадцатью су.
— Пожалуйста, гражданка, вот ваше лекарство, — протянув ей склянку, сказал ученик аптекаря.
— Ну, Туссен, — растягивая слова, что, видимо, было ее привычкой, заговорила она, — давай одиннадцать су, мальчик мой.
— Пожалуйста, — проговорил мальчуган.
Высыпав на прилавок горстку монет, он стал ныть:
— Ну, пойдем, мама Олива! Пойдем же, папа ждет!
— Простите, гражданка, — заметил ученик аптекаря, — здесь только девять су.
— Как девять? — удивилась женщина.
— Да сочтите сами! — предложил тот.
Женщина посчитала монеты: в самом деле, оказалось всего девять су.
— Где еще два су, скверный мальчишка? — спросила она у сына.
— Не знаю я! — отвечал мальчуган. — Ну, пойдем, мама Олива!
— Кто же должен знать, как не ты, ведь ты сам вызвался нести деньги, вот я тебе их и отдала.
— Я их потерял, — сказал мальчишка. — Ну, пойдем же!
— У вас прелестный мальчик, гражданка! — вмешался Майяр. — Кажется, он неглуп, но за ним нужен глаз да глаз, иначе он станет вором!
— Вором?! — вскричала женщина, которую мальчуган называл мамой Олива. — С какой же это стати, сударь, скажите на милость?!
— Да потому, что он вовсе не терял деньги, а спрятал их в башмак.
— Я? — закричал мальчишка. — Неправда!
— В левый башмак, гражданка, в левый! — уточнил Майяр.
Не обращая внимания на вопли юного Туссена, мамаша Олива сняла с него левый башмак и нашла два су.
Она отдала их ученику аптекаря и потащила сына из лавочки, грозя ему наказанием, которое могло бы показаться свидетелям этой сцены жестоким, если бы они не принимали в расчет материнскую нежность, которая вне всякого сомнения должна была смягчить кару.
Это происшествие, незначительное само по себе, прошло бы незамеченным в переживаемой тогда всеми серьезной ситуации, если бы сходство этой женщины с королевой не поразило Майяра.
Он подошел к своему приятелю-аптекарю и, улучив минуту, спросил,
— Вы заметили?
— Что?
— Сходство гражданки, которая только что вышла отсюда…
— С королевой? — со смехом подхватил аптекарь.
— Да… Стало быть, вы тоже это заметили.
— Да уж давно!
— Как это давно?
— А как же: это сходство имеет свою историю.
— Не понимаю.
— Разве вы не помните историю с ожерельем?
— Ну, судебный исполнитель из Шатле такую историю забыть не может!
— Тогда вы должны вспомнить имя некой Николь Леге, по прозвищу мадемуазель Олива.
— Черт возьми, верно! Она играла роль королевы при кардинале де Рогане, не так ли?
— Да, и жила она тогда с одним пройдохой, мастером темных дел, бывшим гвардейцем, мошенником, доносчиком по имени Босир.
— Как? — словно ужаленный подскочил Майяр.
— По имени Босир, — повторил аптекарь.
— Так что Босира она называет своим мужем? — уточнил Майяр.
— Да.
— Стало быть, для него она приходила за лекарством?
— Да, должно быть, у бедняги несварение желудка.
— И ему понадобилось слабительное? — продолжал Майяр, словно нащупав ключ к какой-то тайне и не желая сбиться с мысли.
— Ну да, слабительное.
— Ну вот! — хлопнув себя по лбу, вскричал Майяр. — Теперь он у меня в руках.
— Кто?
— Человек с одиннадцатью су.
— Что еще за человек с одиннадцатью су?
— Да Босир, черт побери!
— Он у вас в руках?
— Да… Если бы еще знать, где он живет…
— А я знаю!
— Отлично! Где же это?
— В доме номер шесть по Еврейской улице.
— Кажется, это где-то рядом?
— В двух шагах отсюда.
— Ну, теперь это меня не удивляет.
— Что именно?
— Что юный Туссен украл у матери два су.
— Почему не удивляет?
— Да ведь это сын господина де Босира, верно?
— Живой портрет!
— Яблоко от яблони недалеко падает! А теперь, дружище, скажите положа руку на сердце: когда начнет действовать ваше снадобье?
— Вы серьезно спрашиваете?
— Вполне серьезно.
— Не раньше чем через два часа.
— Это все, что я хотел знать. Итак, у меня еще есть время.
— Значит, вас беспокоит здоровье господина де Босира?
— До такой степени беспокоит, что, опасаясь, плохо ли за ним ухаживают, я пошлю к нему…
— Кого?
— … двух санитаров. Ну, прощайте, дорогой друг.
Майяр вышел из лавочки аптекаря, молча посмеиваясь (лишь такая улыбка оживляла порой его мрачное лицо), и побежал по направлению к Тюильри.
Питу не было; читатели, должно быть, помнят, что он отправился вместе с Андре через дворцовый сад по следам графа де Шарни; однако вместо него Майяр застал на посту Манике и Телье.
Оба его узнали.
— A-а, это вы, господин Майяр! Ну что, догнали нашего молодца? — спросил Манике.
— Нет, — отвечал Майяр, — но я напал на его след.
— Вот это удача, ей-Богу! — воскликнул Телье. — Хоть при нем ничего и не нашли, но могу поспорить, что бриллианты у него!
— Смело можете спорить, гражданин, и обязательно выиграете, — пообещал Майяр.
— Стало быть, их можно будет у него забрать? — спросил Манике.
— На это я, во всяком случае, надеюсь, если, конечно, вы мне поможете.
— Чем, гражданин Майяр? Мы в вашем распоряжении.
Майяр знаком приказал обоим подойти ближе.
— Выберите мне двух надежных людей.
— Что вы имеете в виду? Храбрых?
— Честных.
— О, тогда берите любого.
Обернувшись к арамонцам, Дезире крикнул:
— Нужны два добровольца!
Поднялось человек двенадцать.
— Буланже, иди сюда! — приказал Манике.
Тот подошел ближе.
— И ты, Моликар.
Второй арамонец встал рядом с первым.
— Может, вам нужно больше, господин Майяр? — спросил Телье.
— Нет, довольно. Ну, пошли, ребята!
Оба арамонца последовали за Майяром.
Майяр привел их на Еврейскую улицу и остановился перед домом номер шесть.
— Это здесь, — указал он. — Давайте войдем.
Оба арамонца вошли вслед за ним в подъезд и поднялись на пятый этаж.
Там они пошли на крики юного господина Туссена, еще не успевшего опомниться после наказания, но не материнского: г-н Босир, учитывая важность проступка, счел своим долгом вмешаться и прибавил собственноручно несколько увесистых затрещин к слабым подзатыльникам, которые против воли дала любимому сыночку мадемуазель Олива.
Майяр попытался отворить дверь.
Она оказалась заперта изнутри на задвижку.
Он постучал.
— Кто там? — протяжно спросила мадемуазель Олива.
— Именем закона, откройте! — отозвался Майяр.
За дверью зашептались; юный Туссен перестал плакать, испугавшись, что закон доставил себе это беспокойство из-за его, Туссена, попытки украсть у матери два су; тем временем Босир решил, что стук означает не что иное, как обыск, и, хоть сам испытывал немалое беспокойство, пытался успокоить Олива.
Наконец г-жа де Босир набралась храбрости, и, в ту минуту как Майяр занес было руку, чтобы постучать еще раз, дверь отворилась.
В комнату вошли трое, к величайшему ужасу мадемуазель Олива и г-на Туссена, спрятавшегося за старый плетеный стул.
Господин де Босир лежал в постели, а на ночном столике, освещаемом дешевой коптящей свечой в железном подсвечнике, Майяр с удовлетворением отметил пустую склянку. Снадобье было выпито: оставалось дождаться, когда оно начнет действовать.
По дороге Майяр рассказал Буланже и Моликару о том, что произошло в аптеке, и потому, войдя к г-ну де Босиру, они уже знали решительно обо всем.
Усадив их по обе стороны от кровати больного, Майяр сказал только:
— Граждане, господин де Босир — точь-в-точь как принцесса из "Тысячи и одной ночи", которая почти всегда молчала, но если уж ее удавалось заставить раскрыть рот, из него падали драгоценные камни! Не давайте же господину де Босиру уронить ни единого слова, не убедившись прежде, что в нем… Я буду ждать вас в муниципалитете: когда этому господину нечего будет более вам сказать, проводите его в Шатле и сдайте от имени гражданина Майяра, а сами ступайте ко мне в ратушу с тем, что он скажет.
Оба национальных гвардейца поклонились в знак безусловного повиновения и снова сели с оружием у кровати г-на де Босира.
Аптекарь не ошибся: через два часа лекарство подействовало. Это продолжалось в течение часа, и результат оказался более чем удовлетворительным!
Около трех часов утра оба гвардейца были уже у Майяра.
Они принесли на сумму около ста тысяч франков бриллиантов чистейшей воды, завернутых в приказ о взятии г-на де Босира под стражу.
Майяр сдал бриллианты от своего имени, а также от имени обоих арамонцев прокурору Коммуны, и тот выдал им бумагу, гласившую, что граждане Майяр, Моликар и Буланже имеют большие заслуги перед отечеством.
X
ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ
А вслед за только что описанным нами трагикомическим происшествием произошло вот что.
Дело г-на де Босира, заключенного в тюрьму Шатле, было передано в специальную комиссию по кражам, совершенным 10 августа и в последующие дни.
Отрицать преступление было бессмысленно: факт не вызывал ни малейшего сомнения.
Вот почему обвиняемый поспешил раскаяться в содеянном и попросил суд быть к нему снисходительным.
Трибунал затребовал сведения о ранее совершенных г-ном де Босиром проступках; беглого знакомства со сведениями, полученными при этом расследовании, было достаточно, чтобы осудить бывшего гвардейца к пяти годам галер и позорному столбу.
Напрасно г-н де Босир ссылался на то, что он совершил эту кражу из благородных побуждений, то есть в надежде обеспечить спокойное будущее жене и сыну, — ничто не могло смягчить приговор, и, поскольку решения специального трибунала обжалованию не подлежали, на следующий день после суда приговор должен был быть приведен в исполнение.
Как жаль, что он не был приведен в исполнение немедленно!
По воле рока накануне того дня, как г-на де Босира должны были выставить к столбу, в тюрьму, где он находился, заключили одного из его бывших товарищей. Они друг друга узнали; завязался доверительный разговор.
Новый узник, по его словам, был схвачен по подозрению в превосходно задуманном заговоре, который должен был осуществиться на Гревской площади или на площади Дворца.
Заговорщики намеревались в большом количестве собраться на одной из этих площадей под тем предлогом, что хотят поглазеть на жертву (в те времена приговоренных к позорному столбу выставляли и на Гревской площади, и перед Дворцом правосудия), и с криками "Да здравствует король! Да здравствуют пруссаки! Смерть нации!" захватить ратушу, призвать на помощь национальную гвардию, две трети которой были роялистами или, по крайней мере, конституционалистами, поддержать уничтожение Коммуны, распущенной 30 августа Собранием, и таким образом осуществить контрреволюционный переворот.
К несчастью, именно он, только что взятый под стражу приятель г-на де Босира, должен был подать сигнал; однако заговорщики еще не знали о его аресте, и вот соберутся они на площади, как только там будет выставлен первый приговоренный, а крикнуть "Да здравствует король! Да здравствуют пруссаки! Смерть нации!" будет некому, и переворот не состоится.
Это было тем более обидно, что, по словам приятеля г-на де Босира, заговор был как никогда тщательно продуман и обещал несомненный успех.
Арест приятеля г-на де Босира был тем прискорбнее, что в общей неразберихе осужденный был бы, несомненно, освобожден и мог, таким образом, избежать не только позорного столба, но и галер.
Господин де Босир, хотя и не имел ясных политических убеждений, в глубине души всегда относился к монархии с симпатией; он стал сожалеть о горькой доле короля, а заодно и о том, что переворот не состоится.
Вдруг он хлопнул себя по лбу: его неожиданно осенила гениальная мысль.
— Слушай! — обратился он к приятелю. — А ведь первым к позорному столбу приговорили меня!
— Ну, конечно! Вот поэтому я и сказал, что для тебя это было бы избавлением!
— И ты говоришь, что о твоем аресте никто не знает?
— Ни единая душа.
— Стало быть, заговорщики все равно соберутся, как если бы ты не был арестован?
— Вот именно!
— Значит, если бы кто-нибудь подал условный знак вместо тебя, переворот состоялся бы?
— Да… Но кто же, по-твоему, его подаст, если я арестован и не могу связаться с теми, кто на воле?
— Я! — произнес Босир тоном Медеи из трагедии Корнеля.
— Ты?
— На да, я! Я же там буду, раз выставлять собираются меня. Так вот, я и крикну: "Да здравствует король! Да здравствуют пруссаки! Смерть нации!" Кажется, в этом нет ничего сложного.
Товарищ Босира задохнулся от восторга.
— Я всегда говорил, что ты гений! — воскликнул он.
Босир поклонился.
— Если ты это сделаешь, — продолжал арестант-роялист, — ты не только обретешь свободу, ты не только будешь помилован, но я всем расскажу, что именно благодаря тебе заговор удался, и ты можешь заранее поздравить себя с щедрым вознаграждением!
— Я делаю это не ради награды! — заметил Босир с самым что ни на есть безразличным видом.
— Ах, черт побери! — воскликнул приятель. — Ну да ничего, если будет вознаграждение, советую тебе не отказываться.
— Ну, раз ты советуешь… — согласился Босир.
— Более того, я настоятельно советую и, если угодно, приказываю! — величественно настаивал приятель.
— Так и быть! — сдался Босир.
— Ну что же, — продолжал приятель, — завтра мы с тобой вместе позавтракаем — не откажет же начальник тюрьмы в последней милости двум товарищам! — и разопьем бутылочку вина за успех заговора!
У Босира были некоторые сомнения по поводу снисходительности начальника тюрьмы и его разрешения на завтрак; но независимо от того, позавтракают они вместе с приятелем или нет, он решил сдержать данное им обещание.
К его огромному удовольствию, разрешение было дано.
Друзья позавтракали и выпили не одну, а две, три, четыре бутылки!
После четвертой бутылки г-н де Босир был уже ярым роялистом. К счастью, в это время за ним пришли и повели на Гревскую площадь раньше, чем друзья успели откупорить пятую бутылку.
Он сел в повозку с таким видом, словно это была триумфальная колесница, и пренебрежительно поглядывал на толпу, которой он готовил такой страшный сюрприз.
На каменной тумбе моста Парижской Богоматери появления повозки ожидала женщина с ребенком.
Господин де Босир узнал бедняжку Олива, заливавшуюся слезами, и юного Туссена, который, увидев отца в руках жандармов, закричал:
— Ну и правильно! За что он меня отлупил?..
Босир улыбнулся им с покровительственным видом и хотел было сделать величественный жест, да руки у него были связаны за спиной!
Площадь перед ратушей кишела людьми.
Все знали, что осужденный был наказан за кражу в Тюильри; благодаря вывешенному протоколу судебного разбирательства были известны все обстоятельства этой кражи, и потому жалости к осужденному никто не испытывал.
Когда повозка остановилась у позорного столба, охране пришлось туго: она едва сдерживала возмущенную толпу.
Босир взирал на возбужденных зрителей, на всю эту суматоху, всем своим видом словно говоря: "Ну, сейчас вы увидите! Сейчас еще не то будет!"
Когда его поставили к столбу, раздалось всеобщее "ура!"; но как только наступил момент самой экзекуции, как только палач расстегнул осужденному рукав, оголил плечо и нагнулся, чтобы достать из жаровни раскаленное клеймо, произошло то, что всегда бывает в подобные минуты: перед величием правосудия все умолкли.
Босир воспользовался затишьем и, собрав все силы, звучно, раскатисто, во весь голос гаркнул:
— Да здравствует король! Да здравствуют пруссаки! Смерть нации!
Хотя г-н де Босир и был готов к тому, что его слова вызовут шум, однако действительность намного превзошла все его ожидания: толпа не закричала — она взвыла.
Все с оглушительным ревом устремились к столбу.
На сей раз охрана была бессильна защитить г-на де Босира, цепь гвардейцев была прорвана, зрители затопили эшафот, палача сбросили с помоста, осужденного неведомо как оторвали от столба и потащили в этот всепожирающий муравейник, называемый толпой.
Он, несомненно, был бы убит, затоптан, разорван в клочья, но, на его счастье, какой-то человек, опоясанный трехцветным шарфом, бросился в толпу с крыльца ратуши, откуда наблюдал за экзекуцией.
Это был прокурор Коммуны Манюэль.
Он отличался большой человечностью, которую ему порой приходилось скрывать в глубине души, однако она прорывалась наружу в минуты, подобные этой.
Немалого труда стоило ему протолкаться к г-ну де Босиру; он простер над ним руку и громко заявил:
— Именем закона требую отдать мне этого человека!
Народ не хотел повиноваться; Манюэль снял свой шарф и, размахивая им над толпой, закричал:
— Ко мне, все честные граждане!
К нему пробилось около двадцати человек; они окружили его плотным кольцом.
Босир быт вырван из рук толпы;.он был чуть жив.
Манюэль приказал перевести его в ратушу; но вскоре ратуша оказалась под серьезной угрозой, так велик был гнев народа.
Манюэль вышел на балкон.
— Этот человек виновен, — обратился он к толпе, — но в преступлении, за которое его не судили. Выберите суд; члены его соберутся в одном из залов ратуши и решат судьбу виновного. Каков бы ни был приговор, он будет приведен в исполнение, но приговор должен быть вынесен непременно!
Любопытно, не правда ли: накануне резни в тюрьмах один из тех, кого обвинят в этой резне, держит с риском для жизни подобную речь!
Да, бывают в политике отклонения; пусть их объясняет тот, кто может!
Итак, это предложение умиротворило толпу. Четверть часа спустя Манюэлю доложили о том, что судьи от народа просят их принять; суд состоял из двадцати одного заседателя; все они вышли на балкон.
— Вы посылали этих людей? — обращаясь в толпу, спросил Манюэль.
Вместо ответа толпа захлопала в ладоши.
— Хорошо, — продолжал Манюэль, — раз судьи уже здесь, суд сейчас же и состоится.
Как он и обещал, он разместил заседателей в одном из залов ратуши.
Еле живой г-н де Босир появился перед этим импровизированным трибуналом; он попытался оправдываться; однако второе преступление было не менее очевидно, чем первое; притом, по мнению народа, оно было гораздо серьезнее.
Кричать "Да здравствует король!", когда король как предатель содержится под стражей в Тампле; кричать "Да здравствуют пруссаки!", в то время как они только что захватили Лонгви и находятся всего в шестидесяти льё от Парижа; кричать: "Смерть нации!", когда нация хрипит на смертном одре, — вот в чем заключалось ужасное преступление, заслуживавшее высшей кары!
И суд постановил, что виновный заслуживает смертной казни не обычной, но позорной, а потому, в отступление от закона, гильотина будет заменена виселицей и он будет повешен на той же площади, где совершил преступление.
Палач получил приказание поставить виселицу на том же эшафоте, где возвышался позорный столб.
Ведущиеся работы, а также уверенность в том, что преступник не убежит, потому что содержится под стражей у всех на виду, окончательно успокоили толпу.
Вот какое событие заботило Собрание, о чем мы говорили в конце одной из предыдущих глав.
На следующий день было воскресенье, и это явилось осложняющим обстоятельством; Собрание поняло, что дело идет к резне. Коммуна хотела выжить любой ценой: резня — то есть террор — была для этого вернейшим средством.
Собрание отступило от принятого за два дня до этого решением: оно отменило свой декрет.
Тогда поднялся один из его членов.
— Отменить ваш декрет недостаточно, — заявил он. — Третьего дня, когда вы его принимали, вы объявили, что Коммуна имеет заслуги перед отечеством; похвала эта не совсем ясна, потому что однажды вы сможете сказать, что Коммуна имеет, конечно, заслуги перед отечеством, однако такой-то или такой-то ее член к этой похвале отношения не имеет — и, следовательно, может преследоваться законом. Значит, нужно сказать не Коммуна, а представители Коммуны.
Собрание проголосовало за то, чтобы признать: представители Коммуны имеют заслуги перед отечеством.
В то время, как Собрание голосовало, Робеспьер выступал в Коммуне с длинной речью; он говорил о том, что Собрание бесчестными маневрами добилось потери Генеральным советом доверия народа и, значит, Генеральному совету следует добровольно устраниться и прибегнуть к единственно возможному способу спасения народа: передать власть народу.
Как всегда, Робеспьер был неясен и туманен в своих выражениях, но слова его звучали страшно. Передать власть народу — что же означала эта фраза?
Значило ли это, что нужно подчиниться декрету Собрания и согласиться на новые выборы? Маловероятно!
Значило ли это низложить законную власть, признав этим, что Коммуна после событий 10 августа считает себя бессильной продолжать великое дело революции и поручает народу довершить начатое?
Итак, поручить народу продолжать начатое 10 августа, продолжать безудержно, с преисполненным жаждой мщения сердцем означало одно — перерезать тех, кто сражался 10 августа против народа и с тех пор находился под стражей в парижских тюрьмах.
Вот в каком состоянии были дела вечером 1 сентября; вот к чему приходят всегда, когда гроза носится в воздухе и чувствуется, что гром и молния вот-вот грянут.
XI
В НОЧЬ С 1 НА 2 СЕНТЯБРЯ
Первого сентября в девять часов вечера служащий Жильбера — слово слуга было отменено как антиреспубликанское — вошел к доктору в спальню со словами:
— Гражданин Жильбер, фиакр ждет у дверей.
Жильбер надвинул шляпу на глаза, застегнул редингот на все пуговицы и собрался было выйти; однако на пороге квартиры он увидел завернувшегося в плащ господина в широкополой шляпе, скрывавшей лицо.
Жильбер отступил: в темноте, да еще в такое время, кто угодно покажется врагом.
— Это я, Жильбер, — доброжелательно промолвил незнакомец.
— Калиостро! — вскричал Жильбер.
— Ну вот, вы забыли, что меня зовут теперь не Калиостро, а барон Дзанноне! Правда, для вас, дорогой Жильбер, мое имя, так же как мое сердце, неизменно: для вас я всегда Джузеппе Бальзамо; во всяком случае, я надеюсь, что это именно так.
— О да! — подтвердил Жильбер. — А доказательством служит то, что я как раз направлялся к вам.
— Так я и думал, — сказал Калиостро, — поэтому я и пришел: вы, должно быть, понимаете, что в такие дни, как сегодняшний, я не сделал бы того, что сейчас сделал господин де Робеспьер: уж я не уехал бы за город.
— Я боялся, что не застану вас, и потому особенно рад вас видеть… входите же, прошу вас, входите!
— Итак, вот и я! Скажите, чего вам хочется? — спросил Калиостро, проходя вслед за Жильбером в самую дальнюю комнату доктора.
— Садитесь, учитель.
Калиостро сел.
— Вы знаете, что сейчас происходит, — начал Жильбер.
— Вы хотите сказать: что произойдет, — поправил его Калиостро, — потому что сию минуту ничего не происходит.
— Не происходит, верно; однако готовится нечто ужасное, не так ли?
— Да, в самом деле, это ужасно… Правда, иногда ужасное становится необходимым.
— Учитель, — признался Жильбер, — когда вы произносите подобные слова с присущим вам безжалостным хладнокровием, вы заставляете меня трепетать!
— Что ж поделаешь! Я всего-навсего эхо: эхо рока!
Жильбер поник головой.
— Вы помните, Жильбер, что я вам сказал в тот день шестого октября, когда встретил вас в Бельвю и предсказал вам смерть маркиза де Фавраса?
Жильбер вздрогнул.
Он, смотревший прямо в лицо не только людям, но и обстоятельствам, перед этим таинственным существом чувствовал себя слабым как ребенок.
— Я вам сказал тогда, — продолжал Калиостро, — что если у короля в его жалком умишке есть хоть крупица инстинкта самосохранения, во что мне самому не хотелось верить, то он согласится на побег.
— Он и согласился, — заметил Жильбер.
— Да; однако я имел в виду: пока у него есть время… а когда он наконец собрался бежать… черт побери! Вы сами знаете, что времени-то уже и не было! Я еще тогда, как помните, прибавил, что, если король будет сопротивляться, если королева будет сопротивляться, если дворяне будут сопротивляться, мы сделаем революцию.
— Да, вы опять правы: революция свершилась, — со вздохом признал Жильбер.
— Не совсем, — счел нужным поправить его Калиостро. — Однако она свершается, как видите, дорогой мой Жильбер! Помните, как я вам рассказывал о машине, изобретаемой одним из моих друзей, доктором Гильотеном?.. Вы проходили через площадь Карусель, там, напротив Тюильри? Так вот, это та самая машина, которую я показал королеве в замке Таверне в графине с водой… вы припоминаете, не так ли: вы тогда были мальчиком вот такого роста, не больше, и уже были возлюбленным мадемуазель Николь… А знаете, ее муж, милейший господин де Босир, только что приговорен к повешению, и поделом!.. — так вот, эта машина уже действует.
— Да, — подтвердил Жильбер, — и, кажется, чересчур медленно, потому что к ней хотят добавить сабли, пики и кинжалы.
— Послушайте, — продолжал Калиостро, — надо признать, что мы имеем дело с жестокими упрямцами! Ведь аристократов, двор, короля, королеву не раз так или иначе предупреждали, но это не принесло плодов; народ взял Бастилию — им хоть бы что; произошли события пятого— шестого октября — им и это не пошло впрок; наступило двадцатое июня — их и это ничему не научило; вот уж отгремело и десятое августа — опять ничего; короля заключают в Тампль, аристократов — в Аббатство, в Ла Форс, в Бисетр — ничего! Король в Тампле радуется тому, что прусская армия захватила Лонгви; аристократы в Аббатстве кричат: "Да здравствует король! Да здравствуют пруссаки!" Они пьют шампанское перед самым носом у простых людей, когда те вынуждены довольствовать водой; они едят пироги с трюфелями на виду у простых людей, когда тем не хватает хлеба! Всем, вплоть до прусского короля Вильгельма, пишут: "Берегитесь! Если вы двинетесь дальше Лонгви, если вы еще хоть на шаг приблизитесь к сердцу Франции, это будет смертным приговором королю!", а он на это отвечает: "Как бы ужасно ни было положение королевской семьи, войска не могут отступать. Я всей душой желаю успеть прибыть вовремя, чтобы спасти короля Французского; однако мой долг прежде всего — спасти Европу!" И он идет на Верден… Пора с этим покончить.
— С чем?! — воскликнул Жильбер.
— С королем, королевой, аристократами.
— И вы убьете короля? Вы убьете королеву?
— О нет, отнюдь не их! Это было бы большой глупостью; их необходимо судить, вынести приговор, казнить их публично, как поступили с Карлом Первым: но от всего остального необходимо избавиться, доктор, и чем раньше, тем лучше.
— Кто же так решил? Ну, говорите! — вскричал Жильбер. — Может быть, ум? Или честь? А может, совесть того самого народа, о котором вы толкуете? Если бы у вас был Мирабо в роли гения, Лафайет как воплощение преданности, Верньо как олицетворение справедливости, если бы от их имени вы пришли ко мне и сказали: "Надо убить!", я содрогнулся бы, как содрогаюсь теперь, но я бы усомнился в своей правоте. От чьего же имени, скажите на милость, вы говорите мне это сегодня? От имени какого-то Эбера, торговца контрамарками; какого-то Колло д’Эрбуа, освистанного комедианта; какого-то Марата, душевнобольного, которому его врач вынужден пускать кровь всякий раз, как он требует пятьдесят тысяч, сто тысяч, двести тысяч голов! Позвольте же мне, дорогой учитель, отвергнуть этих посредственных людей: им нужны стремительные и будоражищие кризисы, изменения, которые бросались бы всем в глаза; эти бездарные драматурги, эти немощные фразеры, находящие удовольствие во внезапных разрушениях и считающие себя настоящими волшебниками, когда на самом деле они простые смертные, разрушившие творение Божье; им представляется прекрасным, великим, возвышенным подняться вверх по реке жизни, питающей весь мир, уничтожая на своем пути одним словом, одним жестом, взглядом, дуновением всякое живое препятствие, для создания которого природе понадобилось двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят лет! Дорогой учитель, эти люди — ничтожества! И ведь вы-то сами не из их породы!
— Дорогой мой Жильбер! — возразил Калиостро. — Вы еще раз ошибаетесь: этих людей вы называете людьми, чем делаете им слишком много чести: они не более чем орудия.
— Орудия разрушения!
— Да, но разрушения во имя идеи. Эта идея, Жильбер, — освобождение народов; это — свобода, это — республика, и не французская, храни меня Бог от столь эгоистической идеи! Это — всемирная республика, братство людей всего мира! Нет, эти люди — не гении; нет, они не воплощение преданности, не олицетворение справедливости; но у них есть то, что гораздо сильнее, гораздо непреклоннее, гораздо неотразимее всего этого: они следуют инстинкту.
— Инстинкту Аттилы!
— Совершенно верно: Аттилы, который называл себя бичом Божьим и явился, чтобы с помощью варварской крови гуннов, аланов, свевов придать новые силы римской цивилизации, разложившейся за четыре века правления Неронов, Веспасианов и Гелиогабалов.
— Давайте лучше подведем итоги, вместо того чтобы делать обобщения. К чему приведет вас резня?
— А вот к чему, это очень просто: мы скомпрометируем Собрание, Коммуну, народ, весь Париж. Необходимо запятнать Париж кровью — это вы, должно быть, отлично понимаете, — дабы Париж, этот мозг Франции, эта мысль Европы, эта душа мира, почувствовав, что прощения ему быть не может, поднялся как один человек, расшевелил всю Францию и прогнал неприятеля со священной земли своего отечества.
— Но ведь вы же не француз! — вскричал Жильбер. — Какое отношение все это имеет к вам?
Калиостро усмехнулся:
— Как можно, чтобы вы, Жильбер, вы, воплощение высокого разума, сильная натура, сказали кому бы то ни было: "Не вмешивайся в дела Франции, потому что ты не француз"? Разве дела Франции не являются в то же время делами всего мира? Разве Франция действует ради одной себя как недостойная эгоистка? Разве Иисус умер, спасая только иудеев? Разве ты посмел бы сказать апостолу: "Ты не назарей!" Слушай, Жильбер, слушай! Я в свое время обсуждал все эти вопросы с истинным гением, чей ум был гораздо сильнее моего или твоего, человеком или демоном по имени Альтотас; это было в тот день, когда он подсчитывал, сколько крови должно пролиться, прежде чем солнце поднимется над освобожденным человечеством. И ты знаешь, доводы этого человека не поколебали моей веры; я шел, иду и буду идти, сметая все на своем пути со словами: "Горе тому, что препятствует моему продвижению! Я — будущее!" А теперь перейдем к другому вопросу: ты ведь хотел попросить у меня милости для одного человека, не так ли? Я заранее тебе ее обещаю. Назови мне того или ту, кого ты хочешь спасти.
— Я хочу спасти женщину, гибели которой ни вы, учитель, ни я не можем допустить.
— Ты хочешь спасти графиню де Шарни?
— Я хочу спасти мать Себастьена.
— Ты же знаешь, что ключи от всех тюрем находятся в руках у министра юстиции — Дантона.
— Да; но мне также известно, что вы можете приказать Дантону: "Отопри или запри такую-то дверь!"
Калиостро поднялся, подошел к секретеру, начертал на небольшом листке бумаги нечто похожее на кабалистический знак и протянул его Жильберу со словами:
— Возьми, сын мой! Ступай к Дантону и проси у него чего захочешь.
Жильбер встал.
— А что ты собираешься делать потом? — спросил Калиостро.
— Когда потом?
— По прошествии нескольких дней, когда наступит очередь короля.
— Надеюсь стать, если смогу, членом Конвента, — отвечал Жильбер, — и всеми силами попытаться не допустить казни короля.
— Да, понимаю, — сказал Калиостро. — Поступай как подсказывает тебе совесть, Жильбер; однако обещай мне одну вещь.
— Какую?
— Бывали времена, когда ты обещал не спрашивая, Жильбер.
— В те времена вы не говорили мне, что народ можно исцелить ценой убийства, а нацию — резней.
— Ну хорошо… Итак, обещай мне, Жильбер, что после того как король будет осужден и казнен, ты последуешь совету, который я тебе дам.
Жильбер протянул графу руку.
— Любой ваш совет, учитель, будет драгоценен.
— И ты ему последуешь? — продолжал настаивать Калиостро.
— Я готов в этом поклясться, если, конечно, он не будет противоречить моим убеждениям.
— Жильбер, ты несправедлив ко мне, — заметил Калиостро. — Я многое тебе предлагал; разве я хоть раз чего-нибудь требовал?
— Нет, учитель, — подтвердил Жильбер. — Вот и теперь вы только что подарили мне жизнь женщины, а ее жизнь для меня дороже моей собственной.
— Ну, ступай! — приказал Калиостро. — И пусть гений Франции ведет тебя, одного из достойнейших ее сынов!
Калиостро вышел. Жильбер последовал его примеру.
Фиакр по-прежнему ждал у ворот; доктор сел в него и приказал ехать в министерство юстиции: именно там находился Дантон.
Будучи министром юстиции, Дантон имел удобный предлог не являться в Коммуну.
Да и зачем ему было там появляться? Разве там не находились безотлучно Марат и Робеспьер? Робеспьер не отстанет от Марата; впрягшись в колесницу смерти, они поскачут бок о бок. Кроме того, за ними приглядывает Тальен.
Дантон стоял перед выбором: либо он решится на Коммуну, и тогда его ждет триумвират вкупе с Маратом и Робеспьером; либо Собрание решится положиться на него, и тогда он станет диктатором как министр юстиции.
Он не желал быть рядом с Робеспьером и Маратом; однако и Собрание не хотело его самого.
Когда доложили о Жильбере, Дантон находился в обществе своей жены, вернее, жена лежала у него в ногах: о предстоящей резне всем было известно заранее, и несчастная женщина умоляла его не допустить кровопролития.
Бедняжка умерла от горя, когда резня все-таки произошла.
Дантону никак не удавалось объяснить ей одно обстоятельство, весьма, впрочем, очевидное: он не мог воспротивиться решениям Коммуны до тех пор, пока Собрание не облечет его властью диктатора: опираясь на поддержку Собрания, он мог надеяться на победу; без помощи Собрания он был обречен на провал.
— Умри! Умри! Умри, если это необходимо! — кричала бедная женщина. — Но резни быть не должно!
— Человек, подобный мне, просто так не умирает, — возразил Дантон. — Я готов умереть, но так, чтобы моя смерть принесла пользу отечеству!
В эту минуту доложили о приходе доктора Жильбера.
— Я не уйду до тех пор, — заявила г-жа Дантон, — пока ты мне не дашь слово сделать все возможное, чтобы помешать этому возмутительному преступлению.
— В таком случае оставайся здесь! — отозвался Дантон.
Госпожа Дантон отступила на несколько шагов, пропуская мужа к двери, чтобы он мог встретить доктора, которого он знал в лицо и понаслышке.
— A-а, доктор! — воскликнул он. — Вы как раз вовремя; если бы я знал ваш адрес, я, признаться, сам послал бы за вами!
Жильбер поздоровался с Дантоном, и, увидев позади него заплаканную женщину, поклонился ей.
— Позвольте представить вам мою жену, жену гражданина Дантона, министра юстиции, которая полагает, что я один достаточно силен, чтобы помешать господину Марату и господину Робеспьеру, опирающимся на поддержку Коммуны, совершить задуманное, то есть не дать им убивать, уничтожать, душить.
Жильбер взглянул на г-жу Дантон: та плакала, умоляюще сложив руки.
— Сударыня! — обратился к ней Жильбер. — Позвольте мне поцеловать ваши милосердные руки!
— Отлично! — вскричал Дантон. — Кажется, ты получила подкрепление!
— О, скажите хоть вы ему, сударь, — взмолилась несчастная женщина, — что, если он это допустит, кровь невинных несмываемым пятном падет на него на всю жизнь!
— Добро бы еще только это! — заметил Жильбер. — Если это пятно останется на лбу у одного человека, который, полагая, что приносит пользу отечеству, добровольно запятнает свое доброе имя, пожертвует ради отечества честью, подобно Децию, пожертвовавшему во имя родины жизнью, это бы еще полбеды! Что значит в переживаемых нами обстоятельствах жизнь, доброе имя, честь одного гражданина? Но ведь это пятно ляжет на чело Франции!
— Гражданин! — перебил его Дантон. — Скажите: когда извергается Везувий, может ли какой-нибудь смельчак остановить его лаву? Когда наступает время прилива, найдется ли рука, способная помешать океану?
— Когда человека зовут Дантоном, он не спрашивает, где этот смельчак, а говорит: "Вот я!"; он не спрашивает, где эта рука, а действует!
— Нет, вы все просто сошли с ума! — вскричал Дантон. — Неужели я должен сказать вам то, в чем не смею признаться самому себе? Да, у меня есть воля; да, я наделен талантами, и если бы Собрание пожелало, в моих руках была бы и сила! А знаете ли вы, что произойдет? То же, что было с Мирабо: его гений не мог подняться над его дурной репутацией. Я не взбесившийся Марат, чтобы внушать ужас Собранию; я не неподкупный Робеспьер, внушающий ему доверие; Собрание откажется предоставить в мое распоряжение средства, необходимые для спасения государства, а я буду нести крест своей дурной репутации; Собрание будет откладывать, медлить, все станут потихоньку передавать друг другу, что я человек без морали, которому и на три дня нельзя доверить абсолютную, полную, безграничную власть; будет назначена какая-нибудь комиссия из почтенных граждан, а тем временем бойня уже состоится и, как вы говорите, кровь тысяч невинных, преступление трех-четырех сотен пьяниц задернет кровавым занавесом революционные сцены, и за ним никто не сможет увидеть сияющих вершин революции! Нет! — прибавил он, величаво взмахнув рукой. — Нет, обвинят не Францию, а меня; я отведу от нее проклятие всего мира и обращу его на свою голову!
— А как же я? А дети? — вскричала бедная женщина.
— Ты умрешь, как ты сама сказала, — отвечал Дантон, — и тебя никто не посмеет обвинить в соучастии, потому что мое преступление тебя убьет. Что же до детей, так ведь у нас сыновья; в один прекрасный день они станут мужчинами, и можешь быть уверена, что они поймут своего отца и будут носить имя Дантона с высоко поднятой головой; впрочем, может так случиться, что они окажутся слабыми и отрекутся от меня. Тем лучше! В моей породе слабых не должно быть, в таком случае я сам заранее отрекаюсь от них.
— Да попросите вы, по крайней мере, Собрание дать вам эту власть! — с досадой проговорил Жильбер.
— Неужели вы полагаете, что я ждал вашего совета? Я посылал за Тюрио, за Тальеном. Жена, ступай, посмотри, не пришли ли они; если они здесь, пригласи ко мне Тюрио.
Госпожа Дантон поспешно вышла.
— Я готов испытать перед вами свою судьбу, господин Жильбер, — сказал Дантон. — Вы будете моим заступником перед потомством и расскажете о том, как я боролся до последнего.
Дверь отворилась.
— А вот и гражданин Тюрио, друг мой! — доложила г-жа Дантон.
— Проходи! — пригласил Дантон, протягивая огромную ручищу тому, кто исполнял при нем роль адъютанта при генерале. — Ты недавно прекрасно сказал с трибуны: "Французская революция принадлежит не только нам; она принадлежит всему миру, и мы за нее в ответе перед всем человечеством!" Итак, нам предстоит предпринять последнюю попытку сохранить чистоту этой революции.
— Я тебя слушаю! — отозвался Тюрио.
— Завтра, в самом начале заседания, до того как на трибуну поднимется первый оратор, ты должен выступить со следующими требованиями: первое — чтобы число членов Генерального совета Коммуны было увеличено до трехсот, но сделать это нужно так, чтобы, на словах поддерживая старых членов Совета, избранных десятого августа, на деле заменить их новыми. Мы учреждаем представительство Парижа на твердой основе; мы расширяем Коммуну и в то же время нейтрализуем ее: мы увеличиваем число ее членов, но изменяем ее дух. Если это предложение не будет принято, если ты не сумеешь втолковать им мою мысль, тогда договорись с Лакруа: скажи ему, чтобы он сказал об этом открыто, пусть внесет предложение о введении смертной казни для тех, кто прямо или косвенно будет уклоняться от исполнения или каким-нибудь образом мешать выполнению приказов или мер, предпринимаемых исполнительной властью. Если предложение будет принято, это будет означать диктатуру; исполнительной властью буду я; я войду, я ее потребую, и если кто-нибудь попытается мне воспрепятствовать, возьму ее силой!
— Что же вы сделаете потом? — спросил Жильбер.
— Потом, — ответил Дантон, — я возьму знамя революции в свои руки; кровавого и отвратительного демона убийств я загоню обратно во мрак; вместо него я призову благородного и светлого гения честной битвы, который поражает без страха и злобы, который спокойно взирает на смерть; я спрошу у этих банд: разве они объединились ради тою, чтобы резать безоружных людей? Я объявлю душегубом всякого, кто посмеет угрожать узникам. Возможно, многие одобрят бойню; однако тех, кто готов сам пролить кровь беззащитных, не так уж много. Я воспользуюсь тягой к войне, царящей в Париже; кучку кровожадных убийц я окружу потоком настоящих солдат-добровольцев, которые только и ждут приказа, чтобы выступить, после чего брошу к границе, то есть против врага, эту низкую стихию, обузданную стихией благородной.
- Сделайте это! Сделайте это! — вскричал Жильбер. — Это будет великодушно, великолепно, возвышенно!
— Ах, Господи! — пожав плечами с выражением, в котором странным образом смешались сила, беззаботность и сомнение, воскликнул Дантон. — Это совсем нетрудно! Пусть только мне немножко помогут, и вы увидите!
Госпожа Дантон целовала мужу руки.
— Тебе помогут, Дантон, — приговаривала она. — Кто может с тобой не согласиться, когда ты так говоришь?!
— Верно, — возразил Дантон, — однако, к несчастью, так говорить я не могу; ведь если мои слова не будут иметь успеха, то резню начнут с меня.
— Что ж! — живо подхватила г-жа Дантон. — Не лучше ли погибнуть именно так?
— Ты женщина, ты и рассуждаешь как женщина! Если я умру, что станется с революцией, как ее будут делить этот кровожадный безумец по имени Марат и этот двуличный утопист Робеспьер? Нет, я не должен, я еще не хочу умирать; мой долг — не допустить, насколько это возможно, резни; если же она произойдет, несмотря на мое вмешательство, то снять вину с Франции и принять ее на себя. Я все равно пойду к своей цели, только буду еще более устрашающим!.. Позови Тальена.
Вошел Тальен.
— Тальен, — обратился к нему Дантон, — может случиться, что завтра Коммуна обратится ко мне с письменным приглашением явиться в муниципалитет; вы секретарь Коммуны: устройте так, чтобы письмо до меня не дошло и чтобы я мог доказать, что не получал его.
— Вот дьявольщина! — не удержался Тальен. — Как же это устроить?
— Это уж ваше дело. Я вам говорю, что мне нужно, чего я хочу, что должно быть исполнено, а уж как это исполнить, решайте сами! Пойдемте, господин Жильбер; вы хотели меня о чем-то попросить?
Отворив дверь в небольшой кабинет, он пригласил туда Жильбера и вошел вслед за ним.
— Итак, — проговорил Дантон, — чем я могу быть вам полезен?
Жильбер вынул из кармана данный ему Калиостро листок и подал его Дантону.
— Ах, вы пришли от него… — заметил тот. — И чего же вы хотите?
— Свободы для одной женщины, находящейся под стражей в Аббатстве.
— Ее имя?
— Графиня де Шарни.
Дантон взял чистый лист бумаги и написал приказ об освобождении.
— Вот возьмите; может быть, хотите спасти кого-нибудь еще? Говорите! Я бы хотел иметь возможность вот так, по одному, спасти их всех, несчастных!
Жильбер поклонился.
— Это все, чего я хотел, — сказал он.
— В таком случае не смею вас долее задерживать, господин Жильбер; если я вам когда-нибудь понадоблюсь, заходите сразу прямо ко мне, по-мужски, без посредников: я буду счастлив что-нибудь для вас сделать.
Провожая его к выходу, он прошептал:
— Ах, мне бы хоть на сутки вашу репутацию честного человека, господин Жильбер!..
Он со вздохом затворил за доктором дверь и вытер струившийся по лбу пот.
Имея на руках драгоценную бумагу, возвращавшую Андре жизнь, Жильбер отправился в Аббатство.
Хотя время близилось к полуночи, у тюрьмы еще толпился раздраженный люд.
Жильбер протолкался сквозь толпу и постучал в ворота.
Под низким сводом отворилась мрачная дверь.
Жильбер вошел, едва сдерживая дрожь: этот низкий свод вел, как ему показалось, не в тюрьму, а в могилу.
Он подал приказ начальнику тюрьмы.
В бумаге предписывалось немедленно освободить из-под стражи лицо, на которое укажет доктор Жильбер. Жильбер назвал графиню де Шарни, и начальник приказал тюремщику проводить гражданина Жильбера в камеру заключенной.
Жильбер последовал за тюремщиком, прошел вслед за ним три этажа по узкой винтовой лестнице и вошел в освещаемую лампой одиночную камеру.
Одетая в черное женщина, чью мраморную бледность подчеркивали траурные одежды, сидела у стола перед лампой и читала небольшую книгу в шагреневом переплете с серебряным крестом.
В камине догорал огонь.
Она не обратила внимания на скрип двери и не подняла глаз; шаги Жильбера также не отвлекли ее от чтения; можно было подумать, что ее захватило чтение или, вернее, мысли, потому что Жильбер стоял возле нее уже минуты три, но она так и не перевернула страницу.
Тюремщик затворил за Жильбером дверь и остался снаружи.
— Госпожа графиня, — произнес наконец Жильбер.
Андре подняла глаза, смотрела с минуту невидящим взглядом, еще поглощенная своей мыслью, затем ее глаза постепенно прояснились.
— A-а, это вы, господин Жильбер. Что вам угодно? — спросила Андре.
— Сударыня, в городе ходят ужасные слухи о том, что завтра произойдет в тюрьмах.
— Да, — подтвердила Андре, — кажется, нас всех собираются зарезать; но вы знаете, господин Жильбер, что я готова к смерти.
Жильбер поклонился.
— Я пришел за вами, сударыня, — сообщил он.
— Вы пришли за мной? — удивилась Андре. — И куда же вы собираетесь меня отвезти?
— Куда пожелаете, сударыня: вы свободны.
Он подал ей приказ об освобождении за подписью Дантона.
Она прочитала этот приказ, но не вернула его доктору, а продолжала держать в руке.
— Мне следовало бы об этом догадаться, доктор, — сказала она, попытавшись улыбнуться, однако лицо ее словно разучилось излучать радость.
— О чем, сударыня?
— О том, что вы попытаетесь помешать мне умереть.
— Сударыня, на свете есть одно существо, которое мне было бы, верно, дороже отца с матерью, если бы Бог дал мне отца или мать, — это вы!
— Да, и именно поэтому вы однажды уже нарушили данное мне слово.
— Я его не нарушал, сударыня: я послал вам яд.
— Через моего сына!
— Я же вам не говорил, кого я к вам пришлю.
— Итак, вы обо мне позаботились, господин Жильбер? Вы вошли ради меня в пещеру дикого зверя? Вы вышли оттуда с талисманом, отворяющим любую дверь?
— Я же вам сказал, сударыня, что, пока я буду жив, вы не сможете умереть.
— Ну, на сей раз, господин Жильбер, — заметила Андре с более явной улыбкой, — мне кажется, смерть у меня в руках!
— Сударыня, заявляю вам, что, если даже мне придется применить силу, чтобы вырвать вас отсюда, я все равно не допущу вашей, смерти.
Не проронив ни слова в ответ, Андре разорвала приказ на четыре части и бросила его в огонь.
— Попробуйте! — сказала она.
Жильбер вскрикнул.
— Господин Жильбер, — продолжала Андре, — я отказалась от мысли о самоубийстве, но вовсе не от мысли о смерти.
— О сударыня! Сударыня! — горестно вздохнул Жильбер.
— Господин Жильбер, я хочу умереть!
Жильбер простонал.
— Все, о чем я вас прошу, — продолжала Андре, — это постараться найти мое тело и спасти его от надругательств, которых оно не избежало при жизни… Господин де Шарни покоится в склепе в своем замке, в Бурсонне; в этом замке я провела единственные счастливые дни моей жизни, там мне и хотелось бы лежать рядом с мужем.
— Сударыня, во имя Неба заклинаю вас…
— А я, сударь, прошу вас во имя своего несчастья!
— Хорошо, сударыня; раз вы так говорите, я обязан во всем вам повиноваться. Я ухожу, но побежденным себя не считаю.
— Не забудьте о моей последней воле, сударь, — попросила Андре.
— Если только мне не удастся вас спасти вопреки вашему желанию, сударыня, — пообещал Жильбер, — она будет исполнена.
Еще раз поклонившись Андре, Жильбер удалился.
Дверь захлопнулась за ним с мрачным скрежетом, свойственным тюремным дверям.
Назад: Часть шестая
Дальше: XII ДНЕМ 2 СЕНТЯБРЯ

