Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 21. Анж Питу 1995.
Назад: XVIII ДОКТОР ЖИЛЬБЕР
Дальше: Часть вторая
XXII
КОРОЛЬ ЛЮДОВИК XVI
Свидание Жильбера с г-жой де Сталь и г-ном де Неккером длилось около полутора часов. Жильбер возвратился в Париж в четверть десятого, приказал везти его прямо на почтовую станцию, нанял там экипаж с лошадьми и, отправив Бийо и Питу отдыхать от треволнений в маленькую гостиницу на улице Тиру, где Бийо обычно останавливался во время приездов в Париж, поскакал в Версаль.
Было уже поздно, но Жильбера это не останавливало. Люди его склада испытывают настоящую потребность в действии. Поездка его могла и не принести пользу, но он предпочитал бесполезную поездку сидению на месте: для нервических характеров неизвестность мучительнее самой ужасной реальности.
В Версаль он прибыл в половине одиннадцатого. Обычно в эту пору здесь все спало глубоким сном, но в тот вечер весь Версаль бодрствовал: сюда только что докатились отзвуки того потрясения, от которого еще дрожал Париж.
Французские гвардейцы, королевские телохранители и швейцарцы, собравшись кучками на всех перекрестках главных улиц, вели беседы меж собой или с теми гражданами, чья приверженность королю не вызывала сомнений.
Дело в том, что Версаль испокон веков был городом роялистов. Вера в монархию, если не в монарха, в крови у здешних жителей. Живя подле королей и милостями королей, под сенью их великолепия, вечно вдыхая пьянящий аромат королевских лилий, видя блеск золототканых одежд и сияние августейших улыбок, жители мраморно порфирного Версаля чувствуют и себя немного королями; даже сегодня, когда мрамор обрастает мхом, а между плитами пробивается трава, когда с деревянных панелей осыпается последняя позолота, когда в парках стоит могильная тишина, Версаль — этот обломок падшей королевской власти — не изменяет своему прошлому и, утратив возможность гордиться могуществом и богатством, стремится сохранить, по крайней мере, поэзию печальных воспоминаний и властное очарование меланхолии.
Итак, в ночь с 14 на 15 июля 1789 года, как мы сказали, весь Версаль глухо волновался, ожидая, как примет король Франции это оскорбление, нанесенное его короне, этот удар, нанесенный его власти.
Мирабо своим ответом г-ну де Дре-Брезе дал королевской власти пощечину.
Народ взятием Бастилии ранил ее в сердце.
Тем не менее люди недалекие и близорукие долго не раздумывали, особенно военные, привыкшие видеть во всяком событии победу либо поражение грубой силы; для них речь шла просто-напросто о том, чтобы пойти походом на Париж: тридцать тысяч солдат и двадцать орудий быстро собьют с парижан спесь и прекратят их буйное торжество.
Никогда еще у королевской власти не было столько советчиков: каждый высказывал свое мнение вслух, на людях.
Самые умеренные говорили:
— Все очень просто.
Нетрудно заметить, что эту формулировку у нас употребляют, как правило, именно тогда, когда все очень сложно.
— Все очень просто, — говорили эти мудрецы, — для начала следует получить от Национального собрания санкцию, в которой оно не откажет. С недавнего времени позиция его сделалась весьма обнадеживающей для всех французов; оно так же мало заинтересовано в буйстве низов, как и в злоупотреблениях верхов.
Собрание объявит четко и ясно, что бунт — преступление, что горожанам не следует браться за оружие и проливать кровь, если у него есть депутаты, способные поведать королю обо всех его невзгодах, и король, способный вынести справедливый приговор.
Вооруженный этой декларацией, которая несомненно будет получена от Национального собрания, король не преминет по-отечески, то есть сурово, наказать парижан.
Тогда тучи рассеются, королевская власть возвратит себе первейшее из своих прав, народ вспомнит о том, что его долг — послушание, и все пойдет, как шло от века.
Так рассуждали в большинстве своем завсегдатаи Курла-Рен, Елисейских полей и бульваров.
Однако на Плас-д’Арм и в окрестностях казарм раздавались иные речи.
Там сновали люди пришлые, с умными лицами и загадочным взглядом; они кстати и некстати изрекали таинственные пророчества, преувеличивали и без того грозные новости и проповедовали почти не таясь соблазнительные идеи, которые вот уже два месяца волновали Париж и будоражили предместья.
Вокруг этих людей собирались мрачные, агрессивные, возбужденные слушатели, которым ораторы напоминали об их нищете, об их страданиях, о грубом презрении к ним монархии. О несчастиях народа им говорили:
— Народ борется уже восемь столетий, и чего он добился? Ничего. У него нет социальных прав, нет и прав политических; его положение ничем не лучше, чем у фермерской коровы, у которой отбирают теленка, чтобы отвести на бойню, отбирают молоко, чтобы продать на рынке, отбирают жизнь, чтобы получить мясо и кожу. В конце концов монархия под давлением обстоятельств принуждена была пойти на уступки и созвать представителей сословий; но сегодня, когда представители эти собрались в Париже, что делает монархия? Она давит на них с самого первого дня работы Генеральных штатов. Если Национальное собрание все-таки было создано, то произошло это против воли короля. Так вот: раз наши парижские братья оказали нам такую грозную помощь, подтолкнем Национальное собрание вперед. Каждый его шаг на политическом поприще, где идет сражение, — наша победа; это расширение наших владений, это приумножение нашего богатства, это освящение наших прав. Вперед, граждане! Вперед! Бастилия не что иное, как форпост тирании! Форпост взят, осталось захватить самую крепость!
В укромных уголках собирались иные сборища, говорились иные речи. Те, кто их произносил, принадлежали, бесспорно, к высшему сословию; их белые руки и изысканный выговор выдавали то, что призвано было скрыть простонародное платье.
— Народ! — призывали эти ораторы. — Узнай правду: тебя обманывают и те, что просят тебя отступить назад, и те, что толкают тебя вперед. Тебе толкуют о политических и социальных правах, но стал ли ты счастливее с тех пор, как получил право выдвигать депутатов и благодаря их посредничеству участвовать в голосовании? Стал ли ты богаче с тех пор, как у тебя есть представители? Прибавилось ли у тебя хлеба с тех пор, как Национальное собрание принялось издавать декреты? Нет; итак, оставь, брось политику и теории, измышленные книгочеями. Тебе нужны не фразы и максимы, изложенные на бумаге, тебе нужен хлеб и еще раз хлеб; в нем благополучие твоих детей, спокойствие твоей жены. Кто даст тебе все это? Король с твердым характером, молодым умом, великодушным сердцем. Людовик Шестнадцатый не таков, Людовик Шестнадцатый попал под власть жены, бессердечной Австриячки. Тебе нужен другой король. Это… Подумай сам; отыщи подле трона того, кто может сделать Францию счастливой, того, кто навлек на себя ненависть королевы именно тем, что портит ей всю игру, кто любит французов и любим ими.
Таков был глас версальского общественного мнения; так падали в почву семена гражданской войны.
Жильбер послушал, о чем толкуют версальцы, и, уяснив их умонастроение, направился прямо во дворец, охраняемый многочисленными часовыми. От кого? Этого никто не знал.
Несмотря на обилие часовых, Жильбер беспрепятственно пересек все дворы и дошел до самого дворца, не обратив на себя ничьего внимания.
В Бычьем глазу его остановил гвардеец личной охраны короля. Жильбер вытащил из кармана письмо г-на де Неккера и показал гвардейцу подпись. Гвардеец взглянул на нее. Он получил строжайший приказ никого не допускать к королю, но, поскольку строжайшие приказы больше всех прочих нуждаются в уточнениях, гвардеец сказал Жильберу:
— Сударь, приказ недвусмысленный, но очевидно, что в нем случай с посланцем господина де Неккера не был предусмотрен, а вы, должно быть, прибыли к его величеству с важным известием; входите, я беру ответственность на себя.
Жильбер вошел.
Король проводил этот вечер не в своих покоях, а в зале совета, где принимал депутацию национальной гвардии, прибывшую просить его отозвать войска, сформировать буржуазную милицию и избрать своей резиденцией Париж.
Людовик холодно выслушал просителей и отвечал, что должен вначале разобраться в происходящем и обсудить их предложения с королевским советом. Так он и поступил.
Депутаты ожидали его решения на галерее, следя сквозь матовые стекла дверей за гигантскими тенями королевских советников, чьи движения казались угрожающими.
Это фантасмагорическое зрелище наводило их на мысль, что ответ будет неблагоприятный.
Подозрения их оправдались: король коротко ответил, что назначит буржуазной милиции командиров, а войскам, стоящим на Марсовом поле, прикажет отойти.
Что до его присутствия в Париже, сказал он, то этой милости мятежный город сможет удостоиться лишь тогда, когда возвратится к полной покорности.
Депутаты молили, требовали, заклинали. Король отвечал, что сердце его разрывается от боли, однако ничего другого он обещать не может.
Удовлетворенный этим минутным торжеством, этой демонстрацией власти, которой он уже не обладал, Людовик XVI возвратился в свои покои.
Там его ждал Жильбер. Подле него стоял королевский телохранитель.
— В чем дело? — спросил король.
Гвардеец подошел к нему, и, пока он объяснял Людовику XVI причины, побудившие его нарушить приказ, Жильбер, уже много лет не видевший короля, безмолвно и пристально глядел на человека, которого Господь поставил у кормила власти в тот самый момент, когда на Францию обрушились жесточайшие бури.
Короткое толстое тело, вялое и лишенное величественности; дряблое и невыразительное лицо; тусклая молодость, борющаяся с ранней старостью; могучая плоть, подавляющая посредственный ум, которому лишь память о знатнейшем происхождении сообщала некое подобие величия, — для физиогномиста, штудировавшего Лафатера, для магнетизера, читавшего в книге будущего вместе с Бальзамо, для философа, мечтавшего вместе с Жан Жаком, наконец, для путешественника, перед чьим взором прошли бесчисленные человеческие племена, все это значило одно: вырождение, оскудение, бессилие, гибель.
Поэтому Жильбер наблюдал это печальное зрелище с волнением, и его источником было не почтение, но мука.
Король приблизился к нему.
— Сударь, вы привезли письмо от господина де Неккера?
— Да, ваше величество.
— Ах! — воскликнул король, словно прежде сомневался в правдивости слов гвардейца. — Скорей давайте его сюда.
Он произнес эти слова как утопающий, когда он кричит: "Тону! Помогите!".
Жильбер протянул королю письмо. Людовик схватил его и быстро пробежал глазами, а затем приказал гвардейцу:
— Оставьте нас, господин де Варикур.
Гвардеец вышел.
Комнату освещала единственная лампа; казалось, король предпочитал полумрак, ибо не хотел, чтоб посторонние могли прочесть тайные мысли на его лице, выражавшем не столько озабоченность, сколько скуку.
— Сударь, — сказал он, устремив на Жильбера гораздо более пристальный и проницательный взгляд, чем тот ожидал, — верно ли, что вы автор столь поразивших меня записок?
— Да, ваше величество.
— Сколько вам лет?
— Тридцать два, ваше величество, но научные занятия и жизненные невзгоды старят. Считайте меня человеком преклонных лет.
— Отчего вы медлили прийти ко мне?
— Оттого, ваше величество, что я не имел никакой нужды высказывать вам лично те взгляды, которые мог более свободно и непринужденно высказать на бумаге.
Людовик XVI задумался.
— Других причин у вас не было? — спросил он подозрительно.
— Нет, ваше величество.
— Однако, если я не ошибаюсь, по некоторым признакам вы могли понять, что я отношусь к вам весьма благосклонно.
— Ваше величество имеет в виду то свидание, которое пять лет назад в конце моей первой записки я имел дерзость назначить королю, попросив его поставить в восемь часов вечера лампу перед окном, дабы я мог знать, что он прочел мое сочинение.
— Ну и?.. — спросил король, очень довольный.
— И в назначенный день и час лампа стояла на том самом месте, на каком я просил вас ее поставить.
— А после?
— После я видел, как чья-то рука трижды приподняла и опустила ее.
— А после?
— После я прочел в "Газете": "Тот, кого лампа трижды позвала к себе, может явиться за наградой к тому, кто трижды поднимал лампу".
— Объявление было составлено именно в этих выражениях, — подтвердил король.
— Да, вот оно, — сказал Жильбер, доставая из кармана газету, где пять лет назад было напечатано только что пересказанное им объявление.
— Превосходно, просто превосходно, — сказал король, — я давно ждал вас, а встретились мы в то время, когда я уже потерял надежду вас увидеть. Добро пожаловать, вы, как хороший солдат, явились в разгар боя.
Затем, взглянув на Жильбера более внимательно, он продолжал:
— Знаете ли вы, сударь, что для короля это дело не совсем обычное — чтобы тот, кому предложено прийти за наградой, не поспешил предъявить на нее права?
Жильбер улыбнулся.
— Отвечайте-ка, отчего вы не пришли? — потребовал Людовик XVI.
— Оттого, что я не заслуживал никакой награды, ваше величество.
— Как это?
— Я француз, я люблю свою страну, ревностно забочусь о ее благоденствии, полагаю свою судьбу неразрывно связанной с судьбой тридцати миллионов моих сограждан, поэтому, трудясь ради них, я трудился и ради себя. А эгоизм, ваше величество, награды не достоин.
— Это все парадоксы! У вас наверняка имелась другая причина!
Жильбер промолчал.
— Говорите, сударь, я этого хочу.
— Быть может, ваше величество, вы угадали верно.
— Выходит, вы полагали, что дело плохо, и выжидали? — спросил король с тревогой.
— Выжидал, чтобы дела пошли еще хуже. Да, ваше величество, вы угадали верно.
— Я люблю честность, — сказал король, тщетно старавшийся скрыть свое смущение, ибо от природы он был робок и легко краснел. — Итак, вы предсказали королю падение и боялись очутиться под обломками.
— Нет, ваше величество, ибо в тот самый момент, когда стало ясно, что падение неизбежно, я не убоялся опасности.
— Да, да, вы приехали от Неккера и говорите точно как он. Опасность! Опасность! Разумеется, теперь приближаться ко мне опасно. А где, кстати, сам Неккер?
— Полагаю, что совсем рядом и ждет приказаний вашего величества.
— Тем лучше, он мне понадобится, — сказал король со вздохом. — В политике упрямство ни к чему. Думаешь, что поступаешь хорошо, а выходит, что поступаешь плохо, а если поступаешь в самом деле хорошо, все равно слепой случай все путает: планы-то были отличные, а толку никакого нет.
Король еще раз вздохнул; Жильбер пришел ему на помощь.
— Ваше величество, — сказал он, — вы рассуждаете превосходно, но сейчас самое важное — заглянуть в будущее так, как этого до сих пор никто не делал.
Король поднял голову; обычно лицо его было бесстрастно, но тут он слегка нахмурил брови.
— Простите меня, ваше величество, — сказал Жильбер, — я врач. Когда я имею дело с тяжелой болезнью, я стараюсь быть немногословным.
— Вы, стало быть, придаете большое значение сегодняшнему бунту.
— Ваше величество, это не бунт, это революция.
— И вы хотите, чтобы я примирился с мятежниками, с убийцами? Ведь что ни говори, они взяли Бастилию силой — это мятеж; они зарезали господина де Лонэ, господина де Лома и господина де Флесселя — это все убийства.
— Я хотел бы, чтобы вы отличали одних от других, ваше величество. Те, кто взял Бастилию, — герои; те, кто убил господина де Флесселя, господина де Лома и господина де Лонэ, — преступники.
Король слегка покраснел, но румянец тут же сошел с его щек, губы побледнели, а на лбу заблестели капельки пота.
— Вы правы, сударь. Вы настоящий врач или, точнее, хирург, ибо режете по живому. Но вернемся к вам. Вас зовут доктор Жильбер, не так ли? Во всяком случае, сочинения ваши были подписаны этим именем.
— Ваше величество, для меня большая честь убедиться, что у вас такая хорошая память, хотя, по правде говоря, гордиться мне нечем.
— От чего же?
— Оттого, что совсем недавно имя мое, по всей вероятности, было произнесено в присутствии вашего величества.
— Не понимаю.
— Шесть дней назад я был арестован и заключен в Бастилию. Меж тем, как я слышал, ни один важный арест не производится без вашего ведома.
— Вы? В Бастилию?! — вскричал король, широко раскрыв глаза.
— Вот запись о моем водворении в крепость, ваше величество. Заключенный туда, как я уже имел честь доложить вашему величеству, шесть дней назад по приказу короля, я вышел оттуда сегодня в три часа пополудни по милости народа.
— Сегодня?
— Да, ваше величество. Разве вы не слышали пушек?
— Разумеется, слышал.
— Ну так вот: пушки отворили мне двери.
— Я охотно порадовался бы этому, — пробормотал король, — если бы пушки эти стреляли по одной лишь Бастилии. Но они ведь стреляли еще и по королевской власти.
— О ваше величество, не превращайте тюрьму в воплощение принципа. Скажите, напротив того, что вы рады взятию Бастилии, ибо отныне станет невозможно творить именем короля беззакония вроде тех, жертвой которых стал я.
— Но, сударь, в конце концов ваш арест имел какие-то причины?
— Насколько мне известно, ваше величество, ни одной; меня схватили сразу после моего возвращения во Францию и тут же заключили в тюрьму — вот и все.
— Правду сказать, сударь, — мягко укорил Жильбера Людовик XVI, — немного эгоистично с вашей стороны говорить со мной о ваших невзгодах, меж тем как я нуждаюсь в разговоре о моих.
— Дело в том, ваше величество, что мне необходимо услышать от вас только одно слово.
— Какое?
— Да или нет: причастны ли вы к моему аресту?
— Я не знал о вашем возвращении во Францию.
— Я счастлив это слышать, ваше величество; в таком случае я могу заявить во всеуслышание, что зло, творимое вашим именем, чаще всего совершается без вашего ведома, а тем, кто в этом усомнится, приведу в пример себя.
— Доктор, — улыбнулся король, — вы проливаете бальзам на мои раны.
— О ваше величество! Бальзама у меня сколько угодно.
Больше того, если вы захотите, я залечу вашу рану, ручаюсь вам в этом.
— Если я захочу! Какие могут быть сомнения?
— Но нужно, чтобы вы были тверды в своем желании.
— Я буду тверд.
— Прежде чем связывать себя словом, ваше величество, прочтите слова, стоящие на полях записи о моем заключении в Бастилию.
— Какие слова? — спросил король с тревогой.
— Вот какие.
Жильбер подал королю страницу тюремной книги.
Король прочел: "По требованию королевы…".
Он нахмурился.
— Королевы! — сказал он. — Неужели вы попали в немилость к королеве?
— Государь, я уверен, что ее величество знает меня еще меньше, чем вы.
— Но все-таки чем-то вы, должно быть, провинились: просто так в Бастилию не отправляют.
— Выходит, что отправляют, раз я оказался там.
— Но вас послал ко мне господин Неккер и он же подписал указ о заключении вас под стражу?
— Совершенно верно.
— В таком случае подумайте как следует. Поройтесь в вашем прошлом. Быть может, вы вспомните какое-либо обстоятельство, о котором вы и сами забыли.
— Порыться в прошлом? Да, ваше величество, я сделаю это, и сделаю вслух; не тревожьтесь, я не отниму у вас много времени. С шестнадцати лет я работал без устали. Я был учеником Жан Жака, соратником Бальзамо, другом Лафайета и Вашингтона и, с тех пор как покинул Францию, не совершал не только преступлений, но даже ошибок. Сделавшись достаточно сведущим в науках, чтобы лечить больных и раненых, я всегда старался помнить, что отвечаю перед Богом за каждую свою мысль, за каждый свой поступок. Поскольку Господь позволил мне спасать людские жизни, я проливал кровь лишь во имя человечности, беря в руку скальпель хирурга, и всегда готов был отдать свою кровь, чтобы облегчить страдания моего больного или спасти его; когда я лечил людей, я всегда находил для них слова утешения, а нередко и протягивал руку помощи. Так прошло пятнадцать лет. Бог благословил мои усилия: большинство моих пациентов выздоровели; все они лобызали мне руки в знак благодарности. Тех же, кто умер, осудил на смерть сам Господь. Нет, ваше величество, оглядывая мою жизнь за те пятнадцать лет, что я провел вне Франции, я ни в чем не могу себя упрекнуть.
— В Америке вы знались с защитниками новых идей и проповедовали эти идеи в своих сочинениях.
— Да, ваше величество, и оценивать их я предоставлял королям и их подданным.
Король промолчал.
— Теперь, ваше величество, — продолжал Жильбер, — жизнь моя вам известна; я никого не обидел, никого не оскорбил — ни нищего, ни королеву, и пришел к вашему величеству, дабы узнать, за что меня наказали.
— Я поговорю с королевой, господин Жильбер, но скажите: неужели вы полагаете, что указ о заключении вас под стражу исходил непосредственно от нее?
— Я вовсе этого не утверждаю, ваше величество; напротив, я думаю, что королеве принадлежит лишь приписка на полях письма о моем аресте.
— Вот видите! — воскликнул Людовик с крайне довольным видом.
— Да, но вы ведь понимаете, ваше величество, что, если королева делает приписку, значит, она приказывает.
— А кем написана эта бумага? Дайте-ка взглянуть.
— Взгляните, ваше величество, — сказал Жильбер.
И он протянул королю листок с просьбой о заключении под стражу.
— Графиня де Шарни! — воскликнул король. — Как, значит, вы были арестованы по ее желанию! Но чем же вы обидели бедняжку де Шарни?
— Еще сегодня утром, ваше величество, я не знал даже имени этой дамы.
Людовик провел рукою по лбу.
— Шарни! — прошептал он. — Шарни — сама нежность, само целомудрие, сама невинность!
— В таком случае, ваше величество, — засмеялся Жильбер, — выходит, что я оказался в Бастилии по воле этих трех священных добродетелей.
— О, я выясню, в чем тут дело, — сказал король и дернул шнурок звонка.
Вошел слуга.
— Узнайте, не у королевы ли графиня де Шарни, — приказал Людовик.
— Ваше величество, — отвечал слуга, — госпожа графиня только что прошла по галерее и направилась к своей карете.
— Бегите за ней и попросите ее зайти ко мне в кабинет по важному делу.
Затем, обернувшись к Жильберу, он спросил:
— Я угадал ваше желание, сударь?
— Да, — отвечал Жильбер, — и я приношу вашему величеству тысячу благодарностей.
XXIII
ГРАФИНЯ ДЕ ШАРНИ
В ожидании графини де Шарни Жильбер укрылся в оконной нише.
Что же до короля, то он расхаживал по комнате, размышляя о делах государственных, о настойчивости этого Жильбера, под чье влияние он, как ни странно, подпал в пору, когда ничто, кроме новостей из Парижа, казалось бы, не должно было его интересовать.
Внезапно дверь кабинета отворилась, слуга доложил о приходе г-жи графини де Шарни, и сквозь щель в шторах, которые он успел задернуть за собой, Жильбер смог разглядеть женщину, чьи широкие шелковые юбки с шуршанием коснулись створок двери.
Графиня была одета согласно тогдашней моде — на ней было серое в цветную полоску утреннее платье, такая же юбка и шаль, перекрещенная спереди и завязанная на спине, что подчеркивало всю прелесть прекрасной пышной груди.
Маленькая шляпка, кокетливо увенчивавшая высокую прическу, туфельки на высоких каблуках, сидевшие как влитые на ножках безупречной формы, маленькая тросточка в изящных маленьких ручках с длинными аристократическими пальцами, затянутых в превосходные перчатки, — таков был облик особы, которую столь нетерпеливо ожидал Жильбер и которая вошла в кабинет короля Людовика XVI.
Монарх сделал шаг ей навстречу.
— Мне сказали, что вы собирались ехать, графиня?
— В самом деле, — отвечала графиня, — я садилась в карету, когда узнала о приказании вашего величества.
Услышав этот уверенный, звучный голос, Жильбер почувствовал страшный шум в ушах. Кровь прилила к его щекам, тело пронзила судорога.
Он невольно выступил на шаг из своего убежища.
— Она! — прошептал он. — Она… Андре!
— Сударыня, — продолжал король, как и графиня, не заметивший волнения, которое охватило укрывшегося в полумраке Жильбера, — я хотел видеть вас, чтобы получить некоторые сведения.
— Я рада служить вашему величеству.
Король наклонил голову в сторону Жильбера, как бы желая предупредить его.
Тот, понимая, что ему еще не время обнаруживать свое присутствие, потихоньку снова скрылся за шторами.
— Сударыня, — сказал король, — восемь или десять дней назад господин Неккер получил на подпись указ о заключении под стражу…
Сквозь едва заметную щель между шторами Жильбер пристально глядел на Андре. Молодая женщина была бледна, возбуждена, взволнована: казалось, ее гнетет какая-то тайная, безотчетная тревога.
— Вы слышите меня, графиня? — спросил Людовик XVI, видя, что графиня де Шарни не решается ответить.
— Да, ваше величество.
— Так вот! Знаете ли вы, о чем я говорю, и можете ли мне кое-что разъяснить?
— Я пытаюсь вспомнить, — сказала Андре.
— Позвольте мне помочь вашей памяти, графиня. Под письмом с просьбой об указе стоит ваша подпись, а на полях имеется приписка королевы.
Графиня молчала; ею все больше и больше овладевала лихорадочная отрешенность, словно уносящая ее за пределы действительности.
— Отвечайте же, сударыня, — сказал король, начинавший терять терпение.
— Это верно, — дрожащим голосом произнесла Андре, — это верно, я написала такое письмо, а ее величество королева сделала к нему приписку.
— В таком случае — спросил Людовик, — я хотел бы знать, какое преступление совершил человек, к которому вы просили применить столь строгие меры?
— Ваше величество, я не могу сказать вам, какое преступление он совершил, но ручаюсь вам, что преступление это очень тяжкое.
— И вы не можете мне открыть, в чем оно заключается?
— Нет, ваше величество.
— Не можете открыть этого королю?
— Нет. Я молю ваше величество простить меня, но я не могу этого сделать.
— В таком случае откройте это самому преступнику, сударыня, — сказал король, — если вы отказываете королю Людовику Шестнадцатому, то не сможете отказать доктору Жильберу.
— Доктору Жильберу! — вскричала Андре. — Великий Боже! Ваше величество, где он?
Король отошел в сторону, шторы раздвинулись, и из-за них показался доктор, почти такой же бледный, как Андре.
— Вот он, сударыня, — сказал король.
Увидев Жильбера, графиня покачнулась. Ноги ее подкосились. Казалось, она вот-вот лишится чувств; если бы не стоявшее позади нее кресло, на которое она оперлась, она непременно упала бы; с потухшими глазами, с безжизненным лицом, она напоминала Эвридику, в чье сердце проник змеиный яд.
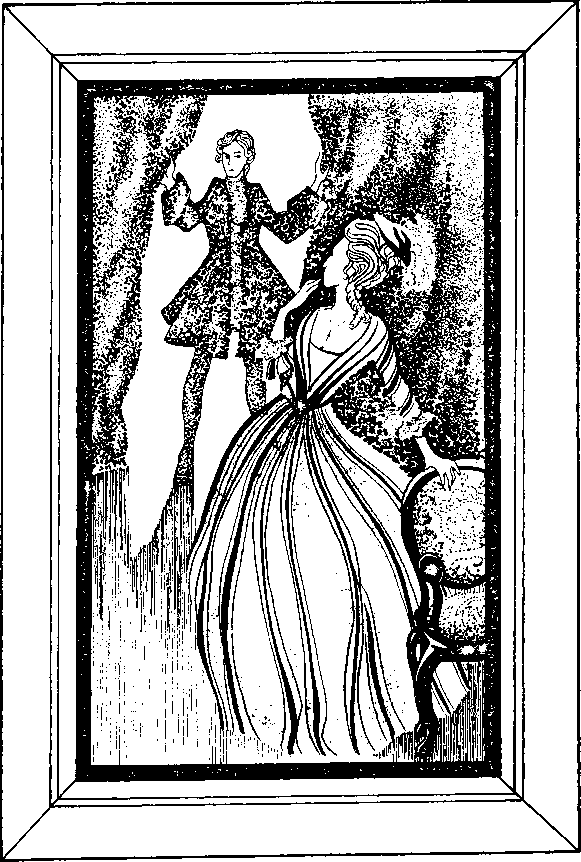
— Сударыня, — повторил Жильбер, кланяясь со смиренным почтением, — позвольте мне повторить вопрос, заданный его величеством.
Губы Андре шевельнулись, но с уст ее не слетело ни единого звука.
— Чем я так прогневал вас, сударыня, что вы приказали заточить меня в эту страшную тюрьму?
Услышав звуки его голоса, Андре содрогнулась; казалось, сердце ее рвется пополам.
Затем вдруг она остановила на Жильбере ледяной, змеиный взгляд.
— Я не знаю вас, сударь, — проговорила она.
Однако, пока она произносила эти слова, Жильбер тоже не сводил с нее глаз, и таково было неодолимое бесстрашие его взгляда, что графиня потупилась и глаза ее погасли.
— Графиня, — сказал король с мягким упреком, — подумайте сами, как сильно злоупотребили вы вашей подписью. Перед вами господин, которого, по вашим же словам, вы не знаете; господин этот — многоопытный, ученый врач, ведь его вы не можете ни в чем упрекнуть…
Андре подняла голову и обожгла Жильбера взглядом, полным истинно королевского презрения.
Но доктор сохранял спокойную гордость.
— Так вот, — продолжал король, — не имея ничего против господина Жильбера, преследуя кого-то другого, вы покарали невинного. Графиня, это дурно.
— Ваше величество! — воскликнула Андре.
— О, я знаю, у вас доброе сердце, — перебил ее король, немало напуганный необходимостью огорчить фаворитку своей жены, — если бы вы стали кого-либо преследовать, то только по заслугам, но вы ведь понимаете, как важно, чтобы в будущем подобные недоразумения не повторялись.
Затем он обратился к Жильберу:
— Видите ли, доктор, в случившемся виноваты не столько люди, сколько времена. Мы родились в развращенный век и в нем же умрем, но мы, по крайней мере, постараемся подготовить для потомков лучшее будущее, в чем вы, доктор Жильбер, надеюсь, мне поможете.
И Людовик смолк, уверенный, что сказал довольно, чтобы угодить обеим сторонам.
Бедный король! Произнеси он подобную фразу в Национальном собрании, она была бы не только встречена рукоплесканиями, но и повторена назавтра во всех газетах, поддерживаемых двором.
В аудитории же, состоящей из двух заклятых врагов, миротворческая философия короля не снискала успеха.
— С позволения вашего величества, — сказал Жильбер, — я попросил бы вас, сударыня, повторить сказанное вами сейчас, а именно то, что вы со мной не знакомы.
— Графиня, — спросил король, — согласны вы исполнить просьбу доктора?
— Я не знакома с доктором Жильбером, — повторила Андре недрогнувшим голосом.
— Но вы знакомы с другим Жильбером, моим тезкой, чье преступление тяготеет надо мной?
— Да, — подтвердила Андре, — я с ним знакома и считаю его подлецом.
— Ваше величество, мне не пристало допрашивать графиню, — сказал Жильбер. — Благоволите узнать у нее, какие подлости совершил этот человек.
— Графиня, вы не можете отказать господину Жильберу в столь обоснованной просьбе.
— Какие подлости он совершил? — воскликнула Андре. — Об этом, конечно, знает королева, ибо она сопроводила мою просьбу о его аресте собственноручной припиской.
— Однако, — возразил король, — мнения королевы еще недостаточно; было бы неплохо, чтобы ее убежденность разделял и я. Королева есть королева, но я в конце концов — король.
— В таком случае, ваше величество, знайте: тот Жильбер, о котором идет речь в моем письме, совершил шестнадцать лет назад ужасное преступление.
— Ваше величество, соблаговолите спросить у госпожи графини, сколько лет сейчас этому человеку.
Король повторил вопрос Жильбера.
— Лет тридцать, — отвечала Андре.
— Ваше величество, — сказал Жильбер, — если преступление было совершено шестнадцать лет назад, его совершил не мужчина, а ребенок; предположим, что с тех пор мужчина не переставал раскаиваться в преступлении, совершенном ребенком, — разве не заслуживает он в этом случае некоторой снисходительности?
— Как, сударь, — удивился король, — выходит, вы знаете того Жильбера, о котором вдет речь?
— Я знаю его, ваше величество, — ответил Жильбер.
— И он не повинен ни в чем другом, кроме юношеского проступка?
— Насколько мне известно, с того дня как он совершил преступление — преступление, ваше величество, а не проступок, ибо я не столь снисходителен, как вы, — с того дня ни единое существо в целом свете ни в чем не могло его упрекнуть.
— Ни в чем, кроме составления отвратительных, источающих яд пасквилей.
— Ваше величество, спросите у госпожи графини, не было ли истинной причиной ареста этого Жильбера желание предоставить полную свободу действий его неприятелям, точнее, его неприятельнице, дабы она могла завладеть неким ларцом, содержащим некие бумаги, способные скомпрометировать одну знатную придворную даму.
Андре задрожала всем телом.
— Сударь! — прошептала она.
— Графиня, что это за ларец? — спросил король, от которого не укрылись трепет и бледность графини.
— О сударыня, — вскричал Жильбер, почувствовавший себя хозяином положения, — оставим уловки, оставим увертки! Довольно лжи и с вашей, и с моей стороны. Я тот Жильбер, что совершил преступление, я тот Жильбер, что сочинял пасквили, я тот Жильбер, что владел ларцом. Вы — знатная придворная дама. Пусть нас рассудит король: предстанем перед его судом и поведаем нашему королю, а с ним и Господу обо всем, что произошло между нами, и, покамест Господь не вынес своего приговора, выслушаем приговор короля.
— Говорите что вам заблагорассудится, сударь, — отвечала графиня, — но мне сказать нечего, я вижу вас впервые в жизни.
— А о ларце впервые в жизни слышите?
Графиня сжала кулаки и до крови закусила бледную губу.
— Да, — сказала она, — впервые вижу и впервые слышу.
Но, для того чтобы выдавить из себя эти слова, ей пришлось совершить такое усилие, что она покачнулась, точно статуя при начале землетрясения.
— Сударыня, — сказал Жильбер, — берегитесь, вы ведь, надеюсь, не забыли, что я ученик человека по имени Джузеппе Бальзамо, и власть над вами, какою обладал он, перешла ко мне; спрашиваю в первый раз, согласны ли вы ответить на мой вопрос? Где мой ларец?
— Нет, — сказала графиня, находившаяся в чрезвычайном смятении и, казалось, готовая броситься вон из комнаты. — Нет, нет, нет!
— Ну что ж! — ответил Жильбер, в свой черед побледнев и угрожающе воздев руку. — Ну что ж! Стальная душа, алмазное сердце, согнись, разбейся, смирись под неодолимым напором моей воли! Ты не хочешь говорить, Андре?
— Нет, нет! — вскричала обезумевшая от ужаса графиня. — Спасите меня, ваше величество! Спасите!
— Ты заговоришь, — сказал Жильбер, — и никто, ни король, ни Бог, не спасет тебя, ибо ты в моей власти; ты заговоришь, ты раскроешь всю свою душу перед августейшим свидетелем этой торжественной сцены. И все, что прячется в тайниках твоего сознания, все, что лишь Господь может прочесть в темных глубинах души, — все это, государь, вы сейчас узнаете от нее самой, хоть она и отказывается говорить. Засните, госпожа графиня де Шарни, засните и начинайте свой рассказ. Я так хочу!
Не успел доктор произнести эти слова, как крик, сорвавшийся было с уст графини, оборвался на середине, она протянула вперед руки и в поисках опоры, поскольку ноги отказывались держать ее, упала в объятия короля, который, сам дрожа с головы до ног, усадил ее в кресло.
— О, я слышал об этом, — сказал Людовик XVI, — но никогда ничего подобного не видел. Она ведь заснула магнетическим сном, не так ли, сударь?
— Да, ваше величество. Возьмите госпожу графиню за руку и спросите, отчего она добивалась моего ареста, — отвечал Жильбер.
По его тону можно было подумать, что в этой комнате всем распоряжается он один.
Людовик XVI, совсем потерявший голову при виде этих чудес, отступил на два шага назад, чтобы убедиться, что он бодрствует и что все происходящее у него на глазах — не сон; затем, страстно желая узнать разгадку тайны, как желает математик вывести новую формулу, он приблизился к графине и взял ее за руку.
— Послушайте, графиня, — сказал он, — добивались вы ареста доктора Жильбера или нет?
Но графиня, хотя и спала, сделала последнее усилие, вырвала свою руку и, собрав оставшиеся силы, произнесла:
— Нет, я не стану говорить.
Король взглянул на Жильбера, как бы спрашивая, чья воля победит: его или графини?
Жильбер улыбнулся.
— Вы не станете говорить? — спросил он.
И, не сводя глаз со спящей Андре, сделал шаг в сторону ее кресла.
Андре содрогнулась.
— Не станете говорить? — повторил он, сократив расстояние, отделявшее его от графини, еще на шаг.
Тело Андре напряглось в последней схватке.
— Ах, так вы не станете говорить! — сказал он в третий раз и, оказавшись совсем рядом с Андре, протянул руку над ее головой. — Значит, вы не станете говорить!
Андре корчилась в страшных судорогах.
— Осторожнее! — воскликнул Людовик XVI. — Осторожнее, вы убьете ее!
— Не бойтесь, ваше величество, я имею дело только с душой; душа сопротивляется, но она уступит.
Он опустил руку и опять приказал:
— Говорите!
Андре выпрямилась и попыталась вздохнуть, словно под колпаком машины, откачивающей воздух.
— Говорите! — повторил Жильбер, снова опустив руку.
Все мускулы молодой женщины были так напряжены, что казалось, они вот-вот лопнут. На губах ее выступила пена, судороги выдавали начало эпилептического припадка.
— Доктор! Доктор! — взмолился король. — Осторожнее!
Но доктор, не слушая его, в третий раз опустил руку и, дотронувшись ладонью до головы графини, снова приказал:
— Говорите! Я так хочу!
Почувствовав прикосновение этой руки, Андре вздохнула, руки ее бессильно повисли вдоль тела, откинутая назад голова опустилась на грудь, а из-под закрытых век потекли обильные слезы.
— Боже мой! Боже мой! — шептала она.
— Призывайте Господа сколько хотите; тот, кто сам действует во имя Господне, его не боится.
— О, как я вас ненавижу! — воскликнула графиня.
— Ненавидьте меня, но говорите!
— Ваше величество, ваше величество! — взмолилась Андре. — Скажите ему, что он испепеляет, пожирает, убивает меня.
— Говорите! — вновь повторил Жильбер.
Затем он жестом показал королю, что тот может начинать расспросы.
— Так, значит, графиня, доктор и есть тот человек, которого вы хотели заключить под стражу?
— Да.
— Ни ошибки, ни путаницы не было?
— Нет.
— А ларец?
— Но не могла же я оставить этот ларец в его руках! — глухо проговорила графиня.
Жильбер и король обменялись взглядами.
— И вы его забрали? — спросил Людовик XVI.
— Я приказала его забрать.
— Ну-ка, ну-ка, расскажите-ка все по порядку, графиня, — воскликнул король, позабыв об условностях и опускаясь на колени подле кресла, в котором сидела Андре. — Значит, вы приказали его забрать?
— Да.
— Откуда и каким образом?
— Я узнала, что этот Жильбер за шестнадцать лет уже дважды бывал во Франции и скоро приедет сюда в третий раз, чтобы остаться у нас навсегда.
— А ларец?
— Начальник полиции господин де Крон сообщил мне, что во время одного из своих приездов Жильбер приобрел земли в окрестностях Виллер-Котре и что фермер, арендующий их, пользуется его полным доверием; я заподозрила, что ларец находится у него.
— Как же вы это заподозрили?
— Я была у Месмера. Я заснула и увидела ларец.
— Где же он был?
— На первом этаже, в большом шкафу, под бельем.
— Изумительно! — сказал король. — А дальше? Дальше? Говорите.
— Я вернулась к господину де Крону, и он по совету королевы предоставил в мое распоряжение одного из самых ловких своих агентов.
— Его имя? — потребовал Жильбер.
Андре содрогнулась, словно ее обожгло каленым железом.
— Я спрашиваю у вас его имя.
Андре попыталась сопротивляться.
— Его имя, я приказываю вам сказать его имя!
— Волчий Шаг, — произнесла графиня.
— А дальше? — спросил король.
— Вчера утром этот человек завладел ларцом. Вот и все.
— Нет, это еще не все, — возразил Жильбер, — теперь вы должны сказать королю, где находится ларец.
— О, это уж слишком, — произнес Людовик XVI.
— Нет, ваше величество.
— Но мы сможем узнать у этого Волчьего Шага или у господина де Крона…
— О нет, мы все узнаем скорее и точнее у госпожи графини.
Андре судорожно сжимала зубы, и казалось, что они вот-вот сломаются; она делала все возможное, чтобы слова не сорвались с ее уст.
Король обратил внимание доктора на эти судороги.
Жильбер улыбнулся.
Он дотронулся большим и указательным пальцем до подбородка графини, и ее лицевые мускулы в ту же секунду расслабились.
— Для начала, госпожа графиня, подтвердите королю, что этот ларец в самом деле принадлежит мне, — потребовал доктор.
— Да, да, это его ларец, — с яростью произнесла спящая.
— А где он сейчас? — спросил Жильбер. — Живее, живее, у короля нет времени ждать.
Андре на секунду замешкалась.
— У Волчьего Шага, — сказала она.
Как ни мимолетно было замешательство графини, Жильбер заметил его.
— Вы лжете! — воскликнул он. — Или, точнее, пытаетесь солгать. Где ларец? Я хочу это знать!
— В моем версальском доме, — сказала Андре и разразилась слезами; все ее тело сотрясала нервная дрожь. — В моем доме, где Волчий Шаг уже давно ждет меня. Я назначила ему прийти в одиннадцать.
Часы пробили полночь.
— Он ждет до сих пор?
— Да.
— В какой комнате?
— Его провели в гостиную.
— В каком месте гостиной он находится?
— Он стоит подле камина.
— А ларец?
— На столе перед ним. Ах!
— Что такое?
— Нужно поскорее выпроводить его. Господин де Шарни, который собирался вернуться только завтра, из-за сегодняшних событий переменил планы. Я вижу его. Он уже в Севре. Выпроводите сыщика, граф не должен его видеть.
— Ваше величество, вы все слышали. Где дом графини де Шарни в Версале?
— Где вы живете, графиня?
— На бульваре Королевы, ваше величество.
— Прекрасно.
— Ваше величество, вы слышали ее слова. Ларец принадлежит мне. Угодно ли королю, чтобы он был возвращен владельцу?
— Немедленно, сударь.
И король, заслонив кресло, в котором сидела г-жа де Шарни, ширмой, позвал дежурного офицера и шепотом отдал ему приказания.
XXIV
КОРОЛЕВСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Это странное времяпрепровождение, избранное королем в тот самый момент, когда подданные подкапывались под его трон, эта любознательность ученого по отношению к удивительному явлению природы, выказанная в тот самый момент, когда Франция стояла на пороге важнейшего политического явления — превращения монархии в демократию, это самозабвение монарха, оставившего попечение о собственных делах в разгар страшной бури, безусловно вызвало бы улыбку на лицах величайших мыслителей эпохи, уже три месяца бившихся над решением мучившей их проблемы.
За окнами дворца бушевал мятеж, а Людовик, забыв об ужасных происшествиях 14 июля, о взятии Бастилии, о гибели де Флесселя, де Лонэ и де Лома, о настроениях в Национальном собрании, готовом восстать против королевской власти, — забыв обо всем этом, предался разрешению вопроса сугубо частного, и разгадка этой тайны волновала короля ничуть не меньше, чем судьба королевства.
Поэтому, отдав гвардейскому капитану приказание отправиться за ларцом, он немедленно возвратился к Жильберу, который тем временем освобождал графиню от излишнего магнетического воздействия, чтобы ее сомнамбулические конвульсии сменились спокойным сном.
Через мгновение графиня уже спала спокойно и безмятежно, словно младенец в колыбели. Тогда Жильбер одним движением руки велел ей открыть глаза и привел ее в состояние экстаза.
Тут перед доктором и королем престала во всем своем великолепии изумительная красота Андре. Кровь ее, совершенно очистившись от земной скверны, отлила от щек, которые мгновением раньше окрашивала румянцем, а сердце начало биться с обычной размеренностью; лицо ее вновь побледнело и матовым цветом стало напоминать лица красавиц Востока; взор открытых чуть шире обычного глаз устремился к небу; слегка раздувавшиеся ноздри, казалось, вдыхали неземные ароматы, наконец, губы, в отличие от щек нисколько не побледневшие и сохранившие свой ярко-алый цвет, приоткрылись и обнажили два ряда жемчужных зубов, чуть влажных и оттого еще более блестящих.
Голову графиня с неизъяснимым, почти ангельским изяществом легонько откинула назад.
Казалось, будто ее неподвижный взгляд, устремленный в одну, очень далекую точку, достигает подножия престола Господня.
Короля это зрелище ослепило. Жильбер, вздохнув, отвел глаза: он не устоял против желания сообщить Андре эту сверхчеловеческую красоту, и теперь, уподобившись Пигмалиону, но Пигмалиону, вдвойне несчастному, ибо, зная о бесчувственности прекрасной статуи, был устрашен творением своих рук.
Даже не повернув головы, он жестом приказал Андре закрыть глаза.
Король пожелал, чтобы Жильбер объяснил ему причины этого чудесного состояния, в котором душа отделяется от тела и, вольная, счастливая, богоподобная, воспаряет над земными страданиями.
Подобно всем подлито высоким умам, Жильбер был способен произнести слова, мучительные для посредственностей: "Я не знаю". Он признался королю в своем неведении: он добивался результатов, не в силах объяснить их источник; факт существовал, но причина его оставалась неведомой.
— Вот, доктор, еще одна загадка, которую природа хранит для ученых мужей грядущих поколений, — сказал король, выслушав признание Жильбера. — Время прольет свет на эту тайну, равно как и на многие другие проблемы, считавшиеся неразрешимыми. Тайнами зовем их мы, а отцы наши назвали бы колдовством или чародейством.
— Да, ваше величество, — отвечал Жильбер с улыбкой, — во времена наших отцов я имел бы честь быть сожженным на Гревской площади ради вящей славы той религии, которую никто из тогдашних людей как следует не понимал, а костер для меня разожгли бы невежественные ученые и неверующие священники.
— Кто же обучил вас этой науке? — спросил король. — Месмер?
— О ваше величество, — снова улыбнулся Жильбер, — я наблюдал удивительнейшие свершения этой науки за десять лет до того, как имя Месмера стало известно французам.
— Скажите же мне, по-вашему, этот Месмер, взбудораживший весь Париж, шарлатан или нет? Мне кажется, вы употребляете более простые средства. Я кое-что слышал об опытах Месмера, Делона и Пюисепора. Вы ведь наверняка тоже знаете все эти рассказы и можете отличить правду от вздора.
— Да, ваше величество, я следил за всеми этими спорами.
— И какого же вы мнения о пресловутом чане?
— Да простит мне ваше величество, если на все вопросы об искусстве магнетизма я отвечу сомнением в том, что магнетизм — искусство.
— Неужели это не так?
— Да, магнетизм не искусство, но это сила, страшная сила, подавляющая свободную волю, разлучающая душу с телом, предающая тело сомнамбулы во власть магнетизера и лишающая спящего способности и даже воли к сопротивлению. Я, ваше величество, наблюдал удивительные явления, я сам творил немало удивительного — и все же я сомневаюсь.
— Как, вы сомневаетесь? Вы творите чудеса — и сомневаетесь?!
— Нет, сейчас я не сомневаюсь. В настоящую минуту доказательство существования неслыханной, неведомой силы у меня перед глазами. Но стоит этому доказательству исчезнуть, стоит мне очутиться дома, остаться наедине с книгами, со всеми достижениями человеческой науки за три тысячи лет, как я снова начинаю сомневаться.
— А ваш учитель, доктор? Он тоже сомневался?
— Быть может, но он был не так откровенен, как я, и не сознавался в этом.
— Вы учились у Делона? Или у Пюисепора?
— Нет, ваше величество, нет. Мой учитель был на голову выше тех, кого вы назвали. На моих глазах он творил подлинные чудеса, особенно когда дело касалось ран; я не знаю науки, в которой он не был бы сведущ. Он постиг секреты египетских ученых, проник в тайны древней ассирийской цивилизации: то был мудрый ученый, грозный философ, в ком жизненная опытность соединялась с непреклонной волей.
— Я знал его? — спросил король.
Жильбер помедлил, колебаясь.
— Да, ваше величество.
— Его звали?..
— Ваше величество, — сказал Жильбер, — произнося это имя перед королем, я рискую прогневить его. А в этот час, когда большинство французов стали относиться к королевской особе без должного почтения, я не хотел бы набросить ни малейшей тени на то уважение, с каким мы обязаны относиться к вашему величеству.
— Вы можете без боязни назвать мне имя этого человека, доктор Жильбер; будьте уверены, у меня тоже есть своя философия, философия достаточно здравая, чтобы позволить мне с улыбкой сносить обиды настоящего и угрозы будущего.
Несмотря на это одобрение, Жильбер все еще колебался.
Король приблизился к нему.
— Сударь, — сказал он с улыбкой, — если вы назовете мне Сатану, я отыщу против Сатаны кольчугу, какой нет и никогда не будет у ваших теоретиков; в наш век я, быть может, один владею ею и не стыжусь этого: я говорю о религии!
— В самом деле, ваше величество верует так же истово, как веровал Людовик Святой, — сказал Жильбер.
— В этом, признаюсь вам, доктор, вся моя сила; я люблю науку, обожаю достижения материализма; вы ведь знаете, я сведущ в математике, и сложение двух чисел, созерцание алгебраической формулы наполняют меня радостью; однако, встречая людей, доводящих алгебру до безбожия, я возвращаюсь к своей вере: она ставит меня одновременно и выше и ниже их; выше — применительно к добру; ниже — применительно к злу. Вы видите, доктор, что я человек, которому все можно поведать, король, который все способен выслушать.
— Ваше величество, — отвечал Жильбер едва ли не с восхищением, — я благодарен за все, что услышал; вы удостоили меня доверия, какое оказывают друзьям.
— О, я хотел бы, чтобы вся Европа услышала эти мои слова, — поспешно откликнулся Людовик XVI, робкий от природы. — Если бы французы знали, сколько решимости и нежности таится в моем сердце, они, я думаю, не стали бы так сопротивляться мне.
Окончание фразы, выдавшее в короле властителя, оскорбленного непокорностью подданных, повредило Людовику XVI в глазах Жильбера.
Доктор поспешил признаться без всяких приготовлений:
— Ваше величество, я повинуюсь: моим учителем был граф де Калиостро.
— Ах, этот эмпирик! — покраснев, вскричал Людовик.
— Эмпирик… Да, ваше величество, — согласился Жильбер. — Ведь вашему величеству наверняка известно, что слово, употребленное вами, — одно из благороднейших слов в устах ученых. Эмпирик — значит человек, совершающий опыты. Вечно проводить опыты, ваше величество, — это для мыслителя, для практика, одним словом, для человека значит совершать все самое великое и прекрасное, что Господь дозволил творить людям. Пусть человек совершает опыты всю свою жизнь — это залог того, что жизнь его пройдет недаром.
— Но, сударь, — возразил Людовик XVI, — ваш Калиостро — великий ненавистник королей.
— Ваше величество, вероятно, хотели сказать — королев?
Людовик вздрогнул, как от укола иглы.
— Да, — сказал он, — в этой истории с принцем Луи де Роганом он сыграл весьма двусмысленную роль.
— Ваше величество, в этом случае, как и во всех прочих, Калиостро повиновался своему человеческому призванию: он ставил опыты, преследуя собственные цели. В науке, морали, политике нет ни добра, ни зла, нет ничего, кроме доказанных явлений и добытых фактов. Впрочем, я не защищаю Калиостро. Повторяю, человек может быть достоин порицания, хотя в один прекрасный день само это порицание может превратиться в одобрение, ибо потомки не всегда разделяют взгляды своих предшественников; однако я брал уроки не у человека, но у философа и ученого.
— Хорошо, оставим это, — сказал Людовик, чья душевная рана до сих пор кровоточила, ибо он тогда был оскорблен вдвойне — и как король и как муж, — мы забыли о госпоже графине, а она, возможно, дурно себя чувствует.
— Я разбужу ее, ваше величество, если вам это угодно, но я бы предпочел, чтобы она проснулась, когда ларец будет уже у меня.
— Почему?
— Чтобы избавить ее от слишком сурового урока.
— Я слышу шаги, — сказал король. — Подождите немного.
В самом деле, приказание короля было исполнено в точности; ларец, отыскавшийся в особняке де Шарни в руках сыщика по кличке Волчий Шаг, доставили в королевский кабинет прямо на глазах графини; впрочем, она не могла этого увидеть.
Король знаком выразил офицеру, принесшему ларец, свое удовлетворение; офицер вышел.
— Итак? — спросил Людовик XVI.
— Итак, ваше величество, это украденный у меня ларец.
— Откройте его, — приказал король.
— Ваше величество, я готов это сделать, если такова ваша воля. Я должен только предупредить ваше величество об одной вещи.
— О чем же?
— Ваше величество, как я уже говорил, в этом ларце нет ничего, кроме бумаг; их легко вынуть и прочесть, однако от них зависит честь женщины.
— И эта женщина — графиня?
— Да, ваше величество; но ее честь пострадает оттого, что вы узнаете ее тайну. Откройте, ваше величество, — сказал Жильбер и подал королю ключ.
— Сударь, — холодно возразил Людовик XVI, — возьмите этот ларец, он принадлежит вам.
— Благодарю вас, ваше величество, но как нам быть с графиней?
— О, только не будите ее здесь. Я хотел бы избежать новых сюрпризов, криков и слез.
— Ваше величество, — отвечал Жильбер, — госпожа графиня проснется там, где вам будет угодно.
— Прекрасно, в таком случае пусть она проснется в покоях королевы.
Людовик позвонил. Вошел офицер.
— Господин капитан, — сказал король, — госпожа графиня, узнав о сегодняшних парижских происшествиях, лишилась чувств. Прикажите отнести ее в покои королевы.
— Сколько времени займет дорога? — спросил Жильбер у короля.
— Не больше десяти минут — ответил Людовик.
Доктор простер руки над графиней.
— Вы пробудитесь через четверть часа, — приказал он.
Двое солдат по приказу офицера составили вместе два кресла и вынесли на них графиню из комнаты.
— Что вам еще угодно от меня, господин Жильбер? — осведомился король.
— Ваше величество, я хотел бы просить вас о милости, которая приблизила бы меня к вам и дала возможность быть вам полезным.
— Что вы имеете в виду? — удивился король.
— Я хотел бы стать королевским медиком, — сказал Жильбер, — это никому не внушит подозрений. Медик короля — доверенное лицо, остающееся в тени; пост важный, но не блестящий.
— Решено, — сказал король. — Прощайте, господин Жильбер. Да, чуть не забыл: сердечный привет Неккеру. Прощайте.
С этими словами Людовик вышел из комнаты, попутно приказав слугам: "Ужинать!".
Забыть об ужине он не мог ни при каких обстоятельствах.
XXV
В ПОКОЯХ КОРОЛЕВЫ
Пока король учился философически сражаться с революцией и осваивал на этот предмет оккультные науки, королева, исповедовавшая философию совсем иной глубины и основательности, собрала в своем большом кабинете всех тех, кого звали ее приверженцами (без сомнения, оттого, что ни одному из них еще не довелось проверить и доказать свою верность).
Гости королевы также пересказывали друг другу страшные подробности прошедшего дня.
Больше того, королева узнала о случившемся первой, ибо, зная ее бесстрашие, подданные не побоялись известить ее об опасности.
Королеву окружали генералы, придворные, священники и знатные дамы.
У завешенных гобеленами дверей стояли группами пылкие и отважные юные офицеры, видевшие в бунтах черни лишь долгожданный случай блеснуть своим воинским искусством перед дамами, как то делали средневековые рыцари на турнирах.
Все завсегдатаи покоев королевы, верные слуги монархии, внимательно выслушали последние парижские новости, сообщенные очевидцем событий г-ном де Ламбеском: он прискакал в Версаль во главе своего полка, в усыпанном тюильрийской пылью мундире, и поспешил утешить правдой перепуганных людей, рисовавших себе несчастье, и без того немалое, еще более ужасным, чем на самом деле.
Королева сидела у стола.
То уже не была нежная и прекрасная невеста, ангел-хранитель Франции, которая — мы это видели — в начале этой истории пересекла северную границу с оливковой ветвью в руке. Не была это и прекрасная, грациозная государыня, явившаяся однажды вечером с принцессой де Ламбаль в таинственное жилище Месмера, собираясь усесться весело и недоверчиво подле символического чана, скрывавшего тайну ее будущего.
Нет! Это была надменная и полная решимости королева, женщина с нахмуренными бровями и презрительно кривящейся губой; женщина, в чьем сердце нежное и животворное чувство любви потеснилось, уступив место первым каплям желчи — яда, который будет беспрестанно вливаться в ее кровь.
Одним словом, это была женщина с третьего портрета Версальской галереи, не Мария Антуанетта и не королева Франции, но та, которую уже не называли иначе, чем Австриячкой.
За ее спиной в полумраке неподвижно полулежала на софе, откинув голову на подушку и прижав ладонь ко лбу, молодая женщина.
То была г-жа де Полиньяк.
Завидев г-на де Ламбеска, королева подалась вперед с отчаянной и радостной решимостью, как бы говоря: "Будь что будет, лучше узнать всю правду".
Господин де Ламбеск поклонился, знаком показав, что просит прощения за грязные сапоги, запыленный мундир и погнувшуюся саблю, не до конца входящую в ножны.
— Итак, господин де Ламбеск, — сказала королева, — вы только что из Парижа?
— Да, ваше величество.
— Что делает народ?
— Поджигает и убивает.
— От безумия или из ненависти?
— Нет, из кровожадности.
Королева задумалась, на первый взгляд готовая разделить мнение принца о народе. Затем, тряхнув головой, она возразила:
— Нет, принц, народ не жаждет крови, во всяком случае, не жаждет ее без причины. Вы что-то скрываете. В чем дело — в умоисступлении или в ненависти?
— Что мне сказать? Я полагаю, государыня, что это ненависть, дошедшая до умоисступления.
— Ненависть к кому? Ах, вы снова колеблетесь, принц; берегитесь, если вы будете так говорить со мной, я, вместо того чтобы спрашивать вас, пошлю в Париж одного из своих курьеров; он потратит час на дорогу туда, час на пребывание в Париже, час на обратную дорогу и через три часа поведает мне о случившемся без затей и уверток, как это сделал бы гомеровский вестник.
С улыбкой на устах к королеве приблизился г-н де Дре-Брезе.
— Однако, государыня, — сказал он, — что вам до ненависти народа? Вам не должно быть до нее никакого дела. Народ может ненавидеть кого угодно, но не вас.
Королева даже не удостоила ответом эти льстивые речи.
— Смелее, принц, смелее! — приказала она г-ну де Ламбеску. — Говорите.
— Что ж, сударыня, я скажу: народом владеет ненависть.
— Ко мне?
— Ко всем, кто им правит.
— В добрый час, вот теперь вы сказали правду, я это чувствую, — решительно заключила королева.
— Я солдат, ваше величество, — ответил принц.
— Вот и прекрасно! В таком случае говорите с нами как солдат. Что следует предпринять?
— Ничего, ваше величество.
Услышав эти слова, рыцари королевы в расшитых мундирах и при золоченых шпагах возроптали.
— Как ничего? — вскричала Мария Антуанетта. — В тот час, когда народ, по вашим собственным словам, поджигает и убивает, вы, лотарингский принц, говорите королеве Франции, что ничего не следует предпринимать?!
Слова Марии Антуанетты также вызвали среди присутствующих шепот, на сей раз одобрительный.
Королева обернулась и обвела взглядом своих приближенных, стараясь отыскать среди множества горящих глаз те, в которых сверкал самый сильный огонь, ибо огонь этот казался ей залогом наибольшей верности.
— Ничего предпринимать не следует, — повторил принц, — ибо если дать парижанину остыть, он остынет; он берется за оружие, лишь если его доводят до крайности. Зачем оказывать ему столь великую честь, принимая его вызов и ставя на карту нашу победу? Сохраним спокойствие, и через три дня в Париже и речи не будет о бунте.
— Но Бастилия, сударь!
— Бастилия! Мы закроем ее ворота, и те, в чьих руках она оказалась, окажутся в наших руках, вот и все.
Среди молчаливых слушателей раздались смешки.
Королева сказала:
— Осторожнее, принц, теперь вы успокаиваете меня даже сверх меры.
Задумавшись, подперев ладонью подбородок, она направилась к софе: на ней, по-прежнему уйдя в себя, бледная и печальная, полулежала г-жа де Полиньяк.
В глазах ее был написан ужас; лишь когда королева с улыбкой остановилась перед ней, графиня улыбнулась в ответ, но и улыбка эта была бессильной и поблекшей, словно увядший цветок.
— Итак, графиня, — спросила королева, — что вы обо всем этом думаете?
— Увы, ничего, — отвечала та.
— Как, неужели совсем ничего?
— Ничего.
И графиня кивнула с неизъяснимым отчаянием.
— Веселей, веселей! — шепнула королева на ухо графине. — Милая Диана всего боится.
Затем она произнесла вслух:
— А где же наша неустрашимая графиня де Шарни? Мне кажется, ей пора нас успокоить.
— Графиня садилась в карету, но ее позвали к королю.
— Ах, к королю, — рассеянно повторила Мария Антуанетта.
Тут только она заметила, что в покоях ее стоит странная тишина.
Самые стойкие сердца, узнав о неслыханных, невероятных происшествиях, слухи о которых в несколько приемов дошли до Версаля, исполнились страха и в еще большей степени изумления; с каждым новым известием охватившее их оцепенение становилось все сильнее.
Королева поняла, что должна вдохнуть бодрость в души своих удрученных рыцарей.
— Итак, никто не хочет помочь мне советом? — сказала она. — Что ж! Придется мне держать совет с самой собой.
Гости придвинулись ближе.
— Сердце у народа не злое, — продолжала Мария Антуанетта, — он просто сбился с пути. Он нас не знает, оттого и ненавидит; позволим же ему познакомиться с нами поближе.
— А после накажем его за то, что он усомнился в своих повелителях, ведь это преступление, — произнес чей-то голос.
Королева взглянула в ту сторону, откуда донесся этот голос, и увидела г-на де Безанваля.
— Ах, это вы, барон, — сказала она. — Каково ваше мнение?
— Я уже высказал свое мнение, государыня, — ответил Безанваль с поклоном.
— Хорошо, — согласилась королева, — король накажет виновных, но по-отечески.
— Кого люблю, того и бью, — отвечал барон и, обернувшись к г-ну де Ламбеску, спросил:
— Вы разделяете мои взгляды, принц? Народ виновен в убийствах…
— Которые он, к несчастью, именует справедливой местью, — глухо произнес мягкий молодой голос, и королева мгновенно обернулась на него.
— Вы правы, принцесса, но в этом-то и состоит его ошибка, милая моя Ламбаль; будем же снисходительны.
— Однако, — робко возразила принцесса, — прежде чем решать, должны ли мы покарать народ, следовало бы, мне кажется, выяснить, способны ли мы с ним справиться.
Истина, сорвавшаяся с этих благородных уст, была встречена всеобщим криком осуждения.
— Способны ли мы с ним справиться?! Да ведь у нас есть швейцарцы! — возражал один.
— А немцы? — добавлял другой.
— А гвардия короля? — подхватывал третий.
— Здесь затронута честь армии и дворянства! — воскликнул юноша в мундире лейтенанта гусарского полка Бершени, стоявший в группе офицеров. — Неужели мы заслужили этот позор? Знайте, ваше величество, что король может завтра же, если пожелает, поставить под ружье сорок тысяч человек, бросить их на Париж и разрушить его до основания. Ведь сорок тысяч человек, преданных королю, стоят полумиллиона взбунтовавшихся парижан.
У юноши, произнесшего эти слова, безусловно, имелось в запасе еще немалое число подобных доводов, но он умолк, видя устремленные на него глаза королевы; забывшись в верноподданническом пылу, он пошел несколько дальше, чем позволяли его воинское звание и светские приличия.
Поэтому, как мы сказали, он резко замолчал, устыдившись произведенного его речью впечатления.
Но было уже поздно, речь эта запала королеве в душу.
— Вам известно положение дел, сударь? — спросила она благожелательно.
— Да, ваше величество, — отвечал юноша, зардевшись, — я был на Елисейских полях.
— В таком случае, сударь, подойдите сюда и выскажите откровенно все ваши соображения.
Зардевшись еще сильнее, юноша выступил вперед и приблизился к королеве.
В то же мгновение принц де Ламбеск и г-н де Безанваль, не сговариваясь, отошли в сторону, словно считали ниже своего достоинства присутствовать при беседе королевы с этим юнцом.
Королева не обратила — или сделала вид, что не обратила, — внимания на их уход.
— Вы говорите, сударь, что у короля сорок тысяч солдат? — спросила она.
— Да, ваше величество: в Сен-Дени, Сен-Манде, на Монмартре и в Гренеле.
— Подробнее, сударь, расскажите подробнее! — потребовала королева.
— Ваше величество, господа де Ламбеск и де Безанваль разбираются во всем этом куда лучше меня.
— Продолжайте, сударь. Мне хочется услышать подробности из ваших уст. Кто командует этими сорока тысячами?
— Прежде всего — господа де Безанваль и де Ламбеск; затем принц де Конде, господин де Нарбонн-Фрицлар и господин де Салкенайм.
— Верно ли это, принц? — осведомилась королева, обернувшись к г-ну де Ламбеску.
— Да, ваше величество, — с поклоном отвечал принц.
— На Монмартре, — продолжал юноша, — сосредоточен целый артиллерийский парк; в течение шести часов весь квартал близ Монмартра может быть сожжен дотла. Стоит Монмартру открыть огонь, стоит Венсену подхватить стрельбу, стоит десяти тысячам человек выйти на Елисейские поля, другим десяти тысячам подойти к заставе Анфер, третьим — выйти на улицу Сен-Мартен, а четвертым — двинуться от Бастилии, стоит парижанам услышать пальбу со всех сторон, — и Париж падет не позднее чем через сутки.
— Ах, наконец-то я слышу откровенные речи; наконец-то нашелся человек, имеющий точный план. Как вы полагаете, господин де Ламбеск?
— Я полагаю, — пренебрежительно отвечал принц, — что господин гусарский лейтенант — превосходный полководец.
— По крайней мере, — возразила королева, видя, что молодой офицер побледнел от гнева, — этот лейтенант — солдат, на которого можно положиться.
— Благодарю вас, ваше величество, — ответил юный офицер с поклоном. — Я не знаю, какое решение вы примете, но умоляю числить меня среди тех, кто готов умереть за вас, причем готовность эту разделяют со мной, прошу вас в это поверить, остальные сорок тысяч солдат, не говоря уж о наших командирах.
С этими словами юноша галантно поклонился принцу, почти оскорбившему его.
Галантность эта поразила королеву даже сильнее, чем предшествовавшие ей уверения в преданности.
— Как ваше имя, сударь? — спросила она у юного офицера.
— Барон де Шарни, государыня, — отвечал тот с поклоном.
— Де Шарни! — воскликнула Мария Антуанетта, невольно зардевшись. — Значит, вы приходитесь родственником графу де Шарни?
— Я его брат, ваше величество.
И юноша отвесил королеве поклон еще более низкий и изящный, чем все предыдущие.
— Мне следовало бы с самого начала узнать в вас одного из самых верных моих слуг, — сказала королева, справившись с замешательством и бросив на окружающих взгляд, исполненный прежней уверенности в себе. — Благодарю вас, барон; как могло случиться, что я впервые вижу вас при дворе?
— Сударыня, мой старший брат, заменяющий мне отца, приказал мне остаться в полку, и за те семь лет, что я имею честь служить в королевской армии, я был в Версале лишь дважды.
Королева пристально вгляделась в лицо юноши.
— Вы похожи на брата, — сказала она. — Я побраню его за то, что он не представил вас ко двору.
Простившись с бароном де Шарни, Мария Антуанетта возратилась к своей подруге г-же де Полиньяк, которую вся эта сцена не вывела из забытья, чего, однако, нельзя сказать обо всех остальных гостях королевы. Офицеры, воодушевленные ласковым обращением королевы с молодым де Шарни, воспылали еще большим желанием защитить честь короны, и отовсюду стали раздаваться грозные восклицания, свидетельствовавшие о готовности покорить, по меньшей мере, всю Францию.
Мария Антуанетта не преминула воспользоваться этим умонастроением, безусловно отвечавшим ее тайным мыслям.
Она предпочитала борьбу смирению, смерть — капитуляции. Поэтому, едва узнав о парижских событиях, она решилась, насколько хватит сил, противостоять мятежному духу, грозившему гибелью всему государственному устройству Франции.
На свете есть две слепые, безрассудные силы: сила цифр и сила надежд.
Цифра, за которой следует армия нулей, способна померяться мощью с целым миром.
Точно так же обстоит дело с желаниями заговорщика или деспота: пыл, в основании которого лежит еле теплящаяся надежда, рождает грандиозные замыслы, впрочем испаряющиеся так быстро, что даже не успевают сгуститься в туман.
Нескольких слов барона де Шарни и последовавших за ними приветственных криков было довольно, чтобы Мария Антуанетта вообразила себя предводительницей великой армии; она уже слышала, как катятся к месту боя ее пушки, призванные не убивать, но наводить ужас, и радовалась испугу парижан, словно окончательной победе.
Окружавшие ее мужчины и женщины, опьяненные молодостью, доверчивостью и влюбленностью, толковали о блестящих гусарах, могучих драгунах, страшных швейцарцах, шумливых канонирах и издевались над грубыми пиками с необструганными древками, не сознавая, что острие этих пик грозит гибелью благороднейшим умам Франции.
— Я, — прошептала принцесса де Ламбаль, — боюсь пики больше, чем ружья.
— Потому что смерть от пики более уродлива, дорогая моя Тереза, — со смехом отвечала королева. — Но, как бы там ни было, не тревожься. Наши парижские копейщики не стоят прославленных швейцарских копейщиков из Мора, к тому же у швейцарцев есть в запасе не только пики, но и превосходные мушкеты, из которых они, благодарение Богу, стреляют с превеликой меткостью!
— О! За это я ручаюсь, — подтвердил г-н де Безанваль.
Королева снова взглянула на г-жу де Полиньяк, чтобы узнать, вернули ли ей все эти доводы хоть немного спокойствия, но графиня, казалось, стала еще бледнее и печальнее.
Мария Антуанетта, относившаяся к подруге с такой нежностью, что часто забывала о королевском достоинстве, тщетно пыталась развеселить ее.
Молодая женщина хранила прежнюю мрачность и, судя по всему, предавалась самым мучительным раздумьям.
Но отчаяние ее повлияло лишь на настроение королевы. Юные офицеры с прежним пылом обсуждали план предстоящей битвы, а командиры их беседовали с бароном де Шарни.
В тот миг, когда это лихорадочное возбуждение достигло наивысшей точки, в покои королевы один, без охраны и без доклада, улыбаясь, вошел король.
Не в силах сдержать волнения, которым она заразила своих гостей, королева бросилась ему навстречу.
Все, кто был в ее покоях, при виде короля смолкли, и в комнате воцарилась мертвая тишина: каждый ждал слов властителя, тех слов, что воодушевляют и покоряют.
Как известно, когда в воздухе скапливается много электричества, малейшего сотрясения оказывается достаточно, чтобы высечь искру.
В глазах придворных король и королева, двигавшиеся навстречу друг другу, были двумя электрическими зарядами, и из столкновения их не могла не возникнуть молния.
Итак, придворные с трепетом ожидали первых слов, какие сорвутся с королевских уст.
— Ваше величество, — сказал Людовик XVI, — из-за всех эти происшествий мне забыли подать ужин; сделайте милость, прикажите принести его сюда.
— Сюда? — изумленно повторила королева.
— С вашего позволения.
— Но… ваше величество…
— Я нарушил вашу беседу. Ну что ж, за столом мы ее продолжим.
Короткое слово "ужин" погасило всеобщее возбуждение. Однако последняя фраза короля: "за столом мы ее продолжим" — была произнесена с таким хладнокровием, что даже королева не могла не признать: за этим спокойствием кроется немалое мужество.
Конечно же, король хотел показать, насколько он выше сиюминутных страхов.
Увы! Дочь Марии Терезии не могла поверить, что в такой час потомок Людовика Святого по-прежнему пребывает во власти обычных материальных потребностей.
Мария Антуанетта заблуждалась. Король просто-напросто хотел есть.
XXVI
КАК УЖИНАЛ КОРОЛЬ ВЕЧЕРОМ 14 ИЮЛЯ 1789 ГОДА
Мария Антуанетта приказала накрыть для короля маленький столик прямо в ее покоях.
Однако дело пошло вовсе не так, как ожидала королева. Людовик XVI заставил умолкнуть всех ее приближенных лишь для того, чтобы они не отвлекали его от ужина.
Пока Мария Антуанетта пыталась вновь воодушевить своих сторонников, король поглощал яства.
Офицеры сочли этот гастрономический сеанс недостойным потомка Людовика Святого и, сбившись в кучки, смотрели на короля с куда меньшим почтением, чем следовало бы.
Королева покраснела, она сгорала от нетерпения. Ее тонкая, аристократическая, нервная натура не могла постичь этого господства материи над духом. Она подошла к королю, надеясь, что это соберет вокруг его стола начавших расходиться придворных.
— Государь, — спросила она, — нет ли у вас каких-нибудь приказаний?
— Что вы, сударыня, — отвечал Людовик с набитым ртом, — какие могут быть приказания? Разве что в эти тяжелые дни вы станете нашей Эгерией.
И он мужественно продолжил сражение с начиненной трюфелями молодой куропаткой.
— Ваше величество, — ответила королева, — Нума был миролюбивый государь. А нам сегодня, по всеобщему убеждению, нужен король воинственный, и если вашему величеству угодно искать примеры в древности, то, раз уж вы не можете сделаться Тарквинием, вам следовало бы стать Ромулом.
Король улыбнулся с почти блаженным спокойствием.
— А эти господа — люди воинственные? — спросил он, поворачиваясь к стоявшим поодаль офицерам.
Лицо его раскраснелось от еды; придворным же показалось, что оно воодушевлено отвагой.
— Да, ваше величество! — закричали они хором. — Мы мечтаем о войне! Мы хотим только одного — войны!
— Господа, господа! — остановил их король. — Мне, разумеется, весьма приятно сознавать, что в случае надобности я могу на вас рассчитывать. Но в настоящую минуту я слушаюсь только двух наставников: королевского совета и своего желудка; первый присоветует мне, как действовать впредь, а по совету второго я уже действую.
И он с хохотом протянул прислуживавшему ему официанту полную объедков тарелку и взял чистую.
Шепот изумления и гнева пробежал по толпе дворян, готовых по первому знаку короля пролить за него кровь.
Королева отвернулась и топнула ногой.
К ней подошел принц де Ламбеск.
— Видите, ваше величество, — сказал он, — король, без сомнения, полагает, подобно мне, что лучше всего подождать. Его величество действует так из осторожности; и, хотя я, к несчастью, не могу похвастать этой добродетелью, я уверен, что осторожность — качество по нашим временам весьма необходимое.
— Да, сударь, вы правы: весьма необходимое, — повторила королева, до крови кусая губы.
Со смертельным отчаянием в душе, терзаемая мрачными предчувствиями, она отошла к камину.
Разница в настроении короля и королевы потрясла всех. Королева с трудом удерживала слезы. Король продолжал поглощать ужин с аппетитом, отличавшим всех Бурбонов и вошедшим в поговорку.
Неудивительно, что зал постепенно опустел. Гости стали исчезать, как тает при первых солнечных лучах снег в садах, обнажая местами черную унылую землю.
Увидев, что рыцари, на которых она так рассчитывала, покинули ее, королева почувствовала, как утрачивается ее могущество; так некогда по дуновению Божию полчища ассирийцев и амалекитян гибли в морской пучине или ночном мраке.
От тягостных мыслей ее оторвал нежный голос графини Жюль, подошедшей к ней вместе со своей невесткой г-жой Дианой де Полиньяк.
При звуках этого голоса будущее, представившееся было гордячке-королеве в мрачном свете, вновь явилось ее воображению в цветах и пальмовых ветвях: искренняя и верная подруга стоит десятка королевств.
— О, это ты, ты, — прошептала она, обняв графиню Жюль, — значит, одна подруга у меня все-таки осталась.
И слезы, так долго сдерживаемые ею, ручьями полились из ее глаз, омыли ее щеки и оросили грудь; впрочем, слезы эти были не горькими, а сладостными, они не мучили, но облегчали душу.
Мгновение королева молча сжимала графиню в своих объятиях.
Молчание нарушила герцогиня, державшая невестку за руку.
— Ваше величество, — начала она робко, как бы стыдясь собственных слов, — я хочу открыть вам один план, который, быть может, не вызовет у вас осуждения.
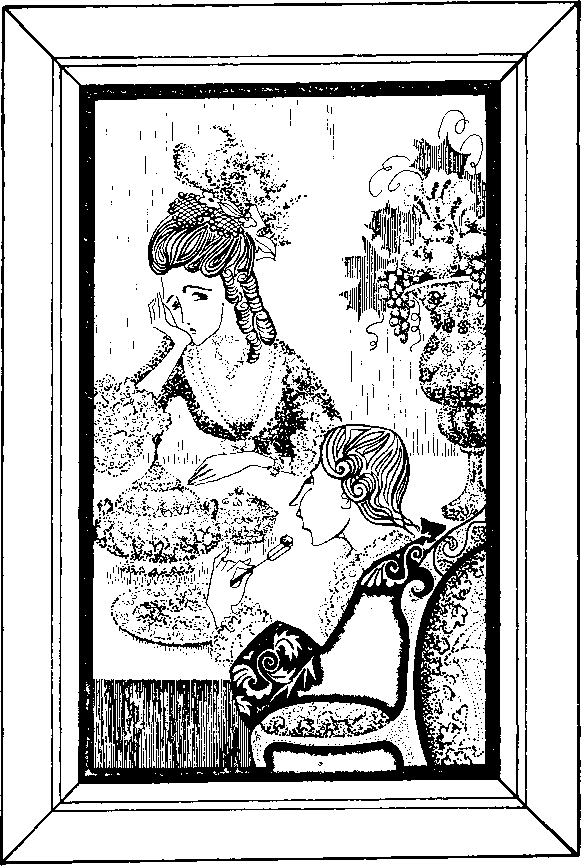
— Какой план? — спросила королева, вся обратившись в слух. — Говорите, герцогиня, говорите скорее.
По-прежнему опираясь на плечо своей фаворитки-графини, королева приготовилась выслушать герцогиню Диану.
— Ваше величество, — продолжала герцогиня, — то, что я намереваюсь вам поведать, не мое мнение, а суждение лица, чья беспристрастность не вызывает сомнений — ее королевского высочества мадам Аделаиды, тетушки короля.
— К чему столько приуготовлений, дорогая герцогиня, — весело воскликнула королева, — переходите прямо к делу!
— Ваше величество, дела складываются нерадостно. Народ сильно преувеличивает милости, оказанные вами нашей семье. Клевета пятнает августейшую дружбу, которой вы благоволите отвечать на нашу почтительную преданность.
— Неужели, герцогиня, вы находите, что я вела себя без должной отваги? — удивилась королева. — Разве я не отстаивала нашу дружбу, идя наперекор общественному мнению, двору, народу, даже самому королю?
— О, напротив, ваше величество, вы с беспредельным благородством поддерживали своих друзей, защищая их собственной грудью и отражая направленные против них удары; именно поэтому сегодня, в минуту большой, быть может даже ужасной опасности, эти друзья показали бы себя бесчестными трусами и дурными слугами, если бы не встали в свой черед на защиту королевы.
— Ах, как это хорошо, как прекрасно! — вскричала Мария Антуанетта и, пылко обняв графиню, пожала руку герцогине де Полиньяк.
Однако обе дамы, вместо того чтобы гордо поднять голову от монаршей ласки, побледнели.
Госпожа Жюль де Полиньяк попыталась высвободиться из объятий королевы, но та крепко прижимала ее к себе.
— Быть может, — пробормотала г-жа Диана де Полиньяк, — вы, ваше величество, не совсем хорошо понимаете, что именно мы имеем честь предложить вам, дабы отвратить от вашего трона и от самой вашей особы бедствия, причиной коих может оказаться ваша драгоценная дружба. Есть мучительное средство, горькая для наших сердец жертва, которую мы, однако, обязаны принести, ибо такова необходимость.
При этих словах настала очередь королевы побледнеть, ибо в скромной и сдержанной речи герцогини она, вместо отважной и преданной дружбы, различила страх.
— Говорите же, герцогиня, — приказала она. — О какой жертве идет речь?
— О, жертву должны принести одни мы, ваше величество, — был ответ Дианы. — Мы, Бог знает почему, сделались для французов предметом ненависти; избавив ваш двор от своего присутствия, мы вернем ему прежний блеск, вернем вам любовь народа, которую наше присутствие гасит либо извращает.
— Вы хотите покинуть меня? — гневно воскликнула королева. — Кто это сказал? Кто это придумал?
Потерянно взглянув на потупившуюся графиню Жюль, королева тихонько отстранила ее от себя.
— Не я, — отвечала графиня Жюль. — Я, напротив, хочу остаться рядом с вами.
Однако тон, каким были произнесены эти слова, говорил: "Прикажите мне уехать, ваше величество, и я уеду".
О священная дружба, священная цепь, способная связать королеву и служанку неразрывными узами! О священная дружба, в коей больше героизма, чем в любви и честолюбии, этих благородных болезнях сердца человеческого! И королева мгновенно разбила обожаемый алтарь, воздвигнутый ею в собственном сердце; одного взгляда ей достало, чтобы увидеть то, чего она не могла разглядеть в течение десяти лет: холодности и расчетливости; пусть оба порока были простительны, объяснимы, быть может даже законны, но разве может измена того, кто предал свою любовь, казаться простительной, объяснимой, законной тому, кто еще любит?
Мария Антуанетта отомстила за причиненную ей муку лишь холодным взглядом, которым смерила свою подругу с ног до головы.
— Так вот каково ваше мнение, герцогиня Диана! — сказала она, прижимая дрожащую руку к груди.
— Увы, сударыня, — отвечала та, — я слушаюсь не своих желаний, но велений судьбы.
— Разумеется, герцогиня, — отвечала Мария Антуанетта. — А вы, графиня? — обратилась она к графине Жюль.
У той по щеке скатилась слеза — знак раскаяния, сжигающего ее душу, — но это усилие отняло у нее последние силы.
— Прекрасно, — сказала королева, — прекрасно. Мне отрадно видеть, как сильно я любима. Благодарю вас, графиня; конечно, здесь вам грозят опасности; конечно, ярость черни не знает предела; конечно, вы обе правы, а я сумасбродка. Вы хотите остаться, вы жертвуете собой — я этой жертвы не принимаю.
Графиня Жюль подняла на королеву свои прекрасные глаза. Но вместо дружеской преданности королева прочла в них смятение перепуганной женщины.
— Итак, вы, герцогиня, решились уехать? — спросила королева, подчеркнув голосом слово "вы".
— Да, ваше величество.
— Вы, разумеется, направитесь в какое-нибудь из ваших дальних поместий… самых дальних?..
— Государыня, для того, кто решился уехать, решился покинуть вас, пятьдесят льё такое же огромное расстояние, как и сто пятьдесят.
— Так, значит, вы едете за границу?
— Увы! Да, сударыня.
Сердце королевы разрывалось от боли, но она не выдала своей муки ни единым вздохом.
— Куда же вы направитесь?
— На берега Рейна, ваше величество.
— Прекрасно. Вы говорите по-немецки, герцогиня, — произнесла королева с неизъяснимо печальной улыбкой, — уроки вы брали у меня. Что ж, дружба королевы принесла вам хоть какую-то пользу, и я рада этому. — Повернувшись к графине Жюль, она продолжала: — Я не хочу разлучать вас с вашими родными, дорогая графиня. Вы хотите остаться, и я ценю это желание. Но я боюсь за вас и хочу, чтобы вы уехали; больше того, я вам это приказываю!
Тут королева замолчала; волнение сдавило ей горло, и как ни мужественно она держалась, ей, возможно, недостало бы сил сохранить видимость спокойствия, если бы до ее слуха не донесся голос короля, не принимавшего никакого участия в только что описанной сцене.
Людовик как раз приступил к десерту.
— Сударыня, — обратился король к своей супруге, — вас извещают, что к вам кто-то прибыл.
— И все же, государь, — воскликнула королева, отбросив прочь все иные чувства, кроме королевского достоинства, — вам следует отдать приказы. Взгляните, здесь остались именно те трое, кто вам нужен: господин де Ламбеск, господин де Безанваль и господин де Брольи. Приказывайте, государь, приказывайте!
Король поднял на нее отяжелевший, нерешительный взгляд.
— Что вы обо всем этом думаете, господин де Брольи? — спросил он.
— Ваше величество, — отвечал старый маршал, — если вы удалите войска из Парижа, люди скажут, что парижане разбили вас. Но если вы их там оставите, им придется разбить парижан.
— Прекрасно сказано! — вскричала королева, пожав маршалу руку.
Со своей стороны принц де Ламбеск только покачал головой.
— И что же вы мне предлагаете? — спросил король.
— Скомандовать: "Вперед!" — отвечал старый маршал.
— Да… Вперед! — повторила королева.
— Ну что ж, раз вам так этого хочется: "Вперед!"
В эту минуту королеве принесли записку, гласившую:
"Именем Неба! Государыня, не принимайте поспешных решений! Я жду свидания с Вашим величеством".
— Это его почерк! — прошептала королева.
Обернувшись к камеристке, доставившей записку, она спросила:
— Господин де Шарни ждет меня?
— Он прискакал весь в пыли и, кажется, даже в крови.
— Одну минуту, господа, — сказала королева г-ну де Безанвалю и г-ну де Брольи, — подождите меня здесь, я скоро вернусь.
И она торопливо вышла из комнаты.
Король даже не повернул головы.
XXVII
ОЛИВЬЕ ДЕ ШАРНИ
Войдя в своей будуар, королева застала там автора записки, которую только что получила.
То был мужчина лет тридцати пяти, высокий, с лицом мужественным и решительным; серо-голубые глаза, живые и зоркие, как у орла, прямой нос, волевой подбородок сообщали его лицу воинственность, оттеняемую изяществом, с каким он носил мундир лейтенанта королевской гвардии.
Батистовые манжеты его были смяты и порваны, а руки слегка дрожали.
Погнутая шпага плохо входила в ножны.
В ожидании королевы ее гость быстро мерил шагами будуар, что-то лихорадочно обдумывая.
Мария Антуанетта направилась прямо к нему.
— Господин де Шарни! — воскликнула она. — Господин де Шарни, вас ли я вижу?
Тот, к кому она обращалась, низко поклонился, как требовал этикет; королева знаком приказала камеристке удалиться.
Лишь только за ней закрылась дверь, королева, с силой схватив г-на де Шарни за руку, спросила:
— Граф, зачем вы здесь?
— Я полагал, ваше величество, что быть здесь — мой долг, — отвечал граф.
— О нет, ваш долг — с горькой иронией продолжала Мария Антуанетта, — бежать из Версаля, поступая как принято и повинуясь мне, — одним словом, брать пример со всех моих друзей, тревожащихся за мою судьбу; ваш долг — ничем не жертвовать ради меня, ваш долг — расстаться со мной.
— Расстаться с вами? — переспросил он.
— Да, бежать подальше от меня.
— Бежать вас? Кто же бежит от вас, государыня?
— Умные люди.
— Мне кажется, что я человек не глупый, ваше величество, — именно потому я и прибыл в Версаль.
— Откуда?
— Из Парижа.
— Из мятежного Парижа?
— Из Парижа кипящего, хмельного, окровавленного.
Королева закрыла лицо руками.
— О, значит, и от вас я не услышу ничего утешительного! — простонала она.
— Государыня, в нынешних обстоятельствах вам следует требовать от всех вестников только одного — правды.
— А вы скажете мне правду?
— Как всегда, государыня.
— У вас, сударь, честная душа и отважное сердце.
— Я только лишь ваш верный подданный, государыня.
— Тогда пощадите меня, друг мой, не говорите ни слова. Сердце мое разбито; сегодня эту правду, которую всегда говорили мне вы, я впервые слышу от всех моих друзей, и это меня удручает. О граф! Невозможно было скрыть от меня эту правду; ею полно все: багровое небо, грозные слухи, бледные и серьезные лица придворных. Нет, нет, граф, прошу вас: впервые в жизни не говорите мне правды.
Теперь уже граф вгляделся в лицо королевы.
— Вам странно это слышать, — сказала она, — вы почитали меня более храброй, не так ли? О, вам предстоит узнать еще много нового.
Господин де Шарни жестом выразил свое удивление.
— Очень скоро вы сами все увидите, — сказала королева с нервным смешком.
— Вашему величеству нездоровится? — спросил граф.
— Нет, нет! Сядьте подле меня, сударь, и ни слова больше об этой отвратительной политике. Помогите мне забыть о ней…
Граф с печальной улыбкой повиновался.
Мария Антуанетта положила руку ему на лоб.
— Вы горите, — сказала она.
— Да, у меня в голове пылает вулкан.
— А рука ледяная.
И она обеими руками сжала руку графа.
— Сердца моего коснулся могильный холод, — сказал он.
— Бедный Оливье! Я вас уже просила: забудем обо всем этом. Я больше не королева, мне ничто не грозит, никто не питает ко мне ненависти. Нет, я больше не королева, я просто женщина. Что для меня мир? Есть сердце, любящее меня, — разве этого не достаточно?
Граф упал перед короле вой на колени и поцеловал ее ноги с тем почтением, с каким египтяне поклонялись богине Исиде.
— О граф, единственный мой друг, — сказала королева, пытаясь поднять его, — знаете ли вы, как поступила со мной герцогиня Диана?
— Она собралась за границу, — не задумавшись, ответил Шарни.
— Вы угадали! Увы, значит, это можно было предвидеть.
— О Боже! Разумеется, государыня, — отвечал граф. — Теперь может произойти все что угодно.
— Но почему же вы и ваше семейство не собираетесь за границу, если это так естественно? — воскликнула королева.
— Я, государыня, не собираюсь туда прежде всего потому, что глубоко предан вашему величеству и поклялся не вам, но самому себе, что ни на мгновение не расстанусь с вами во время надвигающейся бури. Мои братья не поедут за границу, потому что будут брать пример с меня; наконец, госпожа де Шарни не уедет за границу, потому что она, надеюсь, искренне предана вашему величеству.
— Да, у Андре благородное сердце, — согласилась королева с неприкрытой холодностью.
— От того-то она и не покинет Версаль.
— И это даст мне возможность всегда видеть вас? — осведомилась королева тем же ледяным тоном, стараясь не выдать ревности и презрения.
— Ваше величество оказали мне честь, назначив меня лейтенантом гвардии, — сказал граф де Шарни. — Мой пост — в Версале; я не оставил бы моего поста, если бы вы, ваше величество, не послали меня охранять Тюильри. "Вы должны удалиться", — приказала мне королева, и я повиновался. Так вот, ко всему этому, как известно вашему величеству, графиня де Шарни не имела ни малейшего касательства.
— Вы правы, — сказала королева прежним ледяным тоном.
— Сегодня, — бесстрашно продолжал граф, — я счел, что обязан оставить свой пост в Тюильри и возвратиться в Версаль. Тогда — да не прогневается королева! — я нарушил воинский долг, избрал место, где мне надлежит находиться, — и вот я перед вами. Боится госпожа де Шарни надвигающихся бедствий или нет, собирается она за границу или не собирается, я остаюсь подле королевы… если только королева не сломает мою шпагу; но и тогда, лишившись права сражаться и умереть за нее на версальских паркетах, я сохраню за собой другое право — право убить себя на мостовой, у ворот дворца.
Граф произнес эти простые, искренние слова так мужественно и самоотверженно, что королева отбросила свою гордыню, служившую прикрытием для чувства, роднящего коронованных особ с простыми смертными.
— Граф, — взмолилась она, — никогда не говорите этих слов, не обещайте умереть за меня, ибо, клянусь вам, я знаю, что вы исполните свое обещание.
— О, напротив, я всегда буду говорить об этом! — воскликнул г-н де Шарни. — Я буду говорить об этом всем и всюду и выполню то, о чем говорю, ибо, боюсь, настали времена, когда все, кто любит владык земных, неминуемо погибнут.
— Граф! Граф! Откуда у вас это роковое предчувствие?
— Увы, государыня, — отвечал де Шарни, качая головой, — в пору этой злосчастной войны в Америке меня, как и многих других, охватило лихорадочное стремление к свободе; я тоже захотел принять деятельное участие в освобождении рабов, как тогда говорили, и сделался масоном; я вступил в тайное общество вместе с такими людьми, как Лафайет и Ламеты. Знаете ли вы цель этого общества, сударыня? Истребление тронов. Знаете ли вы его девиз? Три буквы: L.P.D.
— И что означают эти три буквы?
— Lilia pedibus destine — "Лилию ногами растопчи".
— И как же вы поступили?
— Я вышел из общества, ничем не запятнав свою честь; однако на одного выбывшего члена приходилось двадцать только что принятых. Так вот: то, что происходит сегодня, это, сударыня, пролог великой драмы; она готовилась в тиши, во тьме уже целых двадцать лет. Во главе людей, будоражащих Париж, распоряжающихся в ратуше, занявших Пале-Рояль, взявших Бастилию; стоят люди, мне знакомые, — это мои бывшие собратья по тайному обществу. Не обманывайте себя, государыня, все, что свершилось, не результат несчастливого стечения обстоятельств, это мятеж, готовившийся уже давно.
— О, вы так думаете! Вы так думаете, друг мой! — вскричала королева, заливаясь слезами.
— Не плачьте, ваше величество, но постарайтесь понять, — сказал граф.
— Постараться понять! Постараться понять! — повторила Мария Антуанетта. — Чтобы я, королева, я, повелительница двадцати пяти миллионов людей, старалась понять эти двадцать пять миллионов, рожденных повиноваться мне, — понять их, когда они бунтуют и убивают моих друзей? Нет, я никогда не смогу их понять.
— И тем не менее вам придется это сделать, ваше величество, ибо, с тех пор как повиновение наскучило этим людям, рожденным повиноваться вам, они стали видеть в вас врага, и пока зубы этих голодных людей не сделаются достаточно остры для того, чтобы загрызть вас, они будут бросаться на ваших друзей, которых ненавидят еще сильнее, чем вас.
— Быть может, вы хотите уверить меня, господин философ, что они правы? — надменно воскликнула королева; зрачки ее расширились, ноздри раздулись.
— Увы, государыня! Да, они правы, — отвечал граф мягким, ласковым тоном, — ибо, когда я в моем мундире с золотым шитьем, в сопровождении моих лакеев, на чьи ливреи пошло больше серебра, чем потребовалось бы на пропитание трех семей, прогуливаюсь по бульварам в карете, запряженной прекрасными английскими лошадьми, — двадцать пять миллионов голодных людей, именуемых вашим народом, задаются вопросом, какую пользу приношу им я, человек, ничем от них не отличающийся.
— Вот какую пользу вы им приносите, граф! — воскликнула королева, схватив за эфес шпагу графа. — Вы приносите им пользу посредством этой шпаги, служившей вашему отцу при Фонтенуа, вашему деду при Стенкеркене, вашему прадеду при Лансе и Рокруа, вашим предкам при Иври, Мариньяно и Азенкуре. Дворяне приносят пользу французскому народу, сражаясь за него; золото, которым расшиты их камзолы, серебро, которым украшены ливреи их слуг, дворяне завоевали ценою собственной крови. Поэтому не спрашивайте больше, Оливье, какую пользу вы приносите народу, — вы, кто так блестяще владеет шпагой, полученной в наследство от предков!
— Государыня, государыня! — возразил граф, качая головой. — Не говорите так много о дворянской крови; в жилах народа тоже течет кровь, и она пролилась на площади Бастилии; взгляните на тех, кто пал там, пересчитайте мертвые тела, распростертые на алой мостовой, и поймите, что в день, когда ваши пушки стреляли в толпу, сердца этих людей бились так же благородно, как бьются сердца дворян; в этот день, потрясая оружием, непривычным для их рук, эти люди пели под артиллерийским огнем и выказывали отвагу, какую не всегда выказывают храбрейшие из наших гренадеров. О государыня, о моя королева, не смотрите на меня с таким гневом, молю вас. Что такое гренадер? Это синий разукрашенный мундир, под которым бьется точно такое же сердце, как сердце простолюдина. Разве ядру, которое крушит и убивает, не все равно, куда лететь — в человека, одетого в синее сукно, или в человека, едва прикрытого лохмотьями? Разве сердцу не все равно, где остановиться: под холстом или под сукном? Настало время задуматься обо всем этом, государыня; теперь вы имеете дело не с двадцатью пятью миллионами рабов, не с двадцатью пятью миллионами подданных, даже не с двадцатью пятью миллионами человек, но с двадцатью пятью миллионами солдат.
— Которые будут сражаться против меня, граф?
— Да, против вас, ибо они сражаются за свободу, а вы препятствие на пути к ней.
За этими словами графа последовало долгое молчание. Королева прервала его первой.
— Одним словом, вы все-таки сказали мне ту правду, которую я умоляла вас скрыть от меня?
— Увы, государыня, сколько бы я ни прятал эту правду из преданности вам, сколько бы ни набрасывал на нее покрывало из почтения к вам, что бы я ни говорил и что бы ни говорили вы сами, отныне истина вечно пребудет перед вашим величеством; поступайте как угодно — смотрите, слушайте, вдыхайте, осязайте, думайте, мечтайте, — вам ни за что не отделаться от нее! Даже если вы захотите заснуть, дабы забыть о ней, она сядет у вашего изголовья и войдет в ваши сны, чтобы стать реальностью при пробуждении.
— О граф, — гордо произнесла королева, — я знаю сон, который ей не под силу нарушить.
— Этого сна, государыня, — ответил Оливье, — я боюсь не больше, чем ваше величество, а желаю его, быть может, так же сильно, как вы.
— Неужели, — спросила королева с отчаянием, — вы полагаете, что это единственное, оставшееся нам?
— Да, но не будем спешить, государыня, не будем опережать наших врагов, ибо, утомленные бурными событиями, мы все равно кончим этим сном.
И снова молчание, на этот раз еще более безысходное, повисло над собеседниками.
Они сидели рядом. Они касались друг друга, и все же их разделяла бескрайняя пропасть: то были их мысли, устремлявшиеся по волнам будущего в разные стороны.
Королева первой возвратилась к тому, с чего они начали беседу, но возвратилась окольным путем. Пристально взглянув на графа, она спросила: о
— Послушайте, сударь… я должна задать вам последний вопрос о нас… но обещайте сказать мне все, все, все как есть, понимаете?
— Спрашивайте, государыня.
— Вы можете поклясться, что вернулись сюда только ради меня?
— О, вы в этом сомневаетесь!
— Вы можете поклясться, что госпожа де Шарни вам не писала?
— Госпожа де Шарни?
— Послушайте: я знаю, что она собиралась куда-то ехать, я знаю, что ей пришла в голову какая-то мысль… Поклянитесь мне, граф, что вы вернулись не ради нее.
В эту минуту кто-то постучал, а точнее, поскребся в дверь.
— Войдите, — сказала королева.
Вошла камеристка.
— Государыня, — сказала она, — король отужинал.
Граф удивленно взглянул на Марию Антуанетту.
— Что ж тут удивительного? — отвечала она, пожав плечами. — Разве королю не нужно ужинать?
Оливье нахмурил брови.
— Передайте королю, — продолжала королева, ничуть не смутившись, — что я слушаю рассказ о парижских происшествиях, а когда дослушаю, приду поделиться с ним новостями.
Затем она обратилась к де Шарни:
— Вернемся к нашей беседе; король отужинал — следует дать ему время переварить съеденное.
XXVIII
ОЛИВЬЕ ДЕШАРНИ (Продолжение)
Появление камеристки на мгновение прервало беседу, но нисколько не уменьшило двойной ревности, мучившей Марию Антуанетту: женщина ревновала к любви, королева — к власти.
Поэтому, хотя могло показаться, что беседа ее с графом подошла к концу, на самом деле она только начиналась и вот-вот грозила стать куда более резкой, чем прежде: так в сражении после пристрелки наступает недолгое затишье, а потом артиллерия открывает решающий огонь по всему фронту.
Впрочем, дело зашло так далеко, что граф, казалось, желал объяснения так же горячо, как и королева, поэтому, лишь только они снова остались одни, он заговорил первым.
— Вы спрашиваете, — сказал он, — не ради ли госпожи де Шарни я вернулся? Значит, ваше величество, вы забыли о наших клятвах и о том, что я человек чести.
— Да, — отвечала королева, поникнув головой, — да, мы дали друг другу клятву; да, вы человек чести; да, вы обещали принести себя в жертву моему счастью; и эта-то клятва мучит меня сильнее всего, ибо, принося себя в жертву моему счастью, вы одновременно приносите в жертву прекрасную, благородную женщину… — и тем умножаете наши преступления.
— О государыня, вы чересчур строги. Признайте, по крайней мере, что я сдержал слово, что я ничем не погрешил против закона чести.
— Да, вы правы, простите меня, я схожу с ума.
— Не зовите преступлением то, что является плодом случая и необходимости. Нам обоим нелегко дался этот брак, но лишь он мог спасти честь королевы. Мне остается нести его бремя, что я и делаю последние четыре года.
— Да! — воскликнула королева. — Неужели выдумаете, что я не вижу ваших мук, не понимаю вашей печали, скрытой под покровом глубочайшего уважения? Неужели вы думаете, что я не замечаю всего этого?
— Умоляю вас, государыня, — сказал граф с поклоном, — уведомляйте меня обо всем, что вы видите, дабы, если сам я страдаю недостаточно и недостаточно страданий причиняю другим, мои беды и беды тех, кто терпит муки по моей вине, сделались вдвое горше от сознания моего несовершенства сравнительно с вами.
Королева протянула графу руку. Как все исходящее из сердца искреннего и страстного, слова этого человека были исполнены неодолимой силы.
— Итак, государыня, распоряжайтесь мною, не бойтесь, заклинаю вас: я к вашим услугам.
— О да, да, я знаю, что не права; простите меня, все, что вы сказали, — правда. Но если вы скрываете где-то вдали кумир, которому под покровом тайны курите фимиам, если есть в мире уголок, где живет женщина, которую вы обожаете… О! я не смею произнести это слово, оно пугает меня, я сознаю это, когда составляющие его слоги достигают моих ушей. Так вот, если вы храните в своей душе эту тайну, не забывайте, что в глазах всего света и в ваших собственных вы супруг молодой и прекрасной женщины, вы окружаете ее заботой и вниманием, опорой этой женщине служит не только ваша рука, но и ваше сердце.
Оливье нахмурил брови, и чистые его черты на мгновение исказила судорога.
— Что же вам угодно, государыня? — спросил он. — Чтобы я отдалил от себя графиню де Шарни? Вы молчите: значит, таково ваше желание? Что ж! Я готов исполнить вашу волю; но ведь вам известно, что она одна в целом свете, она сирота! Ее отец, барон де Таверне, умер несколько лет назад, как добропорядочный дворянин старого времени, не желавший видеть того, что происходит в наше время; ее брат Мезон-Руж, как вам известно, навещает сестру не чаще одного раза в год, целует ее, отдает вашему величеству почтительный поклон и исчезает неведомо куда.
— Да, все это мне известно.
— Не забывайте, государыня, что, если бы Бог призвал меня к себе, графиня де Шарни могла бы вернуть себе свою девичью фамилию, и ни один из чистейших ангелов небесных не смог бы отыскать в ее снах, речах, помыслах ничего, что пристало замужней женщине.
— О, конечно, конечно, — сказала королева, — я знаю, что ваша Андре — сама сущий ангел, сошедший с небес, я знаю, что она достойна любви. Поэтому я и думаю, что у нее есть будущее, а у меня — нет. О, прошу вас, граф, более ни слова. Я говорю с вами не так, как пристало королеве, простите меня. Я забываюсь, но что же делать?.. В душе моей не умолкает голос, поющий мне о счастье, радости, любви, и мрачные голоса, предвещающие несчастья, войну, смерть, не способны заглушить его. Это голос моей юности, оставшейся далеко в прошлом. Простите меня, Шарни, я больше никогда не буду молодой, я больше никогда не буду улыбаться, никогда не буду любить.
Несчастная женщина устремила горящий взор на свои тонкие, исхудавшие руки, и по щекам ее скатились два алмаза — две королевские слезы.
Граф вновь упал на колени.
— Государыня, заклинаю вас всеми святыми, — сказал он, — прикажите мне покинуть вас, бежать, умереть, но не принуждайте меня смотреть, как вы плачете.
Произнося эти слова, граф сам с трудом подавлял рыдания.
— Не буду, — сказала Мария Антуанетта, выпрямившись и с полной прелести улыбкой тряхнув головою.
Очаровательным жестом она откинула назад густые пудреные волосы, рассыпавшиеся по ее белоснежной лебединой шее.
— Да, да, я больше не буду вас огорчать, забудем обо всех этих безумствах. Боже мой! Как странно: королеве надо быть такой сильной, а женщина так слаба. Вы ведь только что из Парижа, правда? Давайте поговорим. Вы мне уже что-то рассказывали, но я все забыла; а ведь дело, кажется, очень серьезно, не так ли, господин де Шарни?
— Хорошо, государыня, вернемся к политике; то, о чем я вам расскажу, действительно весьма серьезно; да, я прибыл из Парижа, где присутствовал при падении королевской власти.
— Я была права, возвращаясь к серьезному разговору, но вы слишком щедры, граф. Удавшийся мятеж вы называете падением королевской власти. Неужели взятие Бастилии означает гибель королевства?! О господин де Шарни, вы забываете, что Бастилия была построена лишь в четырнадцатом веке, а королевская власть существует в мире уже шесть тысяч лет.
— Я рад бы, государыня, обольщаться иллюзиями и, вместо того чтобы печалить ваше величество, утешить вас самыми радостными известиями. К несчастью, всякий инструмент умеет издавать лишь те звуки, для которых он предназначен.
— В таком случае, хоть я всего лишь женщина, попробую поддержать и вразумить вас.
— Увы! Я только об этом и мечтаю.
— Парижане взбунтовались, не так ли?
— Да.
— Сколько народу участвует в мятеже?
— Из каждых пятнадцати — дюжина.
— Откуда вам это известно?
— О, тут нет ничего мудреного: народ составляет двенадцать пятнадцатых французской нации; две пятнадцатых приходится на дворянство и одна — на духовенство.
— Расчет точен, граф; цифры вы выучили назубок. Вы читали господина и госпожу де Неккер?
— Господина де Неккера, государыня.
— Значит, — весело подытожила королева, — пословица не лжет: бойся друга, как врага. Что ж, если желаете, можете выслушать мой расчет.
— Я весь внимание.
— Шесть пятнадцатых из этих двенадцати — женщины, не так ли?
— Да, ваше величество, но…
— Не перебивайте меня. Итак, шесть пятнадцатых — женщины, столько же остается на долю мужчин, но из них две пятнадцатых — старики, беспомощные либо равнодушные; это не слишком много?
— Нет.
— Остаются четыре пятнадцатых, из которых, вы не можете этого опровергнуть, половину составляют трусы и люди умеренные. Заметьте, я льщу французской нации. Итак, остаются две пятнадцатых; допустим, все эти люди сильные, отважные, воинственные и озлобленные. Но ведь следует подсчитать, сколько человек из них находится в Париже? Бунтуют-то только парижане, их и предстоит усмирить.
— Да, государыня, однако…
— Опять однако… Погодите, вы ответите мне позже.
Господин де Шарни поклонился.
— Итак, — продолжала королева, — по моим расчетам, две пятнадцатых Парижа — это сто тысяч человек. Вы согласны?
На сей раз граф промолчал.
Королева заговорила вновь:
— Так вот, против этой сотни тысяч парижан, плохо вооруженных, недисциплинированных, необученных, нерешительных, ибо совесть их нечиста, я выставляю пятьдесят тысяч солдат, известных всей Европе своей отвагой, а также офицеров, подобных вам, господин де Шарни; с ними пребудет благословение Господне и моя душа, которую легко растрогать, но трудно разбить.
Граф по-прежнему молчал.
— Неужели вы полагаете, что при таких условиях один мой солдат не стоит двух простолюдинов?
Шарни молчал.
— Скажите же, отвечайте, каково ваше мнение? — нетерпеливо потребовала королева.
— Государыня, — произнес наконец граф, оставляя по приказу королевы свою почтительную сдержанность, — если сто тысяч человек, предоставленных самим себе, буйных и плохо вооруженных, а именно таковы парижане, сойдутся с вашими пятьюдесятью тысячами солдат на поле боя, то они будут разгромлены в полчаса.
— Вот видите! — сказала королева. — Значит, я права.
— Подождите. Дело обстоит совсем иначе. Во-первых, мятежников в Париже не сотня тысяч, а целых пять сотен.
— Пятьсот тысяч?
— Именно. В ваших расчетах вы не приняли во внимание женщин и детей. О королева Франции! О гордая и отважная женщина! Парижские простолюдинки ни в чем не уступят мужчинам; быть может, настанет день, когда они заставят вас считать их демонами.
— Что вы хотите сказать, граф?
— Государыня, знаете ли вы, какую роль играют женщины в гражданских войнах?! Нет? В таком случае я расскажу вам об этом, и вы убедитесь, что два солдата против одной женщины — это еще немного.
— Вы с ума сошли, граф!
Де Шарни грустно улыбнулся.
— Видели ли вы парижанок во время штурма Бастилии, когда под огнем, под пулями они призывали мужчин взяться за оружие, грозили кулаками вашим закованным в доспехи швейцарцам, выкрикивали проклятия над убитыми, поднимая и призывая к бою живых? Видели ли вы, как они варят смолу, катят пушки, одаривают храбрых воинов патронами, а робких — патронами с поцелуем в придачу? Знаете ли вы, что по подъемному мосту, ведущему в Бастилию, прошло столько же женщин, сколько мужчин? Знаете ли вы, что, пока мы с вами ведем беседу, они орудуют кирками, разрушая стены Бастилии? О государыня, примите в расчет парижских женщин, примите в расчет их, а заодно и детей: они отливают пули, точат сабли, бросают булыжники с седьмого этажа; примите их в расчет, ибо пуля, отлитая ребенком, убьет вашего лучшего генерала; сабля, наточенная им, подкосит ваших лучших лошадей; а камень, брошенный им с высоты, разобьет головы вашим драгунам и гвардейцам. Примите в расчет и стариков, государыня, ибо если они уже не в силах поднять шпагу, они в силах послужить щитом своим сыновьям. В штурме Бастилии, ваше величество, участвовали и старики; знаете ли вы, что делали эти старики, которых вы не принимаете в расчет? Они становились впереди юношей, и те целились во врага из-за их спин, так что пули ваших швейцарцев впивались в тела бессильных стариков, служивших крепостной стеной мужчинам в расцвете лет. Примите стариков в расчет, ибо это они вот уже три сотни лет передают из рода в род рассказы о насилии, которому подвергались их матери, о полях, потравленных во время господской охоты, о бедствиях их сословия, страждущего под пятой феодалов; и, наслушавшись этих рассказов, сыновья хватают топоры, дубины, ружья — все, что есть под рукой, и отправляются убивать, заряженные стариковскими проклятиями, как пушка заряжена порохом и ядрами. В этот час в Париже все — мужчины, женщины, старики, дети — славят свободу, избавление от гнета. Примите в расчет всех, кто кричит, государыня, а их в Париже восемьсот тысяч душ.
— Триста спартанцев, господин де Шарни, победили армию Ксеркса, не так ли?
— Да, но сегодня на месте трехсот спартанцев — восемьсот тысяч парижан, а на месте армии Ксеркса — ваши пятьдесят тысяч солдат.
Побагровев от гнева и стыда, королева воздела стиснутые кулаки к небу.
— О, пусть я лишусь трона, пусть ваши пятьсот тысяч парижан растерзают меня в клочья, лишь бы мне не слышать подобных речей от человека из рода де Шарни, от преданного мне слуги!
— Если этот человек говорит вам подобные вещи, государыня, значит, он видит в этом свой долг, ибо в жилах этого де Шарни нет ни капли крови, что не была бы достойна его предков и не принадлежала бы вам.
— В таком случае пусть он идет вместе со мной на Париж и вместе со мной погибнет.
— Погибнет с позором, — подхватил граф, — не оказав сопротивления. Мы даже не сможем начать сражение, мы растворимся в ночи, как филистимляне или амалекитяне. Идти на Париж! Да знаете ли вы, что в тот час, когда мы войдем в Париж, дома обрушатся на нас, словно волны Красного моря на фараона; имя ваше будет проклято французами, а дети зарезаны, как волчата.
— Как же мне погибнуть, граф? — надменно спросила королева. — Научите, прошу вас.
— Как гибнут жертвы, государыня, — почтительно отвечал г-н де Шарни, — как гибнут королевы, улыбаясь и прощая тем, кто отнимает у них жизнь. Ах, если бы у вас было пятьсот тысяч таких слуг, как я! Тогда я сказал бы вам: "Отправимся в поход сегодня же ночью, отправимся немедля, и завтра вы воцаритесь в Тюильри, завтра вы возвратите себе трон!".
— О! — вскричала королева. — Неужели вы, моя главная надежда, отчаялись в победе?
— Да, государыня, я отчаялся, ибо вся Франция поддерживает Париж, ибо ваша армия, даже если она победит в Париже, не сумеет совладать с Лионом, Руаном, Лиллем, Страсбуром, Нантом и сотней других ощетинившихся городов. Будем мужественны, государыня, спрячем шпагу в ножны!
— А я-то старалась собрать вокруг себя самых отважных воинов, а я-то пыталась вдохнуть мужество в их сердца! — воскликнула королева.
— Если вы не согласны со мной, государыня, прикажите — и этой же ночью мы двинемся на Париж. Вам стоит сказать только одно слово.
В голосе графа звучало такое самоотвержение, что королева испугалась сильнее, чем если бы он проявил строптивость; в отчаянии, не в силах совладать с собственным надменным нравом, она бросилась на софу.
Наконец, подняв голову, она спросила:
— Граф, вам угодно, чтобы я ничего не предпринимала?
— Я имею честь дать вашему величеству именно такой совет.
— Я послушаюсь вас. Возвращайтесь на свой пост.
— Увы, государыня, вы гневаетесь на меня? — спросил граф, глядя на королеву печальными глазами, в которых светилась неизъяснимая любовь.
— Нет. Дайте руку.
Граф с поклоном протянул королеве руку.
— Я должна вас побранить, — сказала Мария Антуанетта, пытаясь улыбнуться.
— За что, государыня?
— Как же: ваш брат служит мне, а я узнаю об этом случайно!
— Я не понимаю.
— Сегодня вечером молодой офицер гусарского полка Бершени…
— А, мой брат Жорж!
— Отчего же вы никогда ни словом не обмолвились об этом юноше? Почему у него такой низкий чин?
— Оттого, что он еще совсем юн и неопытен; оттого, что он не заслужил права командовать; оттого, наконец, что, если вашему величеству было угодно снизойти до меня, носящего имя де Шарни, и почтить меня своей дружбой, это отнюдь не означает, что мои родственники должны делать карьеру в ущерб множеству отважных молодых людей, куда более достойных, нежели мои братья.
— Значит, у вас есть и другие братья?
— Нас три брата, государыня, и все готовы умереть за ваше величество.
— А третий брат ни в чем не нуждается?
— Ни в чем, государыня; мы имеем счастливую возможность положить к ногам вашего величества не только жизнь, но и состояние.
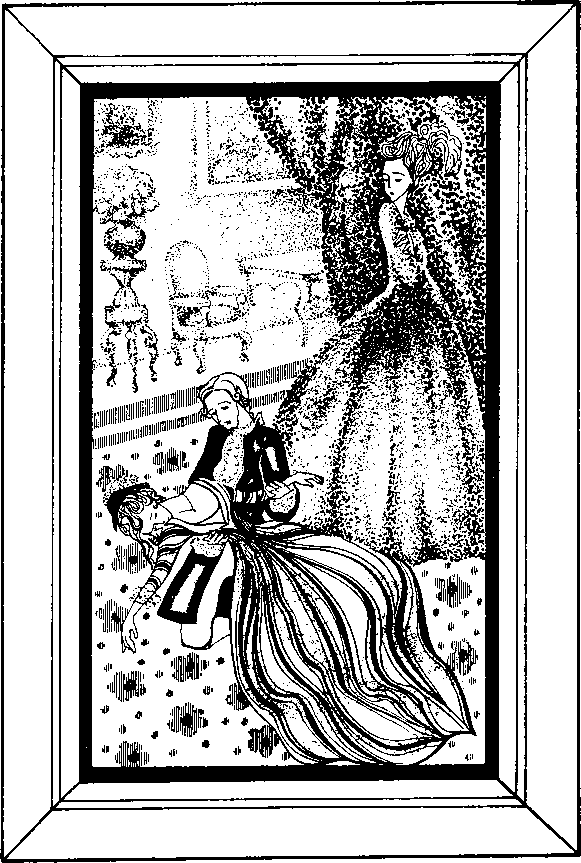
В тот самый миг, когда граф, с трепетом взирая на свою милостивую и величавую покровительницу, произносил эти слова, а королева внимала ему, потрясенная его предупредительностью и бескорыстием, из соседней комнаты донесся стон, заставивший их обоих вздрогнуть.
Королева поднялась, подбежала к двери, открыла ее и громко вскрикнула.
На ковре корчилась в ужасных судорогах какая-то женщина.
— Ах! Это графиня! — прошептала Мария Антуанетта на ухо графу. — Неужели она слышала наш разговор?
— Нет, ваше величество, — отвечал граф. — Иначе она дала бы вам знать о своем присутствии.
И, бросившись к Андре, он поднял ее с ковра и прижал к себе.
Королева, бледная, снедаемая тревогой, холодно смотрела на них, не двигаясь с места.
Назад: XVIII ДОКТОР ЖИЛЬБЕР
Дальше: Часть вторая

