Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 21. Анж Питу 1995.
Назад: XI НОЧЬ С 12 НА 13 ИЮЛЯ
Дальше: XVIII ДОКТОР ЖИЛЬБЕР
XIV
ТРИ ВЛАСТИ, ПРАВЯЩИЕ ФРАНЦИЕЙ
Бийо продолжал идти вперед, но ему уже не было нужды кричать. Пленившись его воинственным видом, признав его за своего, обсуждая его речи и поступки, толпа следовала за ним, непрестанно разрастаясь, словно волны во время прилива.
За спиной Бийо, когда он ступил на набережную Сен-Мишель, шло более трех тысяч человек, вооруженных тесаками, топорами, пиками и ружьями.
Все они кричали: "На Бастилию! На Бастилию!".
Бийо погрузился в размышления. Уму его представилось все то, о чем мы упомянули в конце предыдущей главы, и мало-помалу его лихорадочное возбуждение спало. Тогда он смог взглянуть на вещи трезво.
Предприятие, которое он затеял, было величественным, но безумным. То растерянное или ироническое выражение, какое появлялось на лицах людей, слышавших клич: "На Бастилию!", говорило само за себя.
Впрочем, это лишь укрепило Бийо в его намерении.
Однако он понял, что отвечает перед матерями, женами, детьми за жизнь всех тех людей, что идут за ним, и решил принять все возможные меры предосторожности.
Поэтому для начала он повел свою рать на площадь перед ратушей.
Там он выбрал из толпы лейтенанта и офицеров — псов, чья обязанность — сторожить стадо.
"В конце концов, — подумал Бийо, — во Франции есть власть, даже две власти, а то и три. Посоветуемся".
Итак, он вошел в здание ратуши и спросил, кто здесь главный.
Ему ответили, что купеческий старшина г-н де Флессель.
— Гм-гм, — промычал Бийо не слишком радостно. — Господин де Флессель, дворянин, то есть враг народа.
— Да нет, — услышал он в ответ, — господин де Флессель — человек умный.
Бийо поднялся по лестнице.
В передней его встретил придверник.
— Мне нужно поговорить с господином де Флесселем, — сказал Бийо, когда придверник, желая узнать, что ему надобно, двинулся ему навстречу.
— Это невозможно! — ответил придверник. — Он занят организацией городской милиции.
— Это очень кстати, — обрадовался Бийо, — я тоже организую милицию, и у меня уже есть три тысячи человек, готовых к бою, так что я могу говорить на равных с господином де Флесселем, у которого нет еще ни одного солдата под ружьем. Пропустите же меня к господину де Флесселю, и поживее. А если вам угодно, поглядите в окно.
Придверник и в самом деле метнул быстрый взгляд в сторону набережной, где собрались люди Бийо. Увидев эту толпу, он поспешил предупредить купеческого старшину и, чтобы уверить в правдивости своего сообщения, показал ему на три тысячи человек, о которых шла речь.
Зрелище это внушило купеческому старшине некоторое почтение к посетителю; он вышел в переднюю, отыскивая его глазами.
Увидев Бийо, он догадался, что это и есть человек, который хочет с ним говорить, и улыбнулся.
— Это вы меня спрашивали? — сказал он.
— Вы — господин де Флессель, купеческий старшина? — осведомился Бийо.
— Да, сударь. Чем могу служить? Только говорите поскорее: я очень занят.
— Господин старшина, — спросил Бийо, — сколько властей правит нынче Францией?
— Ну, это как посмотреть, сударь мой, — отвечал Флессель.
— Скажите, как смотрите вы сами.
— Если вы спросите господина Байи, он скажет вам, что во Франции одна власть — Национальное собрание; если обратитесь к господину де Дрё-Брезе, он вам ответит, что во Франции одна власть — король.
— А какое из этих двух мнений разделяете вы, господин старшина?
— Я тоже думаю, что сейчас во Франции всего одна власть.
— Власть Собрания или власть короля?
— Ни та ни другая; я говорю о власти нации, — ответил Флессель, комкая жабо.
— Ах, вот как? Нации? — повторил фермер.
— Да, иначе говоря, тех господ, что ждут там внизу, на площади, с ножами и вертелами; нация для меня — это все люди без исключения.
— Возможно, вы правы, господин де Флессель, — ответил Бийо, — недаром мне говорили, что вы человек умный.
Флессель поклонился.
— К какой из этих властей обратитесь вы, сударь? — спросил он.
— Клянусь честью, — сказал Бийо, — по мне, если просишь чего-то важного, самое простое — обращаться к самому Господу Богу, а не к его святым.
— Иначе говоря, вы обратитесь к королю.
— Я этого хочу.
— Будет ли нескромным с моей стороны осведомиться, о чем вы собираетесь просить короля?
— Об освобождении доктора Жильбера, заключенного в Бастилию.
— Доктора Жильбера? — переспросил Флессель пренебрежительно. — Это сочинитель брошюр?
— Это философ, сударь.
— Разница невелика, дорогой мой господин Бийо. Я думаю, у вас мало шансов добиться от короля этой милости.
— Отчего же?
— Во-первых, оттого, что, если король заключил доктора Жильбера в Бастилию, значит, у него были на то свои резоны.
— Отлично! — сказал Бийо. — Он изложит мне свои резоны, а я изложу ему свои.
— Дражайший господин Бийо, король очень занят и не примет вас.
— О! Если он меня не примет, я найду способ войти к нему без разрешения.
— В этом случае вы первым делом встретите господина де Дре-Брезе, и он прикажет вышвырнуть вас за дверь.
— Вышвырнуть меня за дверь?
— Да, он хотел поступить так со всем Собранием целиком; правда, ему это не удалось, но с тем большей охотой он займется вами.
— Хорошо; тогда я обращусь к Собранию.
— Дорога на Версаль перекрыта.
— Я отправлюсь туда с тремя тысячами моих людей.
— Берегитесь, сударь мой, вы встретите на дороге четыре или пять тысяч швейцарцев и две или три тысячи австрийцев: они быстро расправятся и с вами, и с вашей трехтысячной ратью; в одно мгновение от вас и следа не останется.
— Дьявольщина! Что же прикажете мне делать?
— Делайте что хотите, но окажите мне любезность увести куда-нибудь ваших людей, которые стучат алебардами по мостовой и курят. У нас в подвалах семь или восемь тысяч фунтов пороха, и одной искры довольно, чтобы все это здание взлетело на воздух.
— В таком случае, — сказал Бийо, — я знаю, как мне быть; я не стану обращаться ни к королю, ни к Национальному собранию; я обращусь к самой нации, и мы возьмем Бастилию.
— Как?
— Восемью тысячами фунтов пороха, что вы мне дадите, господин старшина.
— Неужели? — спросил Флессель издевательским тоном.
— Вне всякого сомнения, сударь. Пожалуйте мне ключи.
— Вы, должно быть, шутите?
— Нет, сударь, я не шучу, — отвечал Бийо.
Он схватил Флесселя обеими руками за шиворот и приказал:
— Давайте ключи или я позову своих людей!
Флессель стал бледен как смерть. Губы и зубы его конвульсивно сжались, но голос не дрогнул. Тем же ироническим тоном, что и прежде, старшина произнес:
— По правде говоря, сударь, вы окажете мне большую услугу, если избавите меня от этого пороха. Поэтому я отдам вам ключи, которых вы домогаетесь. Учтите только, что я высшее должностное лицо и, если вы будете иметь несчастье поступить со мной на людях так, как только что поступили с глазу на глаз, вы ровно через час будете повешены городской гвардией. Вы по-прежнему хотите получить этот порох?
— По-прежнему, — отвечал Бийо.
— И сами станете его раздавать?
— Да, сам.
— Когда же?
— Сию минуту.
— Прошу прощения, давайте условимся: мне здесь осталось дел минут на пятнадцать, а я бы предпочел, если вы не возражаете, чтобы раздача пороха началась после моего ухода. Мне предсказали, что я умру насильственной смертью, но, признаюсь, мне крайне отвратительна мысль, что я взлечу на воздух.
— Ладно, пятнадцать минут я подожду. Но у меня тоже есть просьба.
— Какая?
— Подойдемте вместе к окну.
— Зачем?
— Я хочу сделать вас популярным.
— Премного благодарен. Каким же это образом?
— Сейчас узнаете.
Бийо подвел старшину к окошку.
— Друзья мои, — крикнул он толпе, — вы по-прежнему хотите взять Бастилию, не так ли?
— Да, да, да! — проревели три или четыре тысячи глоток.
— Но вам нужен порох, не так ли?
— Да, да! Порох! Порох!
— Так вот! Господин купеческий старшина согласен дать нам порох, который хранится в подвалах ратуши. Поблагодарите его, друзья мои.
— Да здравствует господин купеческий старшина! Да здравствует господин де Флессель! — заорала толпа.
— Спасибо! — отвечал Бийо. — Спасибо вам от меня и от него!
— Теперь, сударь, — обратился он к Флесселю, — мне больше незачем хватать вас за шиворот ни с глазу на глаз, ни на людях, ибо, если вы не дадите мне пороха, нация, как вы выражаетесь, нация разорвет вас в клочки.
— Вот ключи, сударь, — сказал старшина, — поистине вам невозможно отказать.
— В таком случае, ловлю вас на слове, — произнес Бийо, в чьей голове, кажется, родился какой-то новый план.
— Черт возьми, вы собираетесь еще о чем-то просить меня?
— Да. Знакомы вы с комендантом Бастилии?
— С господином де Лонэ?
— Я не знаю его имени.
— Его имя господин де Лонэ.
— Отлично. Знакомы вы с господином де Лонэ?
— Он мой друг.
— Значит, вы не хотите, чтобы с ним стряслось беда?
— Разумеется, я этого не хочу!
— Ну вот! Чтобы с ним не стряслось беды, он должен добровольно отдать мне Бастилию или хотя бы доктора Жильбера.
— Не надеетесь же вы, что мои уговоры заставят его отдать в ваши руки узника или крепость?
— Это уж мое дело; я прошу у вас только письма к нему.
— Дражайший господин Бийо, предупреждаю вас, что если вы и войдете в Бастилию, то один, без свиты.
— Прекрасно!
— Предупреждаю вас также, что, войдя туда без свиты, вы, возможно, оттуда не выйдете.
— Замечательно!
— Я дам вам пропуск в Бастилию.
— Этого я и хочу.
— Но у меня есть еще одно условие.
— Какое?
— Что вы не явитесь ко мне за пропуском на луну. Предупреждаю вас, что в тех краях у меня знакомых нет.
— Флессель! Флессель! — глухо произнес чей-то недовольный голос за спиной у купеческого старшины. — Если ты будешь по-прежнему вести двойную игру, улыбаясь и аристократам и народу, ты не сегодня-завтра выпишешь себе пропуск в те края, откуда никто не возвращается.
Флессель вздрогнул.
— Кто говорит со мной? — спросил он, оборачиваясь.
— Это я, Марат.
— Марат-философ, Марат-врач! — воскликнул Бийо.
— Он самый, — ответил тот же голос.
— Да, Марат-философ, Марат-врач, который в этом последнем качестве хорошо бы сделал, занявшись лечением безумцев: у него не было бы отбоя от пациентов, — сказал Флессель.
— Господин де Флессель, — ответил мрачный собеседник купеческого старшины, — этот отважный гражданин просит у вас пропуск к господину де Лонэ. Замечу вам, что вы заставляете ждать не только его, но и три тысячи его спутников.
— Хорошо, сударь, сейчас он его получит.
Флессель подошел к столу, поднес одну руку ко лбу, а другой схватил перо и быстро начертал несколько строк.
— Вот ваш пропуск, — сказал он, отдавая бумагу Бийо.
— Прочтите, — сказал Марат.
— Я не умею читать, — отвечал Бийо.
— Тогда дайте мне, я прочту.
Бийо протянул бумагу Марату.
Она гласила:
"Господин комендант!
Мы, купеческий старшина города Парижа, посыпаем к Вам господина Бийо, желающего обсудить с Вами вопросы, касающиеся интересов упомянутого города.
14 июля 1789 года.
Де Флессель".
— Ладно, — сказал Бийо, — сойдет.
— Вы полагаете, что такого пропуска вам довольно? — спросил Марат.
— Разумеется.
— Постойте; господин старшина прибавит к письму постскриптум, благодаря чему пропуск станет много лучше.
С этими словами Марат подошел к Флесселю; тот стоял, опершись на стол, и высокомерно смотрел на двух людей, с которыми имел дело до сих пор, и на третьего, полуголого, который только что возник в дверях и встал там, опираясь на мушкетон.
Этот третий был Питу, всюду следовавший за фермером и готовый выполнить любое его приказание.
— Сударь, — обратился Марат к Флесселю, — я вам скажу, какой постскриптум вам следует прибавить к пропуску, чтобы его улучшить.
— Диктуйте, господин Марат.
Марат положил бумагу на стол и, указав пальцем место, где нужно поместить постскриптум, продиктовал:
— "Я вверяю жизнь гражданина Бийо, направляющегося к Вам в качестве парламентера, Вашей чести".
Флессель кинул на Марата взгляд, в котором ясно читалось желание скорее размозжить голову этому невзрачному субъекту ударом кулака, чем выполнить то, о чем он просит.
— Вы колеблетесь, сударь? — спросил Марат.
— Нет, — отвечал Флессель, — ибо в конечном счете ваша просьба справедлива.
И он приписал требуемый постскриптум.
— Однако, господа, — сказал он, — заметьте себе, что я не ручаюсь за судьбу господина Бийо.
— Зато я за нее ручаюсь, — сказал Марат, забирая у купеческого старшины бумагу, — ибо залог его свободы — ваша свобода, залог его жизни — ваша жизнь. Держите пропуск, храбрец Бийо.
— Лабри! — крикнул г-н де Флессель. — Лабри!
Вошел лакей в парадной ливрее.
— Карету мне! — приказал Флессель.
— Карета ждет господина старшину во дворе.
— Пойдемте, господа, — сказал старшина. — Вам больше ничего не угодно?
— Нет, — ответили в один голос Бийо и Марат.
— Пропустить его? — спросил Питу.
— Друг мой, — сказал Флессель, — осмелюсь заметить, что для несения караула у моих дверей вы одеты чересчур легкомысленно. Если вы намерены здесь остаться, прикройте, прошу вас, грудь патронной сумкой, а спиной прислонитесь к стене.
— Пропустить его? — повторил Питу, глядя на г-на де Флесселя и показывая своим видом, что он невысокого мнения об услышанной шутке.
— Пропусти, — сказал Бийо.
Питу освободил проход.
— Быть может, вы напрасно отпускаете этого человека, — сказал Марат, — он был бы превосходным заложником; впрочем, тревожиться не о чем, я его из-под земли достану.
— Лабри, — сказал купеческий старшина, садясь в карету, — здесь сейчас будут раздавать порох. Если ратуша вдруг взорвется, я не хочу видеть, как полетят осколки. Подальше от них, Лабри, подальше!
Карета покатилась к воротам и выехала на площадь, где уже начинали роптать четыре или пять тысяч парижан.
Флессель испугался, что его отъезд вполне могут счесть за бегство.
Он по пояс высунулся в окно.
— В Национальное собрание! — приказал он кучеру.
Толпа в ответ разразилась бешеными аплодисментами.
Марат и Бийо слышали последние слова Флесселя с балкона.
— Даю голову на отсечение, что он едет не в Национальное собрание, а к королю, — сказал Марат.
— Вернуть его? — спросил Бийо.
— Нет, — отвечал Марат со своей отвратительной усмешкой. — Будьте покойны, как бы он ни поспешал, мы его опередим. А теперь займемся порохом!
— Займемся порохом! — согласился Бийо.
И они вместе с Питу двинулись по лестнице вниз.
XV
ГОСПОДИН ДЕ ЛОНЭ, КОМЕНДАНТ БАСТИЛИИ
Господин де Флессель говорил правду: в подвалах ратуши было восемь тысяч фунтов пороха.
Освещая себе дорогу фонарем, Марат и Бийо вошли в первый подвал; фонарь они подвесили к потолку.
Питу остался караулить у входа.
Порох хранился в бочонках примерно по двадцать фунтов в каждом. Люди выстроились на лестнице и стали передавать эти бочонки по цепочке.
Сначала поднялась суматоха. Неизвестно было, хватит ли пороха на всех, и каждый спешил скорее получить свою долю. Но командиры, назначенные Бийо, сумели навести порядок, и дело пошло веселее.
Каждому гражданину досталось по полфунта пороха — этого количества должно было хватить на тридцать — сорок выстрелов.
Но когда все оказались при порохе, выяснилось, что очень мало у кого есть ружья: они были самое большее у пятисот человек.
Раздача пороха еще продолжалась, когда часть разъяренной толпы, требовавшей ружей, ворвалась в залу, где шло собрание выборщиков, обсуждавших организацию национальной гвардии, о которой говорил Бийо придверник. Они как раз постановили, что гвардия эта должна состоять из сорока восьми тысяч человек. Гвардия существовала пока только на бумаге, но уже шли споры о том, кто будет ею командовать.
Народ заполонил ратушу в тот момент, когда споры эти были в самом разгаре, и сам превратил себя в гвардию. Он рвался в бой. Ему недоставало только оружия.
Тут раздался стук колес: к ратуше подкатила карета. Это возвращался купеческий старшина: ему не дали проехать, хотя он предъявил приказ короля явиться в Версаль, и силой вернули в ратушу.
— Оружия! Оружия! — требовали от него со всех сторон.
— У меня оружия нет, — сказал Флессель, — но оно должно быть в Арсенале.
Ответом был крик:
— В Арсенал! В Арсенал!
И толпа, состоящая из пяти или шести тысяч человек, хлынула на Гревскую набережную.
Арсенал, однако, был пуст.
С гневными криками народ возвратился в ратушу.
У старшины оружия не было, а точнее, он не хотел его давать. Парижане не отступали, и ему пришло на мысль послать их в картезианский монастырь.
Картезианцы отперли ворота, но, несмотря на самые тщательные поиски, мятежники не обнаружили у них даже карманного пистолета.
Между тем Флессель, узнав, что Бийо и Марат еще не покинули подвалов ратуши и раздают там порох, предложил послать депутацию выборщиков к де Лонэ с просьбой убрать пушки.
Пушки эти, высовывавшиеся из бойниц, со вчерашнего дня служили предметом величайшего возмущения толпы. Флессель надеялся, что, если их уберут, народ удовлетворится этой уступкой и разойдется.
Депутация только что отбыла, как возвратилась назад разъяренная толпа, отправленная Флесселем к картезианцам.
Услышав гневные крики, Бийо и Марат поднялись во двор.
Флессель, стоя на нижнем балконе, пытался урезонить народ. Он предлагал принять декрет, предписывающий округам выковать пятьдесят тысяч пик.
Народ был уже готов согласиться.
— Положительно, этот человек — предатель, — сказал Марат.
И, обернувшись к Бийо, добавил:
— Ступайте в Бастилию и сделайте то, что собирались. Через час я пришлю к вам двадцать тысяч человек с ружьями.
Бийо с самого начала проникся большим доверием к этому человеку, чья слава была так велика, что дошла и до Виллер-Котре. Он даже не спросил, откуда Марат рассчитывает добыть столько ружей. В толпе он разглядел какого-то аббата, который, разделяя всеобщее воодушевление, кричал вместе с остальными парижанами: "На Бастилию!". Бийо не любил аббатов, но этот ему понравился. Он поручил ему раздавать порох; бравый аббат согласился.
Тем временем Марат взобрался на каменную тумбу. Кругом стоял ужасающий шум.
— Тихо! — произнес он. — Я Марат и хочу кое-что сказать вам.
Все до одного замолчали словно по волшебству и впились глазами в оратора.
— Вам нужно оружие? — спросил Марат.
— Да! Да! — ответили тысячи голосов.
— Чтобы взять Бастилию?
— Да! Да! Да!
— Прекрасно! В таком случае идите за мной, и вы его получите.
— Где же?
— В Доме инвалидов, там хранится двадцать пять тысяч ружей.
— В Дом инвалидов! В Дом инвалидов! В Дом инвалидов! — закричали все хором.
— А вы, — обратился Марат к Бийо и только что подошедшему к нему Питу, — идете в Бастилию?
— Да.
— Постойте; может случиться, что до прихода моих людей вам потребуется помощь.
— В самом деле, — согласился Бийо, — это возможно.
Марат вырвал листок из маленького блокнота, написал карандашом два слова:"От Марата" и поставил какой-то знак.
— Что же мне делать с этой запиской, ведь на ней нет ни имени, ни адреса? — удивился Бийо.
— Адреса у того, к кому я вас посылаю, нет, а имя его известно всем. Справьтесь у первого попавшегося вам рабочего о Гоншоне — Мирабо народа.
— Запомни, Питу: Гоншон.
— Гоншон, или Gonchonius, — повторил Питу, — я запомню.
— В Дом инвалидов! В Дом инвалидов! — все яростнее ревела толпа.
— Итак, ступай, — сказал Марат Бийо, — и да поможет тебе гений свободы!
Затем, крикнув в свою очередь: "В Дом инвалидов!", Марат вышел на набережную Жевр; двадцать тысяч человек последовали за ним.
Оставшиеся пять или шесть сотен — те, что были вооружены, — пошли за Бийо.
В ту минуту, когда один поток был готов устремиться вдоль реки, а другой — в сторону бульвара, купеческий старшина подошел к окну.
— Друзья мои, — спросил он, — отчего у вас на шляпах зеленая кокарда?
Он говорил о листьях каштана — кокарде, предложенной Камиллом Демуленом, которую многие нацепили, беря пример с соседей, но не понимая, зачем они это делают.
— Зеленый цвет — цвет надежды! Цвет надежды! — послышалось несколько голосов.
— Верно; но цвет надежды — это одновременно и цвет графа д’Артуа. Неужели вы хотите выглядеть слугами принца?
— Нет, нет! — закричали все хором, и громче других — Бийо.
— В таком случае перемените кокарду и, если уж вам так необходима ливрея, пусть это будет ливрея нашего общего отца — города Парижа, а его цвета — синий и красный, друзья мои, синий и красный.
— Да, да! — единодушно согласились все. — Да, синий и красный.
С этими словами парижане все как один сорвали с себя зеленые кокарды и бросили на землю; им потребовались ленты, и отворились окна; из них дождем хлынули красные и синие ленты.
Но их хватило только на тысячу человек.
Тогда парижанки мигом разорвали, растерзали, разодрали в клочки фартуки, шелковые платья, шарфы, занавески, и клочки эти тут же превратились в банты, розетки, косынки. Каждый взял свою долю.
Затем маленькая армия Бийо двинулась в путь.
Во время пути она заметно увеличилась; все улицы Сент-Антуанского предместья отрядили ей в помощь своих самых горячих и отважных обитателей.
Соблюдая относительный порядок, войско Бийо добралось до улицы Ледигьер, где уже глазели на башни Бастилии, сверкающие в ярких лучах солнца, многочисленные зеваки, одни — робкие, другие — невозмутимые, третьи — бесцеремонные.
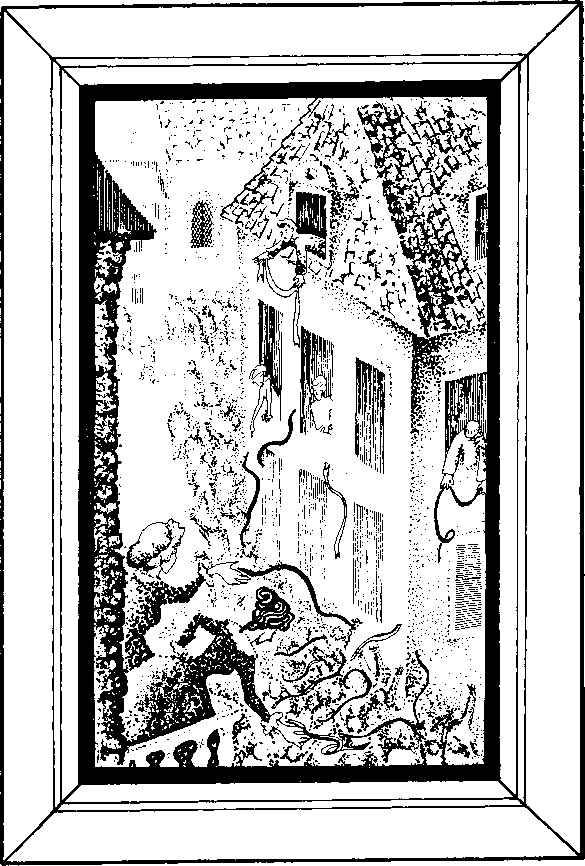
Прибытие барабанщиков со стороны Сент-Антуанского предместья и сотни французских гвардейцев со стороны бульвара, не говоря уже о появлении войска Бийо, состоявшего из тысячи — тысячи двухсот человек, мгновенно изменили облик и настроение толпы: робкие осмелели, невозмутимые взволновались, бесцеремонные начали выкрикивать угрозы.
— Долой пушки! Долой пушки! — вопили двадцать тысяч человек, грозя кулаками страшным орудиям, высовывавшим в амбразуры свои длинные медные шеи.
В эту самую минуту артиллеристы стали откатывать пушки назад, и вскоре их стволы скрылись из виду, так что можно было подумать, будто комендант послушался приказаний толпы.
Парижане захлопали в ладоши: они ощутили свою мощь, ведь их угрозы возымели действие.
Тем временем часовые продолжали прогуливаться по орудийным площадкам. Солдаты инвалидной команды шагали навстречу швейцарским гвардейцам.
Теперь толпа, только что кричавшая "Долой пушки!", принялась требовать: "Долой швейцарцев!". То было продолжение вчерашних выкриков "Долой немцев!".
Но швейцарцы тем не менее, как и прежде, шагали навстречу инвалидам.
Один из тех, кто кричал "Долой швейцарцев!", потеряв терпение, навел свое ружье на часового и выстрелил.
Пуля впилась в серую стену Бастилии примерно одним футом ниже верхушки башни, как раз под тем местом, где проходил часовой. На стене осталась белая отметина, но часовой даже не остановился, даже не повернул головы.
Поступок человека, подавшего пример неслыханного, безрассудного нападения, толпа встретила громким гулом, в котором было пока больше страха, чем ярости.
Большинство не могло взять в толк, что можно вот так запросто выстрелить из ружья в сторону Бастилии; они полагали, что это — преступление, караемое смертью.
Бийо разглядывал зеленоватую громаду, похожую на сказочное чудовище, которое древние изображали покрытым чешуей. Он подсчитывал амбразуры, где вот-вот могли вновь показаться пушки и крепостные ружья, страшные глаза которых глядели на толпу из крепостных бойниц.
Видя все это, Бийо покачал головой. Он вспомнил слова Флесселя.
— Ничего у нас не выйдет, — прошептал он.
— Почему это у нас ничего не выйдет? — произнес чей-то голос у него за спиной.
Бийо оглянулся и увидел человека в лохмотьях, со свирепым лицом и горящими, как уголья, глазами.
— Потому что мне сдается: такую громадину невозможно взять силой.
— Взятие Бастилии, — отвечал незнакомец, — вопрос не силы, а веры: верь, и ты победишь.
— Терпение, — сказал Бийо и полез в карман за своим пропуском, — терпение.
Незнакомец истолковал его жест неверно.
— Терпение! — повторил он. — Да, понятно, ты-то вон какой жирный, на фермера похож.
— Я и есть фермер, — сказал Бийо.
— Тогда понятно, отчего ты толкуешь насчет терпения: ты всегда ел досыта; но погляди на те призраки, что нас окружают, взгляни на их бескровные лица, пересчитай их кости сквозь прорехи в платье и спроси у них, понимают ли они слово "терпение".
— Красиво он говорит, — сказал Питу, — но я его боюсь.
— А я нет, — ответил Бийо.
Затем, повернувшись к незнакомцу, он продолжал:
— Да, терпение; но всего на четверть часа, не более.
— Ха! — улыбнулся незнакомец. — Четверть часа — это в самом деле немного; и что же ты сделаешь за четверть часа?
— За четверть часа я побываю в Бастилии, узнаю, численность ее гарнизона, выясню намерения коменданта, наконец, пойму, как туда входят.
— Да, если поймешь, как оттуда выходят.
— Что ж! Если я не выйду оттуда сам, мне поможет один человек.
— Кто же он?
— Гоншон — Мирабо народа.
Незнакомец вздрогнул; глаза его вспыхнули.
— Ты с ним знаком?
— Нет.
— И что же?
— А то, что я с ним познакомлюсь: как мне сказали, первый же человек на площади Бастилии, к которому я обращусь, отведет меня к нему; мы с тобой говорим на площади Бастилии, веди меня к нему.
— Что тебе нужно от него?
— Передать ему эту записку.
— От кого?
— От Марата, врача.
— От Марата! Ты знаешь Марата? — воскликнул незнакомец.
— Я только что расстался с ним.
— Где?
— В ратуше.
— Что он там делает?
— Отправился в Дом инвалидов добывать оружие для двадцати тысяч человек.
— В таком случае давай сюда записку: я Гоншон.
Бийо отступил на шаг.
— Ты Гоншон? — переспросил он.
— Друзья, — сказал человек в лохмотьях, — этот человек не знает меня и сомневается, в самом ли деле я Гоншон.
Толпа разразилась смехом: эти люди не могли поверить, что кто-то не знает их любимого оратора.
— Да здравствует Гоншон! — завопили две или три тысячи голосов.
— Держите, — сказал Бийо, отдавая ему записку.
— Друзья, — сказал Гоншон, прочтя ее и хлопнув Бийо по плечу, — этот человек — брат всем нам; его послал ко мне Марат, значит, мы можем на него положиться. Как тебя зовут?
— Меня зовут Бийо.
— А меня, — отвечал Гоншон, — зовут Топор; надеюсь, вдвоем мы чего-нибудь добьемся.
Толпившиеся кругом парижане усмехнулись этой кровавой игре слов.
— Да, да, мы чего-нибудь добьемся, — подтвердили они.
— Что нам делать? — спросили несколько голосов.
— Как что, черт подери?! Брать Бастилию! — отвечал Гоншон.
— В добрый час! — сказал Бийо. — Дельно сказано! Послушай, Гоншон, сколько у тебя людей?
— Тысяч тридцать.
— Тридцать тысяч у тебя, двадцать тысяч придут к нам на помощь от Дома инвалидов, десять тысяч уже здесь — это больше, чем нужно для победы, или мы никогда не победим.
— Мы победим непременно, — сказал Гоншон.
— Надеюсь. Так вот, собирай свои тридцать тысяч, а я пойду к коменданту и постараюсь уговорить его сдать крепость; если он согласится — тем лучше, мы не станем проливать кровь; если он откажется — что ж, тогда пролитая кровь будет на его совести, а нынче кровь, пролитая за неправое дело, не приносит счастья. Немцы это уже узнали.
— Сколько времени ты пробудешь у коменданта?
— Как можно дольше, чтобы твои люди успели полностью окружить крепость. Если это удастся, тогда мы сможем пойти на приступ, лишь только я вернусь.
— Договорились.
— Ты не сомневаешься во мне? — спросил Бийо, протягивая руку Гоншону.
— Я? — отвечал Гоншон с пренебрежительной усмешкой, пожимая руку могучего фермера с силой, которую трудно было предположить в этом тощем, хилом теле. — А отчего бы мне в тебе сомневаться? С какой стати? Захочу — и мне довольно будет одного слова, одного знака, чтобы истолочь тебя в порошок, даже если ты скроешься за этими стенами, которые завтра исчезнут с лица земли, даже если тебя возьмут под защиту эти солдаты, что сегодня вечером окажутся в наших руках либо отправятся на тот свет. Так что ступай и положись на Гоншона, как Гоншон полагается на Бийо.
Успокоенный Бийо направился ко входу в Бастилию, а собеседник его скрылся в глубине квартала, провожаемый дружными криками: "Да здравствует Гоншон! Да здравствует Мирабо народа!".
— Не знаю, каков Мирабо знати, — сказал Питу папаше Бийо, — но наш Мирабо, на мой вкус, здорово уродлив.
XVI
БАСТИЛИЯ И ЕЕ КОМЕНДАНТ
Мы не станем описывать Бастилию: это бесполезно.
Она навсегда запечатлелась в памяти стариков и детей.
Мы лишь напомним, что со стороны бульвара были видны две ее спаренные башни, выходившие на площадь Бастилии, а два фаса тянулись параллельно берегам нынешнего канала.
Вход в Бастилию охраняли, во-первых, караул, во-вторых, две линии часовых, в-третьих, два подъемных моста.
Преодолев все эти препятствия, вы попадали в Комендантский двор, где стоял дом коменданта.
Отсюда галерея вела ко рвам Бастилии.
Там был второй вход в Бастилию: еще один подъемный мост, еще одна караульня, железная опускная решетка.
Бийо задержали было у первого входа, но он предъявил письмо Флесселя, и его пропустили.
Тут Бийо заметил, что Питу идет следом за ним. Сам Питу не проявлял инициативы, но вслед за фермером спустился бы в ад или поднялся бы на луну.
— Оставайся снаружи, — сказал Бийо, — если я не выйду отсюда, кто-то должен напомнить народу, что я сюда вошел.
— Это верно, — согласился Питу. — Через сколько времени я должен об этом напомнить?
— Через час.
— А ларец? — спросил Питу.
— Верно. Вот что: если я не выйду отсюда, если Гоншон не возьмет Бастилию или же, взяв ее, не отыщет меня внутри, ты должен сказать доктору Жильберу — его-то вы, надеюсь, разыщете в крепости, — ты должен сказать ему, что приезжие из Парижа отняли у меня ларец, который он доверил мне пять лет назад; что я немедля бросился в Париж, чтобы сообщить ему об этом, но по прибытии туда узнал, что он в Бастилии; ты должен сказать ему, что я хотел взять Бастилию и, пытаясь взять ее, распростился с жизнью, целиком принадлежавшей ему, доктору.
— Все это хорошо, папаша Бийо, — сказал Питу, — только чересчур длинно, и я боюсь что-нибудь забыть.
— Из того, что я сейчас сказал?
— Да.
— Я повторю.
— Нет, — произнес чей-то голос подле Бийо, — лучше напишите.
— Я не умею писать, — сказал Бийо.
— А я умею, я судебный исполнитель.
— Ах, так вы судебный исполнитель?
— Станислас Майяр, судебный исполнитель из Шатле.
И он вытащил из кармана длинный роговой футляр с пером, бумагой и чернилами — словом, всем тем, что требуется для письма.
Майяр был мужчина лет сорока пяти, высокий, тощий, серьезный, одетый в черное, как и подобает человеку его профессии.
— Он дьявольски смахивает на факельщика из похоронной процессии, — прошептал Питу.
— Вы утверждаете, — невозмутимо продолжал судебный исполнитель, — что приезжие из Парижа отняли у вас ларец, доверенный вам доктором Жильбером. А ведь это преступление.
— Эти приезжие были из парижской полиции.
— Подлая воровка эта полиция! — пробормотал Майяр и, подавая Питу лист бумаги, добавил: — Держи, юноша, вот тебе памятка, а если его убьют… — он показал на Бийо, — и тебя тоже, то уж я-то, надеюсь, уцелею.
— И что же вы сделаете, если уцелеете? — спросил Питу.
— Сделаю то, что было поручено тебе.
— Спасибо, — сказал Бийо и протянул судебному исполнителю руку.
Тот пожал ее с силой, удивительной для столь тощего субъекта.
— Итак, я могу рассчитывать на вас? — спросил Бийо.
— Как на Марата, как на Гоншона.
— Ну и дела! — сказал Питу. — Вот так троица — бьюсь об заклад, в раю такой не встретишь.
Затем, обернувшись к Бийо, он продолжил:
— Кстати, папаша Бийо, не забывайте об осторожности.
— Питу, — отвечал фермер с красноречивой торжественностью, какой трудно было ожидать от сельского жителя, — не забывай, что во Франции самая большая осторожность — это отвага.
И он пересек первую линию часовых, меж тем как Питу возвратился на площадь.
У подъемного моста фермеру пришлось вновь вступить в переговоры.
Бийо показал свой пропуск — мост опустился, решетка поднялась.
За ней его ждал комендант.
Внутренний двор, где комендант Бастилии встретил фермера, служил местом для прогулок заключенных. Его окружали восемь башен — восемь гигантских стражей. Ни одно окно не выходило в этот двор. Луч солнца никогда не достигал его сырых, осклизлых камней, напоминавших дно глубокого колодца.
В этом дворе башенные часы, циферблат которых поддерживали изваяния скованных узников, отмеряли время так неторопливо, что приводили на память капли, сочащиеся с потолка в темнице и постепенно разъедающие ее каменный пол.
Очутившись на дне этого колодца, внутри этого каменного мешка, заключенный, чьему взгляду открывалась одна лишь неумолимая нагота камней, очень скоро просил вернуть его обратно в камеру.
За решеткой этого двора стоял, как мы уже сказали, г-н де Лонэ.
Это был человек лет сорока пяти — пятидесяти; в тот день на нем был розовато-серый кафтан, украшенный красной лентой ордена Святого Людовика; в руке он держал трость, внутри которой была спрятана шпага.
Господин де Лонэ был дурной человек: об этом можно судить по обнародованным недавно запискам Ленге; народ ненавидел коменданта Бастилии почти так же сильно, как управляемую им тюрьму.
Члены рода де Лонэ, подобно Шатонёфам, Ла Врийерам и Сен-Флорантенам, передававшим по наследству право проставлять имена в королевских указах о заключении в крепость, были потомственными властителями Бастилии.
Известно, что офицеры, служившие в Бастилии, получали назначение не от военного министра. Все места в крепости, от коменданта до поваренка, покупались. Комендант Бастилии был просто важный привратник, кабатчик в эполетах, который к шестидесяти тысячам франков жалованья прибавлял шестьдесят тысяч франков, полученных с помощью грабительства и вымогательства.
Нужно же было вернуть с процентами выложенные за должность деньги!
По части скупости г-н де Лонэ оставил далеко позади своих предшественников. Впрочем, может быть, он заплатил за свое место дороже, чем они, да к тому же предвидел, что недолго его сохранит.
Своих домашних он кормил за счет заключенных. Он уменьшил расход дров для узников, удвоил цену каждого предмета их утвари.
Господин де Лонэ имел право на беспошлинный ввоз в Париж ста бочек вина. Право свое он продавал трактирщику — тот благодаря этому, ввозил в столицу превосходные вина. Право же на ввоз десятой части комендант оставлял за собой и покупал скверное вино, по вкусу напоминающее уксус, — им он поил своих узников.
Несчастным заключенным оставалось одно утешение — садик, разведенный на крыше одного из бастионов. Там они гуляли, там на короткий миг вспоминали, что такое воздух, цветы, свет — одним словом, природа.
За пятьдесят ливров в год комендант сдал этот садик какому-то садовнику и лишил узников последней радости.
Правда, к богатым заключенным он проявлял чрезвычайное снисхождение: так, одного из них он возил к своей любовнице, жившей в собственном доме на свои средства и, следовательно, не стоившей ему, де Лонэ, ни единого су.
Прочтите "Бастилию без покровов": там изложены этот и многие другие факты.
Впрочем, г-н де Лонэ был храбр.
Уже второй день он чувствовал, что над его головой собираются тучи. Уже второй день он слышал, как волны бунта все громче и громче бьются о стены его крепости.
И все же он был спокоен, хотя и бледен.
Впрочем, за его спиной стояли четыре пушки, готовые открыть огонь, рядом с ним был гарнизон швейцарцев и солдат-инвалидов, а перед ним — безоружный человек.
Перед тем, как войти в крепость, Бийо отдал свой карабин Питу.
Он понимал, что по ту сторону ворот любое оружие принесет ему больше вреда, чем пользы.
Бийо было достаточно одного взгляда, чтобы заметить все: спокойное и почти угрожающее поведение коменданта, швейцарцев в караульнях, солдат инвалидов команды на площадках башен, молчаливую суету артиллеристов, укладывающих в зарядные ящики пороховые картузы.
Часовые держали ружья на изготовку, офицеры обнажили шпаги.
Комендант не двигался с места, и Бийо пришлось подойти к нему; решетка опустилась за спиной посланца народа с таким мрачным скрежетом, что, как ни отважен был фермер, его пробрала дрожь.
— Что вам еще угодно от меня? — спросил де Лонэ.
— Еще? — удивился Бийо. — Сдается мне, что мы видимся впервые в жизни, и посему у вас нет причин утверждать, что я докучаю вам просьбами.
— Но мне сказали, что вы пришли ко мне из ратуши.
— Это верно.
— А я только что принимал посланцев муниципалитета.
— Зачем же они приходили?
— Затем, чтобы попросить меня не открывать огонь.
— И вы обещали?
— Да. Еще они просили меня убрать пушки.
— И вы их убрали, я видел. Я был в эту минуту на площади.
— И, конечно, решили, что я испугался угроз этой толпы?
— Натурально, — согласился Бийо, — очень было на то похоже.
— Что я вам говорил, господа, — обратился де Лонэ к офицерам, — что я вам говорил: нас сочли способными на такую трусость!
Затем вновь обратился к Бийо:
— А от чьего имени пришли ко мне вы?
— От имени народа, — гордо ответил Бийо.
— Прекрасно, — улыбнулся де Лонэ, — но, полагаю, у вас, есть и какая-нибудь другая рекомендация, иначе вы не пересекли бы и первой линии часовых.
— Да, у меня есть охранная грамота от вашего друга господина де Флесселя.
— Флесселя! Вы назвали его моим другом, — живо подхватил де Лонэ, так пристально вглядываясь в лицо Бийо, словно ему хотелось прочесть все тайные мысли собеседника. — Откуда вы взяли, что господин де Флессель — мой друг?
— Мне так показалось.
— Показалось. Все дело в этом. Ладно, поглядим на охранную грамоту.
Бийо подал ему бумагу.
Де Лонэ прочел ее один раз, затем второй, развернул листок, дабы убедиться, что на обороте нет никакой приписки, поднес его ближе к свету, чтобы удостовериться, что в письме нет никакой тайнописи, скрытой между строк.
— И это все, что он мне сообщает? — спросил комендант.
— Да.
— Вы уверены?
— Совершенно уверен.
— И он ничего не велел передать на словах?
— Ничего.
— Странно! — произнес де Лонэ, бросив сквозь бойницу взгляд на площадь Бастилии.
— Но что же вы хотели от него услышать? — спросил Бийо.
Де Лонэ вздрогнул.
— В общем-то ничего особенного. Вернемся к вам; говорите, что вам нужно, но поскорее: я спешу.
— В двух словах: мне нужно, чтобы вы сдали нам Бастилию.
— Что, что? — переспросил, встрепенувшись, де Лонэ тоном человека, плохо расслышавшего слова собеседника. — Что вы сказали?
— Я сказал, что пришел к вам от имени народа с требованием сдать Бастилию.
Де Лонэ пожал плечами.
— По правде говоря, странная это тварь — народ, — сказал он.
Бийо в ответ только хмыкнул.
— И что же хочет сделать с Бастилией этот ваш народ?
— Он хочет ее разрушить.
— Какого черта далась ему Бастилия? Разве когда-нибудь хоть одного человека из народа сажали в Бастилию? Бастилия! Наоборот, народу следовало бы благословлять каждый ее камень. Кого сажают в Бастилию? Философов, ученых, аристократов, министров, принцев — одним словом, врагов народа.
— Ну что ж, значит, народ не такой себялюбец.
— Друг мой, — сказал де Лонэ с неким сочувствием, — сразу видно, что вы не солдат.
— Вы правы, я фермер.
— И что вы не парижанин.
— Вы правы, я из провинции.
— И что вы плохо знаете Бастилию.
— Совершенно верно, я знаю только то, что видел, то есть наружные стены.
— В таком случае пойдемте со мной, я покажу вам, что такое Бастилия.
"Ох-ох-ох! — подумал Бийо, — сейчас он спихнет меня в какой-нибудь каменный мешок, который внезапно разверзнется у меня под ногами, и тогда прощай, папаша Бийо".
Однако неустрашимый фермер ничем не выдал своих опасений и приготовился пойти следом за комендантом Бастилии.
— Для начала, — сказал де Лонэ, — усвойте, что в подвалах у меня достанет пороха, чтобы взорвать Бастилию, а с нею — половину Сент-Антуанского предместья.
— Это я знаю, — спокойно отвечал Бийо.
— Прекрасно. Теперь взгляните на эти четыре пушки.
— Я их вижу.
— Они, как нетрудно заметить, держат под прицелом всю галерею; путь к ней, кроме того, преграждают караулы, два рва, через которые можно перебраться только по подъемным мостам, и, наконец, опускная решетка.
— Да я ведь не говорю, что Бастилия плохо укреплена, — невозмутимо ответствовал Бийо, — я говорю, что мы будем ее хорошо атаковать.
— Пойдем дальше, — сказал де Лонэ.
Бийо кивнул.
— Вот потерна, выходящая в ров, — сказал комендант. — Убедитесь в толщине ее стен.
— Не меньше сорока футов.
— Да, внизу сорок, а сверху пятнадцать. Вы сами можете убедиться, что, какие бы острые когти ни имел народ, этот камень ему не своротить.
— Я и не говорил, что народ сначала разрушит Бастилию, а затем возьмет ее; я сказал, что он возьмет ее, а затем разрушит, — возразил Бийо.
— Поднимемся наверх, — предложил де Лонэ.
— Поднимемся, — согласился Бийо.
Они поднялись на три десятка ступеней.
Комендант остановился.
— Смотрите, — сказал он, — вот еще одна амбразура, откуда мы можем держать под обстрелом проход, которым вы собираетесь воспользоваться; конечно, из нее высовывается ствол не пушки, а всего лишь крепостного ружья, но у этого ружья недурная репутация. Знаете песенку:
Любимая волынка,
Как голос твой мне мил!
— Разумеется, знаю, — отвечал Бийо, — но, по моему разумению, сейчас не время ее петь.
— Погодите, я не договорил. Дело в том, что маршал Саксонский называл эти пушечки волынками, поскольку они лучше всех исполняли его любимую мелодию. Это так, историческая подробность.
— Ах вот что! — только и сказал Бийо.
— Поднимемся еще выше.
И они поднялись на орудийную площадку башни Конте.
— Ну и ну! — сказал Бийо.
— Что такое? — осведомился де Лонэ.
— Вы же не убрали пушки.
— Я приказал откатить их от бойниц, вот и все.
— Знайте, я скажу народу, что пушки еще здесь.
— Говорите.
— Вы, значит, не хотите их убрать?
— Нет.
— Решительно?
— Королевские пушки стоят здесь по приказу короля, сударь; следовательно, уберу я их тоже по приказу короля, и никак иначе.
— Господин де Лонэ, — сказал Бийо, чувствуя, как зреет в его уме величественная фраза, — истинный король, которому вам подлежит повиноваться, там, внизу, и я советую вам не забывать об этом.
С этими словами он указал коменданту на толпу: она казалась серой, но в ней кое-где алели окровавленные повязки участников вчерашних боев и сверкало на солнце оружие.
— Сударь, — отвечал де Лонэ, с надменным видом откинув назад голову, — быть может, вы подчиняетесь двум королям, но я, комендант Бастилии, признаю только одного: это Людовик, шестнадцатый король, носящий это имя, — король, поставивший свою подпись под моим назначением на эту должность, и его волей я командую этой крепостью и находящимися в ней людьми.
— Значит, вы не гражданин? — гневно воскликнул Бийо.
— Я французский дворянин, — отвечал комендант.
— Ах да, верно, вы солдат и говорите как солдат.
— Вы совершенно правы, сударь, — согласился де Лонэ, поклонившись, — я солдат и выполняю приказ.
— А я, сударь, — сказал Бийо, — я гражданин, и, поскольку мой долг гражданина противоречит приказу, который вы исполняете как солдат, одному из нас придется умереть — либо тому, кто будет исполнять приказ, либо тому, кто будет следовать долгу.
— Вполне вероятно, сударь.
— Итак, вы намерены стрелять в народ?
— Пока нет — до тех пор, пока он не начнет стрелять в меня. Я дал слово посланцам господина де Флесселя. Вы ведь видите, что пушки отодвинуты от амбразур. Однако после первого же выстрела, произведенного с площади по моей крепости…
— Что же произойдет после первого выстрела?
— Я подойду к одному из этих орудий, хотя бы вот к этому, я сам подкачу его к амбразуре, сам наведу и сам приставлю фитиль.
— Вы?
— Я.
— О, если бы я в это поверил, — воскликнул Бийо, — то прежде чем вы совершили бы подобное преступление…
— Я ведь вам сказал, сударь, что я солдат и повинуюсь только приказу.
— В таком случае, смотрите, — сказал Бийо, подводя де Лонэ к амбразуре и показывая пальцем сначала в сторону Сент-Антуанского предместья, а затем в сторону бульвара, — вот кто будет приказывать вам отныне.
Там, внизу, следуя изгибу бульваров, извивалась, подобно бесконечной змее, чей хвост терялся где-то вдали, черная, плотная, вопящая масса людей.
Гигантская эта змея была покрыта сверкающей чешуей.
Ее составляли два людских потока, два войска, которым Бийо назначил свидание на площади Бастилии: одно из них возглавлял Марат, другое — Гоншон.
Они текли к площади с двух сторон, потрясая оружием и испуская устрашающие крики.
Увидев все это, де Лонэ побледнел и, взмахнув тростью, скомандовал: "По местам!".
Затем, двинувшись к Бийо с угрожающим видом, он воскликнул:
— А вы, несчастный, вы явившийся сюда как парламентер, в то время как сообщники ваши идут на приступ, знаете ли вы, что заслуживаете смерти?
Бийо опередил коменданта и, быстрый, как молния, схватил де Лонэ за ворот и за пояс.
— А вы, — сказал он, приподняв его над землей, — вы заслуживаете, чтобы я швырнул вас через парапет и вы разбились бы о дно рва. Но, благодарение Богу, я расправлюсь с вами другим способом.
В эту минуту оглушительный вопль, который, казалось, испустила разом вся площадь, пронесся по воздуху как ураган, а на площадке показался плац-майор Бастилии г-н де Лом.
— Ради Бога, сударь, — обратился он к Бийо, — покажитесь толпе; эти люди думают, что с вами стряслась беда; они непременно хотят вас увидеть.
В самом деле, толпа выкрикивала имя Бийо, которое сообщил ей Питу.
Бийо отпустил коменданта, а тот убрал свою шпагу в ножны.
Снизу доносились угрожающие крики и призывы к мести; наверху три человека медлили, не зная, как поступить.
— Покажитесь же им, сударь, — сказал де Лонэ. — Не то чтобы эти крики меня смущали, но я не хочу прослыть бесчестным человеком.
Тогда Бийо высунул голову в бойницу и помахал рукой.
При виде его толпа разразилась рукоплесканиями. В лице этого человека из народа, первым властно ступившего на стены Бастилии, толпа, казалось, приветствовала воплощенную революцию.
— Теперь, сударь, — сказал де Лонэ, — мне больше не о чем говорить с вами, а вам больше нечего здесь делать. Вас ждут там, внизу; ступайте.
Бийо оценил этот благородный жест человека, в чьей власти он находился; он начал спускаться по той же лестнице; комендант шел за ним следом.
Что же до плац-майора, то он остался наверху: комендант тихонько отдал ему какие-то приказания.
Было очевидно, что г-ном де Лонэ владеет одно желание — чтобы присланный к нему парламентер как можно скорее возвратился в ряды его врагов.
Бийо молча пересек двор. Он увидел, что артиллеристы заняли места подле орудий. Фитили уже дымились.
Бийо остановился перед канонирами.
— Друзья! — сказал он. — Помните, что я приходил к вашему коменданту и просил его избежать кровопролития, но он отказал мне.
— Именем короля, сударь! — сказал де Лонэ, топнув ногой. — Уходите отсюда прочь!
— Берегитесь, — сказал Бийо, — вы гоните меня отсюда именем короля, но я вернусь именем народа.
Затем, обернувшись к караульным-швейцарцам, он спросил:
— А вы, на чьей вы стороне?
Швейцарцы молчали.
Де Лонэ указал ему пальцем на железные ворота.
Бийо решил предпринять последнюю попытку.
— Сударь! — сказал он коменданту. — Заклинаю вас именем нации! Именем ваших братьев!
— Моих братьев! Вы называете моими братьями тех, кто орет: "Долой Бастилию! Смерть коменданту!". Быть может, вам, сударь, эти люди — братья, но мне — увольте!
— В таком случае, заклинаю вас именем человечности!
— Именем человечности! Человечности, которая заставляет сто тысяч человек добиваться смерти сотни несчастных солдат, запертых в этих стенах!
— Вы имеете прекрасную возможность сохранить им жизнь, сдав Бастилию народу.
— И потеряв свою честь.
Бийо замолчал; эта логика солдата подавляла его; затем он снова обратился к швейцарцам и солдатам инвалидной команды.
— Сдайтесь, друзья мои! — вскричал он. — Сдайтесь, пока еще есть время. Через десять минут будет уже поздно.
— Если вы сию же минуту не выйдете отсюда, сударь, вскричал в свою очередь де Лонэ, — я велю расстрелять вас, даю слово дворянина.
Бийо секунду помедлил, а затем, скрестив руки на груди в знак презрения и последний раз взглянув в глаза де Лонэ, покинул крепость.
XVII
БАСТИЛИЯ
Толпа, трепеща, хмелея, ждала под палящим июльским солнцем. Люди Гоншона смешивались с людьми Марата. Сент-Антуанское предместье узнавало и приветствовало своего брата — предместье Сен-Марсо.
Гоншон сам возглавлял свое войско, что же до Марата, то он исчез.
Смотреть на площадь было страшно.
При появлении Бийо крики усилились.
— Итак? — спросил Гоншон, подходя к фермеру.
— Итак, — отвечал Бийо, — этот человек не робкого десятка.
— Что ты хочешь сказать словами "не робкого десятка"? — спросил Гоншон.
— Я хочу сказать, что он упорствует.
— Он не хочет сдать Бастилию?
— Нет.
— Он уверен, что выдержит осаду?
— Да.
— И ты думаешь, что он будет держаться долго?
— До смерти.
— Значит, он умрет.
— Но сколько же человек мы погубим вместе с ним! — сказал Бийо, сомневаясь, по всей видимости, в том, что Господь дал ему, Бийо, то право, которое без колебаний присваивают себе генералы, короли, императоры, — право проливать людскую кровь.
— Ничего! — отвечал Гоншон. — Раз половине французов не хватает хлеба, значит, их народилось чересчур много. Правда, друзья? — обратился он к толпе.
— Правда, правда! — с возвышенным самоотвержением согласилась толпа.
— А ров? — спросил Бийо.
— Его нужно заполнить в каком-нибудь одном месте, — отвечал Гоншон. — Меж тем по моим подсчетам половины наших тел достанет, чтобы заполнить его целиком, правда, друзья?
— Правда, правда! — повторила толпа с тем же воодушевлением.
— Ну что ж! Да будет так, — сказал Бийо.
В этот момент на орудийной площадке в сопровождении плац-майора де Лома и двух-трех офицеров показался де Лонэ.
— Начинай! — крикнул Гоншон коменданту.
Тот молча повернулся к нему спиной.
Быть может, Гоншон снес бы угрозу, но пренебрежения он снести не мог; он быстро вскинул карабин — и один офицер из свиты коменданта упал.
Сотня, тысяча выстрелов прозвучали одновременно, словно люди только и дожидались этого сигнала. Серые стены Бастилии покрылись белыми отметинами.
Затем на несколько секунд воцарилась тишина, словно толпа сама испугалась содеянного.
И тут над одной из башен взметнулся в облаке дыма столб пламени; раздался залп, в толпе послышались жалобные стоны; пушка Бастилии сделала свой первый выстрел, пролилась первая кровь. Сражение началось.
То, что испытала толпа, мгновение назад казавшаяся столь грозной, было похоже на ужас. Бастилия, начавшая оборону, предстала перед ней во всей своей неприступности. Народ, должно быть, надеялся, что в пору, когда власти делают ему уступку за уступкой, штурм Бастилии также обойдется без кровопролития.
Народ ошибался. Пушечный залп показал парижанам всю трудность титанического дела, за которое они взялись.
Вслед за выстрелом пушки с площадки башни раздался прицельный ружейный залп.
Потом снова наступила тишина, прерываемая раздающимися в разных местах криками, стонами, жалобами.
Море народа подернулось зыбью: это парижане подбирали убитых и раненых.
Однако люди, собравшиеся на площади, и не думали бежать, а если бы у них и появилось такое желание, то, оглядевшись кругом, они бы его устыдились.
В самом деле, бульвары, улицу Сент-Антуан, Сент-Антуанское предместье затопило безбрежное человеческое море: у каждой волны было лицо, на каждом лице сверкали горящие глаза, угрожающе кривился рот.
В один миг в окнах всех близлежащих домов, даже тех, откуда вести огонь по Бастилии было невозможно, появились стрелки.
Если на площадках или в амбразурах крепости появлялся инвалид или сухонький швейцарец, сотня ружей брала его на мушку, и град пуль крошил камень, за которым укрывался солдат.
Но стрелять по бесчувственным стенам — скучно. Стрелки целились в живую плоть. От удара свинца они ожидали не взметнувшуюся пыль, а пролившуюся кровь.
Каждый в толпе давал советы, пытаясь перекричать соседей.
Люди собирались вокруг оратора, но, убедившись, что предложение его лишено смысла, расходились.
Какой-то каретник предложил построить катапульту наподобие древних римских машин и пробить брешь в крепостной стене.
Пожарные предлагали залить водой запальные устройства и фитили пушек, забывая, что самая мощная из их помп взметнет струю воды самое большее на две трети высоты крепостных стен.
Прославленнейший пивовар Сент-Антуанского предместья, получивший с тех пор иную, более зловещую известность, предложил поджечь крепость, бросая туда захваченное накануне маковое и лавандовое масло, воспламененное с помощью фосфора.
Бийо выслушал все эти предложения, а затем, выхватив из рук какого-то плотника топор, двинулся вперед под градом пуль, косивших вокруг него людей, стоящих так же тесно, как колосья на хлебном поле. Достигнув малой кордегардии, расположенной подле первого подъемного моста, он стал рубить цепи этого моста; картечь свистела кругом, била по крыше караульни, но Бийо не обращал на нее никакого внимания; наконец, через четверть часа, цепи подались и мост опустился.
Толпа затаив дыхание следила за действиями этого безумца: его мог свалить каждый новый залп. Забыв об опасности, которой подвергались они сами, парижане думали только о том, что грозило этому смельчаку. Когда же мост опустился, они с громким воплем ринулись в первый двор Бастилии.
Порыв толпы был так стремителен, так мощен, так сокрушителен, что никто даже не пытался ему противостоять.
Неистовые крики радости оповестили де Лонэ об этой первой победе народа.
Никто даже не заметил, что деревянная громада моста придавила какого-то человека.
Вдруг дула тех четырех пушек, которые показывал фермеру комендант, сверкнули, словно четыре огня в глубине пещеры; ядра вылетели из них одновременно, издав ужасающий грохот, и рухнули посреди первого двора.
Железный ураган оставил в толпе длинную кровавую борозду: десять или двенадцать убитых, пятнадцать или двадцать раненых — таковы были последствия этого первого залпа.
Бийо, к счастью, уцелел, и вот почему: соскользнув с крыши кордегардии на землю, он неожиданно столкнулся с Питу, неведомо как оказавшимся рядом с ним. У Питу были зоркие глаза опытного браконьера. Он увидел, как артиллеристы поджигают фитили, схватил Бийо за полу и живо оттащил назад. Угол стены защитил обоих от первого залпа.
С этой минуты стало ясно, что дело приняло серьезный оборот; шум стоял ужасающий, схватка шла не на жизнь, а на смерть; десять тысяч ружей разом открыли огонь по Бастилии, подвергая опасности не столько осаждаемых, сколько осаждающих. К ружейной пальбе прибавила свой голос пушка, доставленная на площадь французскими гвардейцами.
Страшный грохот опьяняет толпу; однако он начинает пугать осаждающих, которые, оценив свои силы, понимают, что их ружейному огню никогда не сравняться с оглушающим грохотом крепостных пушек.
Но и офицеры Бастилии, инстинктивно чувствуя, что их солдаты слабеют, сами хватают ружья и открывают огонь.
В эту минуту, среди грохота пушечных и ружейных залпов, среди воплей толпы, вновь бросающейся подбирать убитых, чьи раны становятся новым оружием, взывая к отмщению, в воротах первого двора появляется группа спокойных, безоружных буржуа; парламентеры движутся сквозь толпу под охраной одного лишь белого знамени, готовые пожертвовать своей жизнью.
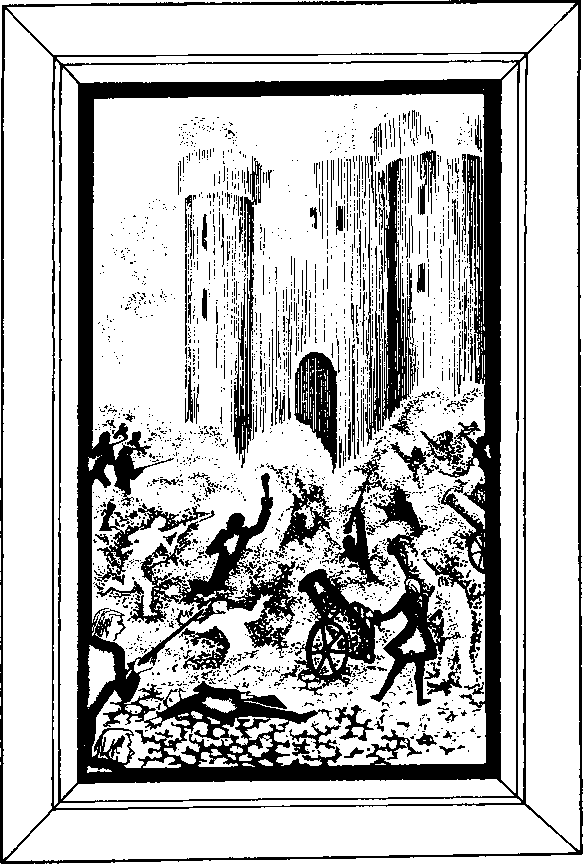
Это депутация из ратуши: выборщики узнали, что в Бастилии идет сражение, и, желая предотвратить кровопролитие, они заставили Флесселя обратиться к коменданту крепости с новыми предложениями.
От имени города депутаты хотят предписать г-ну де Лонэ, чтобы он прекратил огонь и ради сохранения жизни граждан, гарнизона и своей собственной разместил в крепости сотню человек из городской гвардии.
Обо всем этом депутаты сообщают толпе. Народ, сам убоявшийся того дела, за которое взялся, народ, видящий, сколько раненых и убитых уже лежат на носилках, готов принять предложение депутатов: если де Лонэ согласится на полупоражение, толпа смирится с полупобедой.
При виде парламентеров защитники крепости, ведущие огонь во втором дворе, прекращают стрелять; они делают депутатам знак приблизиться, и те в самом деле приближаются, поскальзываясь в крови, перешагивая через трупы, помогая подняться раненым.
Благодаря им народ получает передышку. Убитых и раненых уносят, и во дворе остается лишь кровь, обагряющая его камни.
Защитники крепости больше не стреляют. Бийо выходит на площадь, чтобы уговорить осаждающих также прекратить стрельбу. В воротах он встречает Гоншона. Тот, безоружный, невозмутимо идет вперед, словно движимый некой потусторонней силой; кажется, ему не страшны ни пули, ни ядра.
— Ну, что там с депутацией? — спрашивает он у Бийо.
— Она вошла в крепость; прекратите огонь.
— Это бесполезно, — говорил Гоншон так уверенно, как будто Господь дозволил ему заглянуть в будущее. — Комендант не согласится.
— Все равно, мы должны уважать военные законы, раз мы стали солдатами.
— Согласен, — кивает Гоншон.
Подозвав двух парижан, которые, судя по всему, помогали ему управлять всей этой человеческой массой, Гоншон приказал:
— Ступайте, Эли и Юлен, и чтобы я не слышал ни единого выстрела.
По слову своего командира адъютанты нырнули в толпу, и вскоре гром выстрелов начал стихать, а затем вовсе умолк.
На площади наступила тишина. Народ воспользовался минутами покоя, чтобы позаботиться о раненых, число которых достигло тридцати пяти или даже сорока.
В тишине раздался бой часов: два удара. Наступление началось в полдень. Значит, сражение шло уже два часа.
Бийо вернулся на свой пост; Гоншон последовал за ним.
Он тревожно поглядывал на опускную решетку, не скрывая нетерпения.
— Что с тобой? — спросил его Бийо.
— Вот что: если через два часа мы не возьмем Бастилию, все пропало.
— От чего же?
— Тогда что двор узнает, чем мы тут заняты, и пришлет сюда швейцарцев Безанваля и драгунов Ламбеска, так что мы окажемся между трех огней.
Бийо не мог не признать, что Гоншон совершенно прав.
Наконец в воротах показались депутаты. По их унылому виду было ясно, что они ничего не добились.
— Ну, что я говорил! — воскликнул Гоншон, сияя от радости. — Предсказанное свершится: эта проклятая крепость обречена.
Даже не расспросив ни о чем парламентеров, он выбежал из первого двора с криком:
— К оружию! К оружию, дети мои! Комендант не желает сдаваться!
В самом деле, не успел комендант прочесть письмо Флесселя, как лицо его просветлело, и, вместо того чтобы согласиться на сделанное ему предложение, он воскликнул:
— Поздно, господа парижане! Вы желали сражения, и вы его получили.
Парламентеры настаивали, перечисляли все беды, к которым может привести упорство де Лонэ. Но он не пожелал слушать никаких доводов и в заключение сказал парламентерам то же самое, что два часа назад услышал от него Бийо:
— Уходите, или я прикажу расстрелять вас.
И депутация удалилась.
На сей раз де Лонэ перешел в наступление первым. Казалось, он захмелел от нетерпения. Депутаты еще не покинули двор крепости, как волынка маршала Саксонского принялась выводить свою мелодию. Три человека упали: один был убит, двое — ранены.
Из этих двоих один был французский гвардеец, а другой — парламентер.
При виде этого человека, залитого кровью, хотя возложенная на него миссия делала его личность неприкосновенной, толпу вновь охватила ярость.
Адъютанты Гоншона, как прежде, заняли места подле него; за время передышки оба успели сходить домой переодеться, ведь один жил рядом с Арсеналом, а другой — на улице Шаронн.
Юлен, в прошлом женевский часовщик, ставший затем егерем маркиза де Конфлана, возвратился из дому в ливрее, похожей на мундир венгерского офицера.
Эли, бывший офицер полка королевы, надел свой старый мундир, дабы парижане думали, что армия на их стороне, и чувствовали себя более уверенно.
Обе стороны вновь открыли огонь и вели его с еще большим ожесточением, чем прежде.
В это время плац-майор Бастилии, г-н де Лом, подошел к коменданту.
Этот отважный и честный солдат остался в душе гражданином: ему больно было видеть то, что происходит, и больно думать о том, что может произойти.
— Сударь, — сказал он коменданту, — известно ли вам, что у нас нет провианта?
— Мне это известно, — отрезал де Лонэ.
— Вдобавок у нас нет приказа — это вам также известно?
— Прошу прощения, господин де Лом, у меня есть приказ держать ворота Бастилии закрытыми, потому мне и доверили ее ключи.
— Сударь, ключи служат не только для того, чтобы закрывать двери, но и для того, чтобы их открывать. Вы пожертвуете всем гарнизоном, но не спасете крепости. Вы подарите мятежникам две победы в один день. Взгляните на этих людей: мы убиваем их, а они вновь вырастают среди камней. Утром их было пять сотен, три часа назад их было десять тысяч, теперь их шестьдесят тысяч, завтра их будет сто тысяч. Когда наши пушки замолчат, — а рано или поздно им придется замолчать, — у этих людей достанет сил разрушить Бастилию голыми руками.
— Вы говорите как человек штатский, господин де Лом.
— Я говорю как француз, сударь. Я думаю, что, поскольку его величество не давал нам приказа… а господин купеческий старшина сделал нам вполне приемлемое предложение — разместить в крепости сто человек из городской гвардии, — вы можете его принять и тем предотвратить несчастья, которых я опасаюсь.
— По вашему мнению, господин де Лом, нам следует повиноваться парижским городским властям?
— Да, сударь, если мы не имеем прямых указаний его величества.
— Ну что ж, — сказал де Лонэ, отводя де Лома в угол двора, — в таком случае прочтите вот это, господин де Лом.
И он подал плац-майору маленький листок бумаги.
Де Лом прочел:
"Держитесь: я морочу парижанам голову кокардами и посулами. К вечеру господин де Безанваль пришлет Вам подкрепление.
Де Флессель".
— Как попала к вам эта записка, сударь? — спросил плац-майор.
— Она была в конверте, который принесли мне господа парламентеры. Они полагали, что вручают мне приглашение сдать Бастилию, а вручили приказ защищать ее.
Плац-майор потупился.
— Отправляйтесь на свой пост, сударь, — приказал де Лонэ, — и не покидайте его до тех пор, пока я вас не позову.
Господин де Лом исполнил приказание.
А г-н де Лонэ хладнокровно сложил записку, убрал ее в карман и возвратился к канонирам, которым велел целить ниже и точнее.
Канониры, как и г-н Лом, повиновались.
Но судьба крепости была предрешена. Не в человеческих силах было повернуть события вспять.
На каждый пушечный залп народ отвечал: "Нам нужна Бастилия!".
Голоса требовали Бастилию, а руки действовали.
В числе голосов, требовавших особенно громко, в числе рук, действовавших особенно энергично, были голоса и руки Питу и Бийо.
Разница состояла лишь в том, что каждый поступал сообразно своей натуре.
Бийо, отважный и доверчивый, как бульдог, сразу бросался вперед, не обращая внимания на пули и картечь.
Питу, осторожный и осмотрительный, как лисица, наделенный могучим инстинктом самосохранения, употреблял все свои способности для того, чтобы уловить опасность и избежать ее.
Он видел все самые смертоносные амбразуры, он улавливал неощутимые движения стволов, готовых выстрелить. В конце концов он дошел до того, что точно угадывал мгновение, когда батарея крепостных ружей начнет стрелять по подъемному мосту.
Эту услугу оказывали Питу глаза; дальше за работу принимались другие части его тела.
Голова втягивалась в плечи, грудь задерживала дыхание, все тело становилось похожим на доску, если на нее смотреть сбоку.
В эти минуты Питу, упитанный Питу, — ибо у Питу тощими были только ноги, — уподоблялся геометрической линии, не имеющей ни ширины, ни толщины.
Он облюбовал закоулок между первым и вторым подъемным мостом, нечто вроде бруствера, образуемого выступающими из стены камнями; один из этих камней защищал его голову, другой — живот, третий — колени, и Питу благословлял природу и фортификационное искусство за то, что они так слаженно охраняют его от смертоносных пуль.
Из своего угла, где он притаился, как заяц в норе, Питу время от времени постреливал — в основном для очистки совести, так как перед ним были лишь крепостные стены и деревянные балки, да еще для того, чтобы доставить удовольствие папаше Бийо, то и дело кричавшему:
— Стреляй же, лентяй этакий, стреляй!
Со своей стороны, Питу, стремясь умерить пыл папаши Бийо, который в подбадриваниях не нуждался, кричал ему:
— Не высовывайтесь так сильно, папаша Бийо!
Или же:
— Осторожнее, господин Бийо, вернитесь, сейчас выстрелит пушка; берегитесь — у ружья щелкнул курок!
И не успевал Питу произнести эти пророческие слова, как пушечный или ружейный залп обрушивалися на головы парижан.
Бийо не внимал предостережениям Питу и совершал чудеса силы и ловкости — впрочем, все напрасно. Он жаждал пролить кровь на поле брани, но ему это не удавалось, и вместо крови он истекал потом.
Раз десять Питу приходилось хватать его за полу и укладывать на землю за секунду до того, как раздавался выстрел.
И всякий раз Бийо поднимался с земли если не с новыми силами, как Антей, то с новыми идеями.
Иной раз эта идея заключалась в том, чтобы поступить со вторым мостом так же, как он уже поступил с первым, то есть обрубить его цепи.
Тогда Питу старался удержать фермера протестующими воплями, а затем, видя, что вопли эти бесполезны, выскальзывал из своего убежища со словами:
— Господин Бийо, дорогой господин Бийо, но ведь если вас убьют, госпожа Бийо останется вдовой!
А тем временем швейцарцы опускали стволы своих ружей, чтобы взять на мушку смельчака, покушающегося на их мост.
В другой раз Бийо решал обстрелять мост из пушки, но защитники крепости снова пускали в ход ружья, артиллеристы Бийо отступали, он оставался при орудии один, и Питу вновь приходилось покидать убежище.
— Господин Бийо, — кричал он, — господин Бийо, заклинаю вас именем мадемуазель Катрин! Подумайте же о том, что, если вас убьют, мадемуазель Катрин останется сиротой!
И Бийо подчинялся, ибо оказывалось, что этот довод имеет над ним большую власть, чем первый.
Наконец богатому воображению фермера представилось еще одно средство.
Он бросился на площадь к криком:
— Тележку! Тележку!
— Две тележки! Две тележки! — закричал Питу (он рассудил, что от удвоения хорошее становится еще лучше) и последовал за Бийо.
Тотчас появился десяток тележек.
— Сухого сена и соломы! — потребовал Бийо.
— Сухого сена и соломы! — повторил Питу.
И тут же две сотни человек притащили им по охапке сена и соломы.
Другие приволокли на носилках высушенный навоз.
Пришлось крикнуть, что принесенного в десять раз больше, чем нужно, иначе через час на площади выросла бы гора фуража, не уступающая по высоте самой Бастилии.
Бийо схватил тележку, груженную соломой, за ручки и стал толкать ее перед собой.
Питу поступил так же; зачем он это делает, он не знал, но полагал, что, раз так поступает фермер, значит, и ему следует делать то же.
Эли и Юлен, догадавшись, что задумал Бийо, также схватили тележки и покатили их во двор.
Во дворе их встретила стрельба; пули и картечь летели с пронзительным свистом и попадали в солому либо в дощатые борта и колеса тележек. Ни один из наступающих ранен не был.
Как только стрельба ненадолго затихла, две или три сотни осаждающих бросились на приступ вслед за тележками и под защитой этого прикрытия разместились прямо под настилом моста.
Тогда Бийо вытащил из кармана огниво с трутом, насыпал в бумажный кулек пороха, поджег его и бросил в солому.
Порох зажег бумагу, бумага зажгла солому.
Каждый схватил по соломенному жгуту, и вслед за первой запылали остальные тележки.
Чтобы погасить огонь, обороняющимся пришлось бы выйти из крепости; выйти же означало обречь себя на верную смерть.
Огонь охватил мост, впился острыми зубами в деревянный настил, зазмеился по опорам.
Крик радости, послышавшийся во дворе, повторила вся площадь Сент-Антуан. Люди видели поднимающийся из-за стен дым. Они не знали толком, в чем дело, но подозревали, что в крепости происходит что-то гибельное для ее защитников.
В самом деле, раскалившиеся от огня цепи оторвались от столбов. Мост, наполовину сломанный, наполовину сгоревший, дымящийся, потрескивающий, рухнул вниз.
Тут за дело взялись пожарные со своими насосами. Комендант приказал открыть огонь, но солдаты инвалидной команды отказались ему повиноваться.
Команды де Лонэ выполняли одни лишь швейцарцы. Но они не умели обращаться с пушками, и пушки замолчали.
Напротив, французские гвардейцы, воспользовавшись прекращением артиллерийского огня, приставили фитиль к своей пушке; третьим выстрелом им удалось разбить решетку.
Комендант стоял на вершине одной из башен, пытаясь разглядеть, не идет ли обещанное подкрепление, когда вдруг его обволокли клубы дыма. Именно после этого он сбежал по лестнице вниз и приказал артиллеристам открыть огонь.
Отказ солдат инвалидной команды привел его в отчаяние. А увидев разбитую решетку, он понял, что все кончено.
Господин де Лонэ знал, что его ненавидят. Он сознавал, что ему не спастись. С самого начала сражения его не покидала мысль о том, чтобы погубить себя вместе с Бастилией.
Убедившись, что сопротивление бесполезно, он выхватывает из рук артиллериста фитиль и устремляется к пороховому погребу.
— Порох! — в ужасе восклицают разом два десятка голосов. — Порох! Порох!
Эти люди увидели фитиль в руках коменданта и угадали его намерение. Два солдата бросаются ему наперерез и приставляют штыки к его груди в тот самый момент, когда он открывает дверь.
— Вы можете убить меня, — говорит де Лонэ, — но, перед тем как испустить дух, я все-таки успею швырнуть этот фитиль в бочонок с порохом, и тогда вы взлетите на воздух все вместе — и осаждающие и осаждаемые.
Солдаты уступают. Штыки по-прежнему приставлены к груди де Лонэ, но команды отдает он, ибо все понимают, что их жизнь в его руках. Все словно оцепенели. Наступающие замечают, что происходит нечто странное. Они устремляют взгляды в глубь двора и видят коменданта, готового погубить и себя, и всех кругом.
— Послушайте, — говорит де Лонэ, — вы видите, что в моей власти погубить вас всех; предупреждаю: если хотя бы один из вас войдет в этот двор, я подожгу порох.
Тем, кто слышат эти слова, кажется, что земля дрогнула у них под ногами.
— Чего вы хотите? Чего вы требуете? — кричат несколько человек, и в их голосах слышен ужас.
— Я хочу почетной капитуляции.
Однако осаждающие не верят словам де Лонэ, продиктованным отчаянием; они хотят во что бы то ни стало войти в крепость. Возглавляет их ряды Бийо. Внезапно он вздрагивает и бледнеет; он вспоминает, зачем пришел к стенам Бастилии.
— Стойте! — кричит Бийо, бросаясь к Эли и Юлену. — Заклинаю вас именем пленников, стойте!
И эти люди, готовые пожертвовать своей жизнью ради победы, отступают, в свой черед бледнея и трепеща.
— Чего вы хотите? — вновь задают они коменданту вопрос, который ему уже задавали солдаты гарнизона.
— Я хочу, чтобы все покинули территорию Бастилии, — отвечает де Лонэ. — Я не буду вести никаких переговоров до тех пор, пока в крепости останется хотя бы один посторонний.
— Однако, — возражает Бийо, — в наше отсутствие вы сможете привести здесь все в боевой порядок.
— Если мы не договоримся о капитуляции, мы вернемся туда, где находимся теперь: я — к этим воротам, вы — к тем.
— Вы даете слово?
— Слою дворянина.
Некоторые осаждающие недоверчиво покачали головами.
— Слово дворянина! — повторил де Лонэ. — Здесь есть люди, не верящие слову дворянина?
— Нет, нет, мы верим! — ответили пять сотен голосов.
— Пусть мне принесут бумагу, перо и чернила.
Приказ коменданта был исполнен мгновенно.
— Хорошо, — сказал де Лонэ; затем обратился к своим противникам:
— А вы все ступайте прочь.
Бийо, Юлен и Эли подали пример и вышли первыми.
Остальные последовали за ними.
Де Лонэ отложил фитиль и, положив бумагу на колено, начал набрасывать условия капитуляции.
Солдаты инвалидной команды и швейцарцы, понимая, что решается их судьба, молча, с почтительным страхом следили за ним.
Прежде чем положить перо, де Лонэ оглянулся. Дворы были пусты.
Тем временем снаружи мгновенно узнали обо всем, что произошло внутри.
Как и предсказывал г-н де Лом, толпа на площади росла как из-под земли. Бастилию окружало уже сто тысяч человек.
Тут были не только рабочие, но и граждане всех сословий, не только мужчины, но и дети и старики.
И каждый был вооружен, каждый что-то кричал.
Повсюду мелькали заплаканные, растрепанные женщины, заламывающие руки в отчаянии и проклинающие каменную громаду.
Это были матери, у которых Бастилия только что отняла сыновей, жены, у которых Бастилия только что отняла мужей.
Между тем уже несколько минут Бастилия не грохотала, не изрыгала пламени и дыма. Бастилия погасла. Бастилия стала нема как могила.
Нечего было и пытаться сосчитать следы пуль, избороздившие ее стены. Каждый постарался принять участие в наступлении на это гранитное чудовище — зримое воплощение тирании.
Поэтому, когда в толпе узнали, что страшная Бастилия вот-вот капитулирует, что комендант обещал сдать ее народу, никто не смог в это поверить.
Охваченная сомнениями, в молчании, толпа ждала развязки, когда вдруг в одной из амбразур показалась шпага, на конце которой белел лист бумаги.
Однако между этим письмом и толпами наступающих пролегал ров — широкий, глубокий, наполненный водой.
Бийо потребовал доску: три были испробованы, но оказались слишком коротки. Четвертая подошла.
Бийо перекинул ее через ров и, ни секунды не поколебавшись, двинулся вперед по этому шаткому мосту.
Толпа молча следит за ним; все глаза устремлены на этого смельчака, делающего шаг за шагом над бездной, напоминающей воды Коцита. Питу, дрожа, усаживается на самом краю рва и прячет голову в колени.
Мужество изменяет ему: он плачет.
Внезапно, уже оставив позади две трети пути, Бийо теряет равновесие, взмахивает руками, падает и скрывается под водой.
Питу издает глухой стон и, подобно верному ньюфаундленду, бросается в воду вслед за своим повелителем.
Тогда к доске, с которой только что упал Бийо, подходит еще один человек.
Также без колебаний он ступает на импровизированный мост. Это Станислас Майяр, судебный исполнитель из Шатле.
Дойдя до места, где барахтаются в тине Питу и Бийо, он на мгновение опускает глаза вниз и, убедившись, что они доберутся до берега целыми и невредимыми, продолжает свой путь.
Через полминуты он оказывается на другом берегу рва и снимает с кончика шпаги письмо коменданта.
Затем так же невозмутимо, тем же твердым шагом он по доске возвращается обратно.
Но в тот самый миг, когда народ окружает его, чтобы прочесть письмо, раздается мощнейший залп и на толпу обрушивается град пуль.
Один лишь вопль вырвался из каждой груди — это был вопль, возвещающий месть народа.
— Вот что значит верить тиранам! — кричит Гоншон.
И забыв о капитуляции, о порохе, о собственной жизни, о жизни заключенных, без раздумий, с единственным желанием — отомстить, народ бросается внутрь крепости: на приступ идут уже не сотни, но тысячи парижан.
Теперь путь им затрудняет не стрельба, но слишком узкие ворота.
Услышав залп, двое солдат, ни на минуту не покидавших г-на де Лонэ, бросаются на него, а третий выхватывает у него фитиль и топчет ногами.
Де Лонэ выхватывает шпагу из трости и хочет заколоться; шпагу ломают у него в руках.
Комендант понимает, что ему остается лишь одно — ждать, и он ждет.
Народ заполняет крепость, гарнизон братается с ним, и вот Бастилия взята штурмом, силой: капитуляции не потребовалось.
Все дело в том, что ют уже сто лет, как в королевскую крепость заключали не человека, но саму мысль. Мысль взорвала Бастилию, и народ устремился в образовавшуюся брешь.
Что же до залпа, прозвучавшего в тишине перемирия — этого неожиданного, бесцельного, рокового залпа, — никто никогда не узнал, кто подал к нему сигнал, кто его замыслил и осуществил.
Бывают минуты, когда судьба взвешивает на своих весах будущее целой нации. Одна чаша перевешивает. Люди уже мнят, что добились своего. Внезапно невидимая рука бросает на другую чашу лезвие кинжала или пистолетную пулю. В одно мгновение все меняется и со всех сторон раздается единственный крик: "Горе побежденным!".
Назад: XI НОЧЬ С 12 НА 13 ИЮЛЯ
Дальше: XVIII ДОКТОР ЖИЛЬБЕР

