Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 21. Анж Питу 1995.
Назад: VII ГЛАВА, ГДЕ ДОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ДЛИННЫЕ НОГИ НЕСКОЛЬКО НЕУКЛЮЖИ, КОГДА ТАНЦУЕШЬ, НО ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫ, КОГДА УБЕГАЕШЬ
Дальше: XIV ТРИ ВЛАСТИ, ПРАВЯЩИЕ ФРАНЦИЕЙ
XI
НОЧЬ С 12 НА 13 ИЮЛЯ
Улица показалась Бийо и Питу безлюдной оттого, что драгуны, бросившись в погоню за убегающей толпой, поскакали в направлении Рынка Сент-Оноре и рассеялись по улицам Людовика Великого и Гайон; но чем ближе подходил фермер к Пале-Роялю, безотчетно твердя вполголоса слово "Месть!", тем больше людей появлялось на углах улиц и переулков, в проходах, на порогах домов; поначалу молчаливые и растерянные, они оглядывались вокруг и, убедившись в отсутствии драгунов, присоединялись к траурному шествию, повторяя сначала вполголоса, потом громче, а затем в полный голос то же самое слово: "Месть! Месть!".
Питу шел вслед за фермером с колпаком савояра в руке.
Когда зловещая траурная процессия достигла площади Пале-Рояля, хмельной от гнева народ уже держал там совет и просил у солдат-французов защиты от чужеземцев.
— Что это за люди в мундирах? — спросил Бийо, подходя к роте солдат, которые с ружьями к ноге перегораживали площадь Пале-Рояля, растянувшись цепью от главных ворот дворца до Шартрской улицы.
— Это французские гвардейцы! — крикнули несколько голосов.
— Как же так? — сказал Бийо, подойдя к гвардейцам ближе и показывая им тело савояра, который к этому времени уже испустил дух. — Как же так? Вы, французы, позволяете немцам убивать нас!
Гвардейцы невольно подались назад.
— Он мертв! — послышались тихие голоса.
— Да, он мертв! Он убит, и не он один.
— Кто же его убил?
— Драгуны королевского немецкого полка. Вы разве не слыхали криков, стрельбы, топота копыт?
— Слыхали, слыхали! — ответили разом две или три сотни голосов. — На Вандомской площади расправлялись с народом.
— Да ведь вы-то тоже народ, тысяча чертей! — воскликнул Бийо, обращаясь к солдатам. — Разве не трусость с вашей стороны — позволять немцам убивать ваших братьев?!
— Трусость? — послышались угрожающие голоса.
— Да… трусость! Я это сказал и повторяю. Или, может быть, вы хотите убить меня, чтобы доказать, что вы не трусы?
С этими словами Бийо сделал несколько шагов к тому месту, откуда раздались угрозы.
— Ладно, ладно!.. Хватит… — сказал один из солдат. — Вы, друг мой, храбрый малый, но вы горожанин и можете делать что хотите, а солдат — военный, и он должен выполнять приказ.
— Выходит, — закричал Бийо, — если вам дадут приказ стрелять в нас, безоружных людей, вы будете стрелять — вы, наследники тех, кто при Фонтенуа предложил англичанам первыми открыть огонь?!
— За себя ручаюсь: я стрелять не стану, — сказал кто-то из гвардейцев.
— И я! И я тоже! — повторила вслед за ним сотня голосов.
— В таком случае позаботьтесь о том, чтобы и другие в нас не стреляли, — сказал Бийо. — Если вы позволите немцам убивать нас — это будет все равно как если бы вы убивали нас сами.
— Драгуны! Драгуны! — закричали сразу несколько голосов.
Толпа, теснимая преследователями, выплеснулась с улицы Ришелье на площадь, а издалека донесся топот копыт тяжелой кавалерии, с каждой минутой слышавшийся все более отчетливо.
— К оружию! К оружию! — кричали беглецы.
— Тысяча чертей! — воскликнул Бийо, сбрасывая наземь тело савояра, которое до этой минуты все еще держал на своих плечах. — Если вы сами не способны пустить в ход ружья, отдайте их нам.
— Если на то пошло, мы, черт подери, пустим их в ход сами! — сказал солдат, к которому обратился Бийо, и отобрал у фермера уже схваченное им ружье. — Живо, живо! Заряжай! Пусть только австрийцы попробуют сказать слово этим парням, увидим!
— Да, да, увидим! — закричали солдаты, заряжая ружья.
— О, дьявол! — закричал Бийо, топнув ногой. — Угораздило же меня оставить дома охотничье ружье! Но если только одного из этих австрийских псов подстрелят, я заберу у него мушкетон.
— А пока возьмите этот карабин, он заряжен, — произнес чей-то голос, и какой-то человек сунул в руки Бийо дорогой карабин.
В ту же самую минуту драгуны ворвались на площадь и стали опрокидывать и рубить саблями всех, кто оказывался у них на пути.
Офицер, командовавший французскими гвардейцами, выступил на четыре шага вперед.
— Эй, господа драгуны! — крикнул он. — Стойте! Остановитесь, прошу вас.
Но драгуны — то ли не услышали его, то ли не захотели услышать, то ли так разогнались, что не смогли остановиться, — метнулись по площади вправо, сбили женщину и старика, и те тут же исчезли под копытами их лошадей.
— Раз так — огонь! Огонь! — закричал Бийо.
Он стоял рядом с офицером, так что можно было подумать, что команду эту дал офицер. Гвардейцы вскинули ружья и дали залп, сразу остановивший драгунов.
Эскадрон пришел в замешательство.
— Эй, господа гвардейцы, — сказал, выезжая вперед, немецкий офицер, — знаете ли вы, в кого стреляете?
— Черт подери! Еще бы нам не знать, — сказал Бийо и выстрелил в офицера. Тот упал.
Тогда французские гвардейцы произвели второй залп, и немцы, поняв, что на этот раз имеют дело не с горожанами, обращающимися в бегство от первого же удара саблей, но с солдатами, готовыми принять бой, развернулись и возвратились на Вандомскую площадь; вслед им раздался такой оглушительный вопль восторга, что немало лошадей понесли и расшибли себе головы о закрытые ставни.
— Да здравствуют французские гвардейцы! — кричала толпа.
— Да здравствуют солдаты отечества! — кричал Бийо.
— Спасибо, — отвечали гвардейцы. — Мы видели, как стреляют, и получили боевое крещение.
— И я, — сказал Питу, — я тоже видел, как стреляют.
— Ну, и что ты скажешь? — спросил Бийо.
— Скажу, что это не так страшно, как я думал.
— Теперь, — сказал Бийо, осмотрев карабин и убедившись, что он стоит больших денег, — теперь я хотел бы знать, чье это ружье?
— Моего хозяина, — отозвался из-за его спины знакомый голос. — Но вы так ловко пустили его в ход, что мой хозяин раздумал забирать его назад.
Бийо обернулся и увидел конюха в ливрее герцога Орлеанского.
— А где он, твой хозяин? — спросил он.
Конюх показал ему приоткрытые жалюзи, из-за которых герцог мог видеть все, что происходило на улице.
— Значит, он за нас, твой хозяин? — спросил Бийо.
— Он душой и сердцем за народ, — ответил конюх.
— В таком случае скажем еще раз: да здравствует герцог Орлеанский! — закричал Бийо. — Друзья, герцог Орлеанский за нас, да здравствует герцог Орлеанский!
И он указал толпе на жалюзи, за которыми стоял герцог.
Тогда они отворились полностью, и герцог Орлеанский трижды поклонился толпе.
Затем жалюзи вновь затворились.
Каким бы коротким ни был этот эпизод, он привел толпу в исступление.
— Да здравствует герцог Орлеанский! — завопили две или три тысячи голосов.
— Взломаем лавки оружейников! — предложил кто-то в толпе.
— Пойдем в Дом инвалидов! У Сомбрейля двадцать тысяч ружей! — подали голос солдаты.
— В Дом инвалидов! — кричали они.
— В ратушу! — призывали другие. — У купеческого старшины Флесселя есть ключи от склада, где хранится оружие гвардии, он даст их нам.
В результате толпа растеклась по трем указанным направлениям.
Тем временем драгуны собрались вокруг барона де Безанваля и принца де Ламбеска на площади Людовика XV.
Бийо и Питу, не последовавшие ни за одним из трех потоков и оставшиеся на площади Пале-Рояля в почти полном одиночестве, об этом не знали.
— Ну, дорогой господин Бийо, куда мы пойдем теперь? — спросил Питу.
— Вообще-то, — отвечал Бийо, — у меня большая охота последовать за этими храбрыми парнями. Не к оружейникам, потому что у меня теперь есть отличный карабин, но в ратушу или в Дом инвалидов. Но поскольку я прибыл в Париж не затем, чтобы драться, а затем, чтобы разыскать господина Жильбера, мне кажется, что нам следует пойти в коллеж Людовика Великого, где учится его сын; а уж когда я повидаю доктора, то с чистой совестью ввяжусь в эту драку.
И глаза фермера сверкнули.
— Мне кажется, что весьма логично отправиться сначала в коллеж Людовика Великого, раз мы прибыли в Париж именно за этим, — наставительно изрек Питу.
— Тогда забирай ружье, саблю, любое оружие, какое хочешь, у этих бездельников, что валяются здесь, — сказал Бийо, указывая на пятерых или шестерых драгунов, лежащих на земле, — и направимся в коллеж Людовика Великого.
— Но ведь это оружие мне не принадлежит, — усомнился Питу.
— Кому же оно принадлежит? — поинтересовался Бийо.
— Королю.
— Оно принадлежит народу, — сказал Бийо.
И Питу, ободренный поддержкой фермера, которого знал как человека, не способного украсть у соседа зернышка проса, со всевозможными предосторожностями подошел к тому драгуну, что лежал к нему ближе других, и, удостоверившись, что он в самом деле мертв, забрал у него саблю, мушкетон и сумку с патронами.
Питу очень хотелось забрать также и каску, но он не был уверен, что слова папаши Бийо распространяются и на оружие оборонительное.
Вооружаясь, Питу не переставал внимательно вслушиваться в звуки, доносившиеся со стороны Вандомской площади.
— Эге-ге, — сказал он, — сдается мне, что королевский немецкий полк возвращается.
В самом деле, судя по топоту копыт, к Пале-Роялю приближалась шагом группа всадников. Питу выглянул из-за угла кафе "Режанс" и заметил у рынка Сент-Оноре драгунский патруль с мушкетонами у бедра, приближающийся к площади.
— Живей, живей! — крикнул Питу. — Они возвращаются.
Бийо оглянулся, дабы определить, возможно ли оказать врагам сопротивление. Но площадь была почти пуста.
— Ну что ж, — сказал фермер, — вперед, в коллеж Людовика Великого.
И он двинулся по Шартрской улице; Питу следовал за ним; не зная, как прикрепляется оружие к поясу, он нес свою огромную саблю в руках.
— Тысяча чертей! — сказал Бийо. — Ты похож на продавца железного лома. Сейчас же прицепи свой палаш.
— Куда? — спросил Питу.
— Куда, черт подери! Да вот сюда, — отвечал Бийо, прицепив саблю к поясу Питу, что позволило тому идти гораздо быстрее, чем прежде.
Без приключений добравшись до площади Людовика XV, наши герои наткнулись здесь на колонну, направляющуюся в Дом инвалидов и застрявшую посреди площади.
— В чем дело? — спросил Бийо.
— Да в том, что по мосту Людовика Пятнадцатого прохода нет.
— А по набережным?
— По набережным тоже.
— А через Елисейские поля?
— Тем более.
— В таком случае вернемся назад и пройдем по мосту Тюильри.
Предложение звучало вполне разумно, и толпа, последовав за Бийо, показала, что доверяет ему; однако на полдороге, у сада Тюильри, сверкнули сабли. Там расположился эскадрон драгун.
— Черт возьми, — пробормотал фермер, — куда ни ступишь, всюду эти проклятые драгуны!
— Сдается мне, дорогой господин Бийо, что мы попали в ловушку, — сказал Питу.
— Ерунда, — отвечал Бийо, — невозможно поймать в ловушку пять или шесть тысяч человек, а нас здесь никак не меньше.
Драгуны медленно, но верно приближались.
— У нас еще осталась в запасе Королевская улица, — сказал Бийо. — Ну-ка, Питу, пошли.
Питу следовал за фермером как тень.
Но у заставы Сент-Оноре улицу перегораживала цепь солдат.
— Ну и ну! — воскликнул Бийо. — Пожалуй, ты прав, друг Питу.
— Хм! — только и сказал в ответ Питу.
Но горечь, звучавшая в его голосе, показывала, что он дорого бы дал за то, чтобы оказаться неправым.
В самом деле, принц де Ламбеск ловким маневром окружил зевак и мятежников — число их доходило до шести тысяч — и, перекрыв проходы по мосту Людовика XV, по набережным, по Елисейским полям, по Королевской улице и мимо монастыря фейянов, создал некое подобие огромного стального лука; его тетивой были стена сада Тюильри, которую было трудно одолеть, и решетка Разводного моста, одолеть которую было почти невозможно.
Бийо оценил положение: оно было скверно. Однако, будучи человеком спокойным, хладнокровным и в минуты опасности весьма изобретательным, он огляделся и, заметив на берегу реки кучу бревен, сказал:
— Есть у меня одна мысль, Питу. А ну-ка, пошли.
Питу, не спрашивая у фермера, какая именно мысль осенила его, последовал за ним.
Бийо направился к бревнам и ухватился за одно из них, бросив Питу:
— Помоги мне.
Питу поспешил на помощь, опять-таки не спрашивая, для какого именно дела эта помощь требуется; он настолько доверял фермеру, что спустился бы вслед за ним в ад, не обратив внимания ни на длину лестницы, ни на глубину пропасти.
Папаша Бийо взялся за бревно с одного конца, Питу — с другого.
Они возвратились на набережную с грузом, который с трудом смогли бы поднять пять или шесть обычных людей.
Сила всегда вызывает у народа восхищение, поэтому, как ни тесна была толпа на площади, она раздвинулась, чтобы пропустить Бийо и Питу.
Затем многие сообразили, что эти двое действуют в общих интересах, и несколько человек стали прокладывать дорогу нашим героям, идя перед ними с криком: "Расступитесь! Расступитесь!".
— А все-таки, папаша Бийо, — спросил Питу, когда они одолели шагов тридцать, — долго мы будем так идти?
— До решетки Тюильри.
— О! — выдохнула сразу все понявшая толпа и раздвинулась еще шире.
Питу поглядел вперед и увидел, что его и Бийо отделяют от решетки еще шагов тридцать.
— Дойду, — изрек он с пифагорейской немногословностью.
Ему было тем легче выполнить обещанное, что пять-шесть самых могучих мужчин из толпы подставили свои плечи под бревно.
Дело пошло живее.
В пять минут они очутились перед решеткой.
— Ну-ка, — скомандовал Бийо, — навались!
— Теперь я понял, — сказал Питу, — мы сделали военную машину. Римляне называли это тараном.
Придя в движение, бревно страшным ударом потрясло ворота Тюильри.
Солдаты, несшие караул внутри сада, бросились к решетке, чтобы противостоять нападению, но с третьего удара ворота подались, распахнулись и толпа ринулась в их зияющую мрачную пасть.
По движению толпы принц де Ламбеск понял, что те, кого он полагал своими пленниками, нашли выход из ловушки, и пришел в ярость. Он пришпорил коня и поскакал вперед, чтобы лучше оценить положение. Драгуны, располагавшиеся за его спиной, решили, что он подает им сигнал к наступлению, и двинулись следом. Разгоряченных коней было трудно удержать, да и всадники, желавшие взять реванш за поражение на площади Пале-Рояля, должно быть, их и не удерживали.
Принц понял, что драгунов уже не остановить: они ринулись на толпу, и душераздирающие вопли женщин и детей понеслись к небесам, взывая к Господнему возмездию.
Страшная трагедия свершилась под покровом ночи. Жертвы обезумели от боли, солдаты — от ярости.
Народ, находившийся на террасах, попытался защищаться; в драгунов полетели стулья. Принц де Ламбеск, получив удар по голове, взмахнул саблей, ничуть не тревожась о том, что обрушивает ее на невинного, и семидесятилетний старец свалился к его ногам.
Бийо увидел это и испустил вопль.
Не медля ни секунды, фермер вскинул карабин к плечу — огненная нить прошила тьму, и, если бы по воле случая лошадь принца в этот самый миг не встала на дыбы, всадник расстался бы с жизнью.
Пуля вонзилась в шею лошади, и та рухнула на землю.
Все кругом решили, что принц убит. Тогда драгуны ринулись в сад, стреляя в спину убегающим.
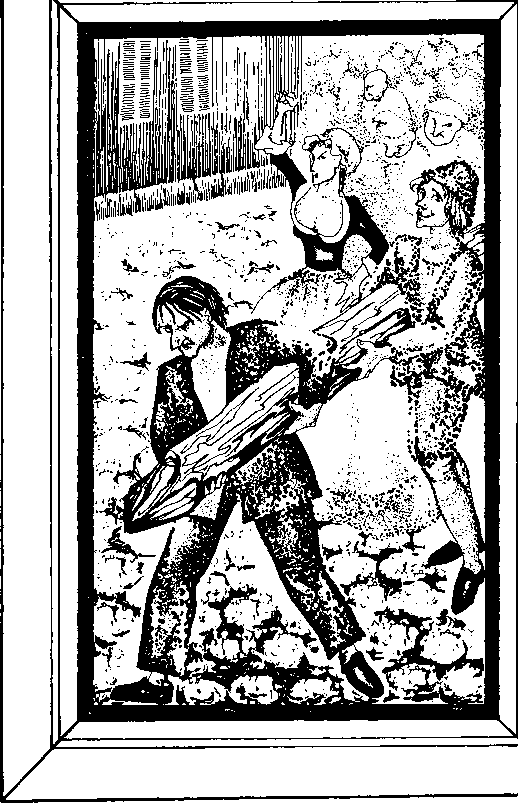
Но те рассеялись по просторному саду и укрылись за деревьями.
Бийо хладнокровно перезарядил карабин.
— Клянусь честью, Питу! Ты был прав, — сказал он. — Я думаю, мы подоспели вовремя.
— Кажется, я держусь молодцом, — сказал Питу, разряжая свой мушкетон в самого толстого из драгунов. — Похоже, это не так трудно, как я думал.
— Да, — сказал Бийо, — но бесполезное молодечество — еще не храбрость. Ступай за мной, Питу, и постарайся, чтобы сабля не путалась у тебя в ногах.
— Подождите немножко, дорогой господин Бийо. Если я вас потеряю, мне некуда будет податься. Я ведь не знаю Париж так, как вы: я здесь в первый раз.
— Пошли, пошли, — сказал Бийо и двинулся вперед по той террасе, что ближе к воде. Когда они с Питу миновали пехотинцев, спешивших по набережной на выручку к драгунам принца де Ламбеска, и достигли края террасы, фермер сел на парапет и спрыгнул на набережную.
Питу последовал его примеру.
XII
ЧТО ПРОИСХОДИЛО В НОЧЬ С 12 НА 13 ИЮЛЯ 1789 ГОДА
Очутившись на набережной, оба провинциала увидели, как сверкают на мосту Тюильри ружья нового отряда, судя по всему, отряда противника; тогда наши герои спустились к самой воде и пошли дальше берегом Сены.
Часы на дворце Тюильри пробили одиннадцать.
Как только фермер и Питу оказались под растущими над рекой прекрасными осинами и высокими тополями, уходящими корнями под воду, как только густая листва укрыла обоих, они улеглись на траву и стали держать совет.
Вопрос был в том, оставаться им на месте, то есть в относительной безопасности, или же вернуться на улицу и принять участие в той борьбе, которая наверняка продлится еще добрую половину ночи?
Вопрос этот задал Бийо; ответа он ждал от Питу.
Питу за последние два дня сильно вырос в глазах фермера. Причиной тому была, во-первых, ученость, выказанная им накануне, а затем отвага, проявленная сейчас. Питу инстинктивно ощущал эту перемену, однако не только не возгордился, но, напротив, преисполнился еще большей благодарности к фермеру: юноша был от природы скромен.
— Господин Бийо, — сказал он, — вы, безусловно, более отважны, а я менее труслив, чем я думал. Гораций, который, между прочим, не нам чета, во всяком случае в том, что касается поэзии, в первой же схватке бросил оружие и бежал, а я сберег свой мушкетон, сумку с патронами и саблю, — это доказывает, что я храбрее Горация.
— Ну, и что ты хочешь этим сказать?
— Я хочу сказать, дорогой мой господин Бийо, что даже самый храбрый человек может погибнуть от пули.
— Дальше?
— Дальше, дорогой господин Бийо, следует вот что: вы говорили, что вас влечет в Париж важная цель…
— Тысяча чертей! Меня влечет ларец.
— Значит, вы приехали сюда из-за ларца? Да или нет?
— Я приехал из-за ларца, черт подери, и не из-за чего другого!
— Но если вы погибнете от пули, дело, из-за которого вы приехали, не будет сделано.
— Честно говоря, Питу, ты тысячу раз прав!
— Слышите грохот и крики? — продолжал Питу. — Там дерево рвется, как бумага, железо скручивается, как пенька.
— Потому что народ разъярен, Питу.
— Но, — осмелел Питу, — мне кажется, что и король разъярен не меньше.
— При чем тут король?
— При том, что австрийцы, немцы, вся эта кайзерня, как вы их называете, — солдаты короля. И если они стреляют в народ, значит, им приказал король. А коли он отдает такие приказы, значит, он тоже в ярости, разве не так?
— И так, Питу, и не так.
— Этого не может быть, дорогой господин Бийо, и я осмелюсь заметить, что, если бы вы изучали логику, то не отважились бы высказать такую парадоксальную мысль.
— Это так и не совсем так, Питу; ты сейчас поймешь отчего.
— Буду очень рад, но сильно сомневаюсь, что вам удастся мне это доказать.
— Видишь ли, Питу, при дворе есть две партии: партия короля, который любит народ, и партия королевы, которая любит австрийцев.
— Это оттого, что король француз, а королева — австриячка, — философически заметил Питу.
— Постой! На стороне короля господин Тюрго и господин Неккер; на стороне королевы — господин де Бретейль и Полиньяки. Король не хозяин в королевстве, раз ему пришлось отставить Тюрго и Неккера. Значит, хозяйка — королева, иначе говоря, Бретейли и Полиньяки. Вот отчего все идет так скверно. Видишь ли, Питу, все зло от госпожи Дефицит. Госпожа Дефицит гневается, и войска стреляют ей на радость; австрийцы защищают Австриячку — это же проще простого.
— Простите, господин Бийо, — осведомился Питу, — "дефицит" — слово латинское и означает, что чего-то не хватает. Чего же не хватает здесь?
— Денег, тысяча чертей! И именно оттого, что денег не хватает, а не хватает их оттого, что их прикарманивают любимцы королевы, ее зовут госпожа Дефицит. Значит, гневается не король, а королева. А король просто сердится — сердится, что все идет так скверно.
— Я понял, — сказал Питу. — Но как быть с ларцом?
— Твоя правда, Питу, твоя правда; эта чертова политика всегда увлекает меня в такие дебри, в какие я и не думал залезать. Да, ларец прежде всего. Ты прав, Питу, сначала надо повидать доктора Жильбера — это мой священный долг — а там уж, так и быть, вернусь к политике.
— Нет ничего более священного, чем священный долг, — промолвил Питу.
— Тогда вперед в коллеж Людовика Великого, где учится Себастьен Жильбер, — сказал Бийо.
— Вперед, — согласился Питу со вздохом, ибо ему не хотелось подниматься с мягкой травы.
За прошедший день на долю Питу выпало столько приключений, что он с трудом мог успокоиться; однако в конце концов сон, усердный гость людей с чистой совестью и усталым телом, уже спускался с охапкой маков на добродетельного и обессилевшего бойца.
Бийо уже поднялся, а Питу собирался последовать его примеру, когда пробило полдвенадцатого.
— Однако, — сказал Бийо, — сдается мне, что в полдвенадцатого ночи коллеж Людовика Великого закрыт.
— О, разумеется, — сказал Питу.
— К тому же ночью можно налететь на какой-нибудь вражеский патруль; думается мне, что солдаты разожгли костры возле Дворца правосудия; меня могут схватить или убить, а мой долг в том, чтобы меня не схватили и не убили, — тут ты, Питу, совершенно прав.
В третий раз за день Питу слышал эти столь лестные для человеческой гордыни слова: "Ты прав".
Он счел, что ему ничего не остается, кроме как повторить сказанное Бийо.
— И вы правы, — произнес он, укладываясь на траву. — Ваш долг в том, чтобы вас не убили, дорогой господин Бийо.
Конец этой фразы застрял в горле Питу. Vox faucibus haesit, — сказал бы он, если бы бодрствовал, но он уже спал.
Бийо этого не заметил.
— Вот о чем я подумал, — обратился он к своему спутнику.
Питу в ответ тихонько похрапывал.
— Вот о чем я подумал: как бы я ни был осторожен, меня могут убить, меня могут зарезать или застрелить; если это случится, ты должен знать, что передать от меня доктору Жильберу, но держи язык за зубами, Питу.
Поскольку Питу ничего не слышал, он, естественно промолчал.
— Если меня смертельно ранят и я не смогу исполнить свой долг, ты пойдешь к доктору Жильберу вместо меня и скажешь ему… Ты меня слышишь, Питу? — спросил фермер, наклоняясь к юноше. — Ты скажешь ему… Да он дрыхнет, несчастный.
При виде крепко спящего Питу все возбуждение Бийо сразу улеглось.
— Раз так, посплю и я, — сказал он и не без удовольствия растянулся рядом со своим спутником.
Как ни привычна ему была усталость, дневная скачка и вечернее сражение оказали свое снотворное действие и на него тоже.
А через три часа после того, как наши герои уснули, или, скорее, забылись, взошло солнце.
Раскрыв глаза, Бийо и Питу увидели, что, хотя Париж вовсе не утратил того сурового облика, какой имел накануне, кругом было множество простолюдинов, но ни одного солдата.
За ночь парижане вооружились наспех изготовленными пиками, ружьями (большинство не умело с ними обращаться), и роскошными старинными мушкетами, новоявленные владельцы которых с восхищением взирали на украшения из золота, слоновой кости и перламутра, не умея взять в толк, как устроены эти чудные штуки и что с ними делать.
Вскоре после отступления солдат народ опустошил Королевскую кладовую, а также завладел двумя небольшими пушками, которые толпа как раз катила к ратуше.
На колокольне собора Парижской Богоматери, в ратуше, во всех приходских церквах били в набат. Неведомо откуда, как из-под земли, выплескивались на улицу легионы бледных, изможденных, полураздетых мужчин и женщин, еще вчера кричавших: "Хлеба!", а сегодня начавших кричать: "К оружию!".
Ничего не могло быть мрачнее, чем эти скопища призраков, вот уже целый месяц, если не больше, прибывавших из провинции, бесшумно проникавших в город и обосновывавшихся в Париже, жители которого и сами были голодны, словно кладбищенские гулы из арабских сказок.
В этот день Франция, приславшая в Париж голодающих из всех провинций, требовала у своего короля: "Дай нам свободу!", а у своего Бога: "Дай нам поесть!".
Бийо, проснувшись первым, разбудил Питу, и оба направились к коллежу Людовика Великого, с трепетом оглядываясь по сторонам и сострадая той душераздирающей нищете, что предстала их глазам.
Подходя к тому району Парижа, что мы зовем сегодня Латинским кварталом, поднимаясь по улице Лагарп, наконец, вступив на улицу Сен-Жак, являющуюся целью их похода, они видели, что кругом, как во времена Фронды, вырастают баррикады. Женщины и дети таскали на верхние этажи домов огромные фолианты, тяжелую утварь, драгоценные мраморные изваяния, дабы сбросить все это на головы солдат-иноземцев, если они посмеют вторгнуться в этот уголок старого Парижа с его узкими извилистыми улочками.
Время от времени Бийо замечал одного-двух французских гвардейцев, окруженных народом; они давали горожанам команды и с изумительной расторопностью учили их стрелять из ружей; уроки происходили на глазах женщин и детей, следивших за происходящим с любопытством и едва ли не с завистью.
Когда Бийо и Питу добрались до коллежа Людовика Великого, выяснилось, что там тоже поднялось восстание: ученики взбунтовались и прогнали учителей. В ту минуту, когда фермер и его спутник подошли к воротам, их с угрозами осаждали школяры, которых испуганный ректор в слезах пытался урезонить.
Фермер помедлил мгновение, наблюдая за этой междоусобицей, а затем зычным голосом спросил:
— Кто из вас зовется Себастьен Жильбер?
— Я, — отозвался юноша лет пятнадцати, в чьей красоте было что-то женственное; вместе с несколькими товарищами он тащил лестницу, чтобы перелезть через ограду и покинуть коллеж таким образом, раз уж нет возможности открыть ворота.
— Подойдите сюда, дитя мое, — позвал юношу фермер.
— Что вам угодно, сударь? — спросил Себастьен.
— Неужели вы хотите увести его? — вскричал ректор, устрашенный видом двух вооруженных мужчин, из которых один, обратившийся к юному Жильберу, был весь в крови.
Мальчик же смотрел на этих двоих с удивлением, не узнавая в стоящем за воротами воине своего молочного брата Питу, неимоверно выросшего за время их разлуки.
— Увести его! — воскликнул Бийо. — Увести сына господина Жильбера, потащить его в эту свару, где с ним может приключиться какая-нибудь беда; нет, клянусь честью, я этого не сделаю.
— Видите, Себастьен, — сказал ректор, — видите, бешеный юнец, даже ваши друзья не желают брать вас с собой. Ведь, что ни говори, эти господа вам, кажется, друзья. Юные мои ученики, дети мои, господа, — закричал ректор, — послушайтесь меня, послушайтесь, я этого требую; послушайтесь, молю вас!
— Ого obtestorque, — сказал Питу.
— Сударь, — отвечал юный Жильбер с твердостью, удивительной для его лет, — удерживайте моих товарищей, если вам угодно, что же до меня, усвойте это раз и навсегда, я хочу выйти отсюда.
И он двинулся к воротам. Учитель схватил его за руку. Но мальчик, тряхнув прекрасными каштановыми кудрями, падавшими на его бледный лоб, воскликнул:
— Сударь, берегитесь. Я, сударь, не чета другим: мой отец арестован, заключен под стражу, мой отец в руках тиранов!
— В руках тиранов! — воскликнул Бийо. — Что это значит, дитя мое? Говори, не мешкай!
— Да, да! — закричали хором все дети. — Себастьен говорит правду: его отца арестовали, и, раз народ отпирает двери темниц, он хочет сделать так, чтобы и его отца тоже освободили.
— О горе! — простонал фермер, сотрясая ворота своей ручищей, могучей, как у Геракла, — доктор Жильбер арестован! Дьявольщина! Неужели малышка Катрин была права?
— Да, сударь, — продолжал юный Жильбер, — его арестовали, и поэтому я хочу убежать отсюда, хочу взять ружье и пойти сражаться, чтобы освободить отца!
Сотня яростных голосов подхватила эти слова, повторяя на все лады: "К оружию! К оружию! Дайте нам оружие!".
Услышав эти крики, собравшаяся на улице толпа, которой передался пыл юных героев, ринулась на ворота, чтобы помочь им обрести свободу.
Ректор, упав на колени, простирал руки сквозь решетку, моля: "О друзья мои! Друзья мои! Ведь это же дети!".
— Разве ж мы не видим! — ответил какой-то французский гвардеец. — Такие хорошенькие мальчуганы — в строю они будут смотреться что твои ангелочки.
— Друзья мои! Друзья мои! Эти дети — клад, доверенный мне их родителями; я за них отвечаю; родители рассчитывают на меня, я жизнью поклялся беречь их отпрысков; ради всего святого, не уводите детей!
Ответом на эти горестные мольбы было улюлюканье, донесшееся из глубины улицы, то есть из последних рядов собравшейся здесь толпы.
Тут Бийо выступил вперед и, наперекор гвардейцам, толпе, даже самим школярам, сказал:
— Он прав, дети — священный клад; пусть мужчины дерутся, пусть убивают друг друга, черт подери, но дети должны жить; нужно оставить семена на будущее.
В ответ послышался недовольный ропот.
— Кто это там недоволен?! — заорал Бийо. — Бьюсь об заклад, у него нет детей. У меня, говорящего теперь с вами, у меня умерло вчера на руках двое бойцов; вот их кровь на моей рубашке, смотрите!
И он показал толпе свою окровавленную куртку и рубашку таким величавым жестом, что приковал к себе все взоры.
— Вчера, — продолжал Бийо, — я сражался в Пале-Ро-яле и Тюильри, и этот юнец сражался рядом со мной, но у него нет ни отца, ни матери, вдобавок он уже почти мужчина.
И он указал на приосанившегося Питу.
— Сегодня, — продолжал Бийо, — я буду сражаться вновь, но я не хочу, чтобы кто-то мог сказать: у парижан недостало сил дать отпор чужеземным солдатам и они призвали на помощь детей.
— Верно, верно! — закричали со всех сторон женщины и солдаты. — Он прав. Дети, вернитесь, вернитесь назад!
— О, благодарю вас, благодарю вас, сударь, — бормотал ректор, пытаясь сквозь решетку поймать руки Бийо.
— А вы берегите Себастьена, это самое главное, — сказал фермер.
— Беречь меня! Ну так знайте: меня уберечь не удастся! — воскликнул юноша, побледнев от гнева и вырываясь из рук дежурных учеников, пытавшихся его увести.
— Дайте мне войти, — сказал Бийо, — я сумею его успокоить.
Толпа раздвинулась.
Бийо, а за ним и Анж Питу вошли во двор коллежа.
У открывшихся на мгновение ворот сразу выросли три-четыре гвардейца и дюжина часовых из штатской публики, которые внимательно следили, чтобы никто из юных бунтовщиков не выбрался на улицу.
Бийо направился прямо к Себастьену и, взяв тонкие белые руки мальчика в свои громадные мозолистые лапищи, спросил:
— Себастьен, вы узнаете меня?
— Нет.
— Я папаша Бийо, фермер вашего отца.
— Я узнаю вас, сударь.
— А этого парня ты знаешь?
— Это Анж Питу.
— Да, Себастьен, да, это я, я!
И Питу, плача от радости, бросился на шею к своему молочному брату и школьному товарищу.
— Ну, — спросил Себастьен мрачно, — и что дальше?
— Дальше… Если у тебя отняли отца, я верну его тебе, можешь не сомневаться.
— Вы?
— Да, я, я! И все эти люди хотят того же. Дьявольщина! Даром, что ли, мы вчера имели дело с австрийцами и заглянули в их патронташи?!
— В доказательство чего могу предъявить свой, — сказал Питу.
— Освободим мы его отца? — спросил Бийо у толпы.
— Да, да, — заревела толпа, — мы его освободим!
Себастьен покачал головой.
— Отец в Бастилии, — сказал он грустно.
— И что же? — крикнул Бийо.
— Что?! Бастилию не возьмешь, — отвечал мальчик.
— Если ты в этом убежден, то что же ты собирался делать?
— Я хотел пойти на площадь; там будут драться, и отец, быть может, увидит меня сквозь решетку.
— Это невозможно!
— Невозможно! Отчего же? Однажды я гулял рядом с крепостью вместе с другими учениками и увидел одного узника. Если бы я увидел моего отца, как видел этого несчастного, я бы крикнул ему: "Будь спокоен, отец, я люблю тебя!".
— А если бы солдаты, охраняющие Бастилию, убили тебя?
— Ну и что! Ведь они убили бы меня на глазах у моего отца.
— Черт знает что такое! Ты скверный мальчишка, Себастьен, если собираешься умирать на глазах у собственного отца! Чтобы он, у которого дороже тебя нет никого в целом свете, он, который так тебя любит, изнемог от горя в своей клетке! Решительно, Жильбер, у тебя нет сердца.
И фермер оттолкнул мальчика.
— Да, да, нет сердца! — завопил Питу, разражаясь слезами.
Себастьен ничего не ответил.
Пока он в хмуром молчании предавался размышлениям, Бийо любовался его благородным перламутрово-белым лицом, горящими глазами, тонким насмешливым ртом, орлиным носом и волевым подбородком; черты мальчика обличали разом и благородство души, и благородство крови.
— Так ты говоришь, что твоего отца посадили в Бастилию? — спросил наконец фермер.
— Да.
— За что же?
— За то, что он друг Лафайета и Вашингтона, за то, что он сражался за независимость Америки шпагой, а за независимость Франции пером, за то, что в Старом и Новом Свете он известен как ненавистник тирании, за то, что он проклял Бастилию, где томятся несчастные узники… За все это туда заключили его самого.
— Когда?
— Шесть дней назад.
— А где его схватили?
— В Гавре, лишь только он сошел на берег.
— Откуда тебе это известно?
— Я получил от него письмо.
— Из Гавра?
— Да.
— И схватили его тоже в Гавре?
— В Лильбоне.
— Послушай, мальчуган, не дуйся на меня и расскажи мне подробно все, что знаешь. Я клянусь тебе, что либо кости мои останутся гнить на площади Бастилии, либо отец вернется к тебе.
Себастьен взглянул на фермера и, видя, что тот говорит совершенно искренне, смягчился.
— Дело вот в чем, — сказал он, — в Лильбоне отец успел нацарапать карандашом на книге несколько слов:
"Себастьен, меня схватили и везут в Бастилию. Терпи, надейся и трудись.
Лильбон, 7 июля 1789 года.
P.S. Меня схватили, потому что я боролся за свободу.
Мой сын учится в коллеже Людовика Великого, в Париже. Умоляю того, кто найдет эту книгу, во имя человечности передать ее моему сыну: его зовут Себастьен Жильбер".
— И что произошло с книгой? — спросил Бийо, задыхаясь от волнения.
— Он вложил между страниц золотую монету, перевязал книгу шнурком и выбросил в окошко.
— И?..
— И ее нашел местный кюре. Он выбрал самого крепкого юношу из своей паствы и сказал ему: "Оставь двенадцать франков своей голодающей семье, а другие двенадцать франков возьми себе и ступай с этой книгой в Париж к бедному мальчугану, у которого отца схватили из-за того, что он слишком сильно любит народ". Юноша прибыл в Париж вчера в полдень и отдал мне книгу отца — вот откуда я знаю, что отец арестован.
— Ну и дела! — сказал Бийо. — Это немного примиряет меня со священниками. К несчастью, не все они таковы. А где этот отважный юноша?
— Отправился вчера вечером в обратный путь; он надеется сберечь для своих родных пять франков из двенадцати, которые взял на дорогу.
— Как это прекрасно, Жильбер, как это прекрасно! — сказал Бийо, плача от радости. — О, какой добрый у нас народ, ведь правда, Себастьен?
— Теперь вы знаете все.
— Да.
— Вы обещали вернуть мне отца, если я вам все расскажу. Я рассказал; подумайте, как сдержать слово.
— Я уже сказал, что спасу его или погибну. А теперь покажи мне книгу.
— Вот она, — отвечал мальчик, доставая из кармана "Общественный договор".
— А где письмо твоего отца?
— Вот здесь.
— Можешь не беспокоиться, — сказал Бийо, поцеловав строки, начертанные доктором. — Я иду в Бастилию, чтобы вернуть тебе отца.
— Несчастный! — сказал ректор, беря руки Бийо в свои. — Как же вы проникнете к государственному преступнику?
— Захватив Бастилию, тысяча чертей!
Несколько гвардейцев рассмеялись. В одно мгновение смех охватил всю толпу.
— Да что же такое эта Бастилия, скажите на милость? — взревел Бийо, окинув толпу сверкающим от ярости взглядом.
— Камни, — сказал один солдат.
— Железо, — сказал другой.
— И огонь, — добавил третий. — Берегитесь, старина, он жжется.
— Да, да, он жжется, — повторила устрашенная толпа.
— Ах вот как, парижане, — возопил фермер, — ах вот как! У вас есть кирки, а вы боитесь камней; у вас есть свинец, а вы боитесь железа; у вас есть порох, а вы боитесь огня! Трусливые парижане! Подлые парижане! Парижане, созданные, чтобы прозябать в рабстве! Тысяча дьяволов! Найдется здесь хоть один храбрый человек, который пойдет со мной и Питу на приступ королевской Бастилии?! Я — Бийо, фермер из Иль-де-Франса. За мной, вперед!
Отвага внушила Бийо самые возвышенные слова.
Толпа, трепеща от возбуждения, забурлила, закричала: "На Бастилию! На Бастилию!".
Себастьен вцепился было в рукав Бийо, но тот мягко отстранил его.
— Дитя, — спросил он, — какое слово стоит последним в письме твоего отца?
— "Трудись", — отвечал Себастьен.
— В таком случае трудись здесь, а мы пойдем трудиться там. Только наш труд будет состоять в том, чтобы рушить и убивать.
Юноша ничего не ответил ни бросившемуся ему на шею Анжу Питу, ни фермеру; он стоял, закрыв лицо руками, а затем вдруг начал биться в таких сильных судорогах, что его пришлось унести в школьную больницу.
— На Бастилию! — крикнул Бийо.
— На Бастилию! — крикнул Питу.
— На Бастилию! — повторила толпа.
И все двинулись в сторону Бастилии.
XIII
КОРОЛЬ ТАК ДОБР, КОРОЛЕВА ТАК ДОБРА
Теперь, с позволения читателей, мы расскажем об основных политических событиях, происшедших с того времени, как в нашей предыдущей книге мы покинули французский двор.
Те, кто знаком с историей этой эпохи, а также те, кого история как она есть пугает, могут пропустить эту главу и перейти к следующей, где вновь пойдет речь о приключениях Бийо и Питу; что же до этой главы, то она адресована лишь умам требовательным и пытливым.
Вот уже год или два как нечто неслыханное, неведомое, нечто пришедшее из прошлого и устремляющееся в будущее носилось в воздухе.
То была революция.
Вольтер, приподнявшись на мгновение со своего смертного одра, разглядел в окружавшей его тьме сверкание ее зари.
Подобно Христу, в чьем уме она родилась, революция призвана была свершить свой суд над живыми и мертвыми.
"Когда Анна Австрийская стала регентшей, — говорит кардинал де Ретц, — у всех на устах было только одно: "Королева так добра!".
Однажды врач г-жи де Помпадур, Кенэ, живший в ее доме, увидел Людовика XV, входящего к маркизе; помимо почтения, некое другое чувство охватило его с такой силой, что он побледнел и задрожал.
— Что с вами? — спросила г-жа дю Оссе.
— Вот что, — отвечал Кенэ. — Всякий раз, как я вижу короля, я говорю себе: а ведь этот человек может отрубить мне голову!
— О! Не бойтесь, — отвечала г-жа дю Оссе. — Король так добр!
Из этих двух фраз: "Король так добр!" и "Королева так добра!" — родилась французская революция.
После смерти Людовика XV Франция вздохнула полной грудью. Вместе с королем она освободилась от особ вроде Помпадур и Дюбарри, равно как и от Оленьего парка.
Забавы Людовика XV обходились нации недешево — они стоили ей больше трех миллионов в год.
К счастью, на престол взошел король юный, нравственный, человеколюбивый, почти философ.
Король, который, подобно Эмилю Жан Жака, выучился ремеслу, вернее, даже целым трем.
Он был слесарем, часовщиком и механиком.
Ужаснувшись бездне, разверзшейся у его ног, король начал с того, что отказал просителям в каких бы то ни было милостях. Царедворцы содрогнулись. Утешало их лишь одно: отказывает им не король, а Тюрго; к тому же королева, быть может, еще не вступила в свои права и не имеет сегодня той власти, какую получит завтра.
Наконец к 1777 году она получает эту долгожданную власть: королева становится матерью, король, уже показавший себя таким добрым королем и добрым супругом, будет отныне еще и добрым отцом.
Как отказать в чем-либо той, кто подарила Франции наследника престола?
Вдобавок король еще и добрый брат; он, например, приносит Бомарше в жертву графу Прованскому, а ведь король недолюбливает графа Прованского за излишнее педантство.
Но зато он обожает графа д’Артуа, являющего собой образец французского остроумия, изящества и благородства. Король так любит графа д’Артуа, что если королеве он еще может в чем-нибудь отказать, то стоит ей взять в союзники графа д’Артуа, как у короля недостает сил противиться.
Таким образом, страной правят приятнейшие особы. Господин де Калонн, один из самых обходительных людей на свете, — генеральный контролер финансов; это он сказал королеве: "Ваше величество, если это возможно — это уже сделано; если это невозможно — это будет сделано".
С того дня как об этом прелестном ответе узнали в салонах Парижа и Версаля, Красная книга, которую считали закрытой, вновь раскрылась.
Королева покупает Сен-Клу.
Король покупает Рамбуйе.
Фавориток заводит не король, а королева: г-жа Диана де Полиньяк и г-жа Жюль де Полиньяк обходятся Франции так же дорого, как Помпадур и Дюбарри.
Королева так добра!
Выдвигается идея уменьшить слишком большие жалованья. Иные люди принимают новшество покорно. Но один из завсегдатаев королевского дворца решительно не желает сдаваться: это г-н де Куаньи; он встречает короля в коридоре и с глазу на глаз закатывает ему скандал. Король убегает, а вечером рассказывает со смехом:
— По правде говоря, если бы я не уступил, Куаньи, боюсь, поколотил бы меня.
Король так добр.
Да и вообще судьбы королевства часто зависят от безделицы — например от шпоры пажа.
Людовик XV умирает; кто займет место г-на д’Эгильона?
Король Людовик XVI предлагает Машо. Машо — один из министров, способных поддержать уже покачнувшийся трон. Принцессы, тетки короля, принимают сторону г-на де Морепа, — ведь он так забавен и сочиняет такие прелестные песенки. Он насочинял их в Поншартрене столько, что хватило на три тома, которые он назвал своими мемуарами.
Теперь это вопрос стипльчеза. Кто придет первым: гонец короля и королевы в Арнувиль или гонец королевских теток в Поншартрен?
У короля в руках власть, значит, у него есть шансы на победу. Не теряя времени, он пишет:
"Немедленно приезжайте в Париж. Я жду Вас".
Он кладет депешу в конверт и выводит на нем: "Господину графу де Машо, в Арнувиле".
Призванному по такому случаю пажу вручают послание короля и велят скакать во весь опор.
Теперь, когда паж уже в пути, король может принять принцесс.
Их высочества — те самые, кого как мы видели в "Бальзамо" отец звал истинно аристократическими именами Тряпка, Ворона и Пустомеля, ждут за дверью, противоположной той, в которую должен выйти паж.
Раз паж вышел, принцессы могут войти.
Они входят и просят короля за г-на де Морепа; главное для короля — выиграть время; он не хочет отказывать своим теткам. Король так добр.
Он даст свое согласие, когда паж будет уже далеко и его нельзя будет вернуть.
Он спорит с их высочествами, то и дело поглядывая на стенные часы: получаса хватит, а часы у него точные, он сам их выверяет.
Сдается он через двадцать минут.
— Пусть пажа вернут, — говорит он, — а там посмотрим.
Принцессы счастливы; пусть слуги седлают коня, пусть загонят коня, двух коней, десять коней, лишь бы перехватить пажа.
Не стоит беспокоиться: лошадей загонять не придется.
Спускаясь с лестницы, паж зацепился за ступеньку и сломал шпору. А как скакать во весь опор без шпоры?
Вдобавок, шевалье д’Абзак, ведающий королевской конюшней, подвергает досмотру всех курьеров и не выпустит ни одного из них в порочащем честь главной конюшни королевства виде.
Поэтому шпор непременно должно быть две.
Отсюда следует, что, вместо того чтобы перехватывать пажа на дороге в Арнувиль, его перехватывают у ворот дворца.
Он уже сидит в седле и выглядит безукоризненно.
У него отбирают конверт, но оставляют само письмо, равно подходящее для обоих претендентов. Их высочества изменяют только адрес: вместо "Графу де Машо, в Арнувиле" они пишут "Графу де Морена, в Поншартрене".
Честь королевской конюшни спасена, но монархия погибла.
С Морепа и Калонном дела идут на славу: один поет, другой платит; к тому же, кроме царедворцев, есть еще откупщики — они тоже не сидят сложа руки.
Людовик XIV начал свое царствование с того, что по совету Кольбера повесил двух откупщиков, после чего взял в наложницы Лавальер и построил Версаль. Лавальер не стоила ему ничего.
Но Версаль, где он хотел ее поселить, стоил дорого.
Затем в 1685 году из Франции изгоняют миллион предприимчивых людей — якобы за то, что они протестанты.
Поэтому в 1707 году, еще при жизни великого короля, Буагильбер писал, имея в виду год 1698:
"В те времена дела шли еще не так плохо, силы в нас еще теплились. Нынче они пришли к концу".
Боже мой, что бы он сказал восемьдесят лет спустя, после того как во Франции похозяйничали Дюбарри и Полиньяки! Раньше народ истекал потом, теперь придется истекать кровью — вот и все.
Но зато сколько обходительности в манерах!
Прежде откупщики были суровы, грубы и холодны, словно двери тюрем, куда они бросали своих жертв. Ныне это истинные филантропы: одной рукой они обирают народ — это правда, но другой строят богадельни.
Один мой друг, великий финансист, уверял меня, что из ста двадцати миллионов ливров, которые приносил налог на соль, откупщики оставляли себе семьдесят.
Однажды в некоем собрании, где речь шла о том, чтобы потребовать у откупщиков список их расходов, некий советник, играя словами, пошутил:
"Нам нужны не списки частных расходов, нам нужны общие списки".
Искра попала в порох, порох загорелся, и начался пожар.
Все повторяли остроту советника; с великой торжественностью Генеральные штаты были созваны.
Двор назначил их открытие на 1 мая 1789 года.
Двадцать четвертого августа 1788 года ушел в отставку г-н де Бриенн. Он тоже был из тех, кто не слишком стеснялся, распоряжаясь финансами.
Но, по крайней мере, уходя, он дал добрый совет: вернуть Неккера.
Неккер вновь стал министром, и народ вздохнул спокойно.
Меж тем вся Франция обсуждала великий вопрос о трех сословиях.
Сиейес выпустил свою знаменитую брошюру о третьем сословии.
Провинция Дофине, где штаты продолжали собираться против воли двора, постановила, что представит столько же депутатов от третьего сословия, сколько от дворянства и духовенства.
Вновь было созвано собрание нотаблей.
Оно заседало тридцать два дня, с 6 ноября по 8 декабря 1788 года.
На сей раз в дело вмешался Господь. Когда недостает королевского бича, бич Божий со свистом рассекает воздух и заставляет народы торопиться.
Пришла зима, а с нею — голод.
Зима и голод привели с собою 1789 год.
Париж наполнился войсками, на улицах появились патрули.
Два или три раза перед умирающей от голода толпой солдаты заряжали ружья.
Однако стрелять они не стали.
Утром 26 апреля, за пять дней до открытия Генеральных штатов, из уст в уста в голодной толпе начало переходить одно имя.
Имя это сопровождалось проклятиями тем более злобными, что носивший его человек был разбогатевший рабочий.
Если верить слухам, Ревельон, владелец прославленной бумажной фабрики в Сент-Антуанском предместье, сказал, что собирается уменьшить ежедневную плату рабочим до пятнадцати су.
Это была правда.
Если верить другим слухам, король обещал надеть на Ревельона черную ленту, то есть наградить его орденом Святого Михаила.
Это была ложь.
Мятежная толпа всегда верит какому-нибудь абсурдному слуху. Примечательно, что именно слух собирает мятежников вокруг себя, сплачивает, ведет в бой.
Народ сооружает чучело, нарекает его Ревельоном, надевает на него черную ленту и поджигает его у дверей настоящего Ревельона, а затем тащит горящее чучело на площадь перед ратушей, где оно догорает на глазах у городских властей.
Безнаказанность придает толпе храбрость; парижане предупреждают, что если сегодня они расправились с изображением Ревельона, то завтра доберутся до него самого.
То был вызов, по всей форме брошенный властям.
Власти в ответ выслали к толпе три десятка французских гвардейцев, да и то это сделали не власти, а полковник де Бирон.
Эти три десятка гвардейцев сделались свидетелями великой дуэли, которой не могли помешать. На их глазах грабили фабрику, бросали в окна мебель, всё били и всё жгли. В суматохе кто-то украл пятьсот луидоров.
Народ выпил все вино, хранившееся в погребах, а когда кончилось вино, принялся за фабричные краски, с виду так на него похожие.
Мерзости эти творились весь день 27 апреля, с утра до вечера.
На помощь трем десяткам гвардейцев прибыло несколько гвардейских рот, стрелявших сначала холостыми патронами, а затем самыми настоящими пулями. Под вечер к французским гвардейцам присоединились гвардейцы швейцарские под командой г-на де Безанваля.
Когда дело доходит до революции, швейцарцы не шутят.
Швейцарцы, не долго думая, зарядили ружья и спустили курки; природа недаром сотворила их охотниками, и хорошими охотниками: два десятка грабителей упали замертво.
У некоторых из них отыскались в карманах луидоры из числа тех пяти сотен, что были украдены у Ревельона: из его секретера они перешли к грабителям, а от них — к швейцарцам.
Безанваль дал команду стрелять и, как говорится, взял все на себя.
Король не поблагодарил его, но и не упрекнул.
Впрочем, отсутствие королевской похвалы означает хулу.
Парламент начал дознание.
Король приказал окончить его, не доводя до конца.
Король был так добр!
Кто распалил народ? Неизвестно.
Разве не бывает летом, в сильный зной, пожаров, которые начинаются сами собой, без причины?
В разжигании бунта обвиняли герцога Орлеанского.
Обвинение столь нелепое, что о нем очень скоро забыли и думать.
Двадцать девятого апреля Париж был совершенно спокоен или казался таковым.
Настало 4 мая, король и королева вместе с двором направились в собор Парижской Богоматери выслушать Veni, Creator.
Народ приветствовал их дружными криками: "Да здравствует король!" и, главное, "Да здравствует королева!".
Королева была так добра.
То был последний спокойный день.
Назавтра крики "Да здравствует королева!" сделались тише, а крики "Да здравствует герцог Орлеанский!" громче.
Это сильно обидело королеву: бедняжка до такой степени ненавидела герцога, что обвиняла его в трусости.
Как будто в роду у Орлеанских, начиная с месье, выигравшего битву при Каселе, и кончая герцогом Шартрским, способствовавшего победам при Жемапе и Вальми, были трусы!
Так вот, бедняжка-королева так огорчилась, что едва не лишилась чувств: голова ее поникла. Об этом рассказывает г-жа Камлан в своих записках.
Но очень скоро эта поникшая голова воспрянула с видом гордым и презрительным. Те, кто увидел выражение ее глаз, навсегда излечились от привычки твердить: "Королева так добра!".
Существуют три портрета королевы: один написан в 1776 году, другой в 1784-м, третий — в 1788-м.
Я видел все три. Взгляните на них и вы. Если когда-нибудь эти три портрета будут собраны в одной галерее, в них можно будет прочесть всю историю Марии Антуанетты.
Соединение трех сословий в одном собрании, обещавшее кончиться всеобщим братанием, обернулось объявлением войны.
"Три сословия! — сказал Сиейес. — Нет, три нации!".
Третьего мая, накануне мессы Святого Духа, король принял депутатов в Версале. Кое-кто советовал ему заменить этикет обычным человеческим радушием.
Король не желал ничего слушать.
Он принял сначала духовенство.
Затем дворянство.
Наконец, третье сословие.
Депутатам от третьего сословия пришлось долго ждать.
Третье сословие роптало.
В старину на ассамблеях представителям третьего сословия полагалось произносить приветственную речь, стоя на коленях. Нынче главу депутации третьего сословия нельзя было заставить опуститься на колени. Тогда решили, что третье сословие вовсе не будет произносить приветственной речи.
На заседании 5 мая король был в шляпе.
Дворяне также.
Депутаты от третьего сословия хотели было также надеть шляпы, но тут король снял свою: он предпочел держать речь с непокрытой головой, лишь бы не видеть перед собой депутатов от третьего сословия в шляпах.
В среду 10 июня Сиейес вошел в Собрание и увидел, что в зале сидят преимущественно депутаты от третьего сословия.
Духовенство и дворянство заседали отдельно.
"Перережем канат, — сказал Сиейес, — пора!".
И он предложил потребовать от духовенства и дворянства, чтобы они явились на совместное заседание не позже чем через час.
"Если они не явятся, то будут числиться отсутствующими".
Версаль окружали немецкие и швейцарские войска. На Собрание была наведена артиллерийская батарея.
Сиейес об этом не думал. Он думал о народе, который хочет есть.
— Но ведь третье сословие, — возразили Сиейесу, — одно не может составить Генеральные штаты.
— Тем лучше, — отвечал Сиейес. — Оно составит Национальное собрание.
Отсутствующие не явились; предложение Сиейеса было принято: депутаты третьего сословия большинством в четыреста голосов объявили себя Национальным собранием.
Девятнадцатого июня король приказывает закрыть зал, где заседало прежде Национальное собрание.
Но для такого государственного переворота королю требовался предлог.
Зал закрыли для приготовлений к королевскому заседанию, которое должно будет состояться здесь в понедельник.
Двадцатого июня в семь часов утра председатель Национального собрания узнает, что в этот день заседаний не будет.
В восемь утра он вместе со многими другими депутатами приходит к дверям зал.
Они закрыты, и подле них стоит часовой.
Идет дождь.
Депутаты хотят взломать дверь.
У часовых приказ, они загораживают проход штыками.
Один депутат предлагает заседать на Плас-д’Арм.
Другой — в Марли.
Гильотен предлагает Зал для игры в мяч. Гильотен!
Странная вещь: это был тот самый Гильотен, чье имя, слегка переиначенное, прославится четыре года спустя! В самом деле странно, что именно Гильотен предложил отправиться в Зал для игры в мяч!
Этот Зал для игры в мяч, пустой, ветхий, открытый всем ветрам, стал яслями Христовой сестры, колыбелью революции!
С той разницей, что Христос был сын добродетельной женщины.
А революция была дочерью изнасилованной нации.
На это великое проявление народной воли король отвечает королевским словом: "Вето!".
К мятежникам посылают г-на де Врезе, который приказывает им разойтись.
— Мы пришли сюда по воле народа, — отвечает Мирабо, — и уйдем лишь со штыком в брюхе.
Он сказал именно так, а не как утверждают иные: "лишь уступая силе штыков". Отчего за спиной всякого великого человека непременно прячется ничтожный ритор, который под предлогом улучшения губит его речи!
Отчего этот ритор прятался за спиной Мирабо в Зале для игры в мяч?
За спиной Камбронна при Ватерлоо?
Ответ пересказали королю.
Он некоторое время прохаживался со скучающим видом.
— Они не хотят разойтись? — осведомился он наконец.
— Не хотят, ваше величество.
— Ну, так пускай их оставят в покое.
Как видим, королевская власть начала уступать воле народа, и уступила ей уже немало.
С 23 июня по 12 июля продолжался период относительного спокойствия, но то был тяжелый, душный покой — такой, какой предшествует грозе.
То был дурной сон, приснившийся в дурную ночь.
Одиннадцатого июля под давлением королевы, графа д’Артуа, Полиньяков, всей версальской камарильи король принимает решение и отставляет Неккера. 12 об этом становится известно в Париже.
Мы видели действие, оказанное этой новостью. 13 вечером приехавший в Париж Бийо увидел, как жгут заставы.
Тринадцатого вечером Париж защищался; 14 утром он был готов наступать.
Четырнадцатого утром Бийо закричал: "На Бастилию!" — и три тысячи человек подхватили этот крик, а вскоре к ним присоединилось все население Парижа.
Ибо существовало здание, которое вот уже около пяти столетий давило на грудь Франции, как адская глыба на плечи Сизифа, с той лишь разницей, что Франция, меньше верящая в свои силы, чем титан, даже не пыталась сбросить тяжелую ношу.
Это здание, эта феодальная печать на челе Парижа, звалось Бастилией.
Король, как говорила г-жа дю Оссе, был слишком добр, чтобы отрубать головы.
Король отправлял неугодных в Бастилию.
А попав в Бастилию по приказу короля, человек оказывался выброшен из жизни, замурован, похоронен, уничтожен.
Ему суждено было оставаться там до тех пор, пока король о нем не вспомнит; меж тем королям приходится думать о стольких новых происшествиях, что они частенько забывают о старых.
К слову сказать, во Франции была не одна Бастилия, что означает "крепость"; их имелось не меньше двадцати: Форл’Евек, Сен-Лазар, Шатле, Консьержери, Венсенский замок, замок Ла Рош, замок Иф, остров Сент-Маргерит, замок Пиньероль и другие.
Но лишь крепость у Сент-Антуанских ворот в Париже народ звал Крепостью с большой буквы, как Рим называют Городом с большой буквы.
Эта крепость была всем крепостям крепость. Она одна стоила всех остальных.
В течение столетия с лишком ею правили члены одного и того же рода.
Старейшиной этого избранного клана был г-н де Шатонёф. Ему наследовал его сын Ла Врийер; того сменил его сын Сен-Флорантен, приходившийся, следовательно, внуком г-ну де Шатонёфу. Династия угасла в 1777 году.
Никто не может сказать, сколько королевских указов о заключении в крепость без суда и следствия было подписано за время этих трех царствований, которые по большей части пришлись на век Людовика XV. Один лишь Сен-Флорантен проставил имена более чем в пятидесяти тысячах.
Указы эти приносили большой доход.
Их продавали отцам, желавшим избавиться от сыновей.
Их продавали женщинам, желавшим избавиться от мужей.
Чем красивее были женщины, тем дешевле стоили указы.
Красавицы сговаривались с министром полюбовно; обе стороны проявляли добрую волю.
С конца царствования Людовика XIV все государственные тюрьмы, и в первую очередь Бастилия, находились в руках иезуитов.
Напомним главных пленников Крепости: Железная маска, Лозен, Латюд.
Иезуиты были исповедниками; для большей надежности именно они исповедовали узников.
Для большей надежности умерших узников хоронили под вымышленными именами.
Тот, кого называли Железной маской, был, как мы помним, похоронен под именем Марчиали.
Он провел в тюрьме сорок пять лет.
Лозен провел там четырнадцать лет.
Латюд — тридцать.
Но Железная маска и Лозен, по крайней мере, были повинны в величайших преступлениях.
Железная маска, приходился он братом Людовику XIV или нет, походил на него как две капли воды. Какая неосторожность — осмелиться быть похожим на короля!
Лозен собирался жениться или даже женился на Великой мадемуазель. Какая неосторожность — осмелиться взять в жены племянницу короля Людовика XIII, внучку короля Генриха IV!
Но чем провинился бедняга Латюд?
Он осмелился влюбиться в мадемуазель Пуассон, она же г-жа де Помпадур, любовница короля. Он написал ей записку. Эту записку, которую порядочная женщина отослала бы автору, г-жа де Помпадур отослала г-ну де Сартину.
Латюда арестовали; он бежал, был пойман и провел тридцать лет в стенах Бастилии, Венсенского замка и тюрьмы Бисетр.
Так что Бастилию ненавидели недаром.
Народ ненавидел ее как живое существо; его воображение превратило ее в одну из тех гигантских тарасок или жеводанских чудовищ, что безжалостно пожирают людей.
Понятно поэтому, как тяжко страдал несчастный Себастьен Жильбер от сознания, что его отец в Бастилии.
Понятно поэтому, как глубоко был убежден Бийо в том, что доктор никогда не выйдет из тюрьмы, если не вырвать его оттуда силой.
Понятно поэтому, какой неистовый порыв охватил толпу, когда Бийо воскликнул: "На Бастилию!".
Однако солдаты утверждали, что надежда взять Бастилию приступом безрассудна.
У Бастилии имелся запас продовольствия, гарнизон, артиллерия.
У Бастилии имелись стены толщиной в пятнадцать футов наверху и сорок футов в основании.
У Бастилии имелся комендант по имени де Лонэ, который держал в погребах тридцать тысяч фунтов пороха и поклялся в случае внезапного нападения взорвать крепость вместе с половиной Сент-Антуанского предместья.
Назад: VII ГЛАВА, ГДЕ ДОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ДЛИННЫЕ НОГИ НЕСКОЛЬКО НЕУКЛЮЖИ, КОГДА ТАНЦУЕШЬ, НО ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫ, КОГДА УБЕГАЕШЬ
Дальше: XIV ТРИ ВЛАСТИ, ПРАВЯЩИЕ ФРАНЦИЕЙ

