XXVI
ЧЕТВЕРОСТИШИЕ
Вечером 12 января 1558 года королева Екатерина Медичи давала один из тех приемов, на которые, как нам уже известно, собиралась вся высшая знать. На сей раз этот прием был особенно блестящ и великолепен, хотя многие из дворян и пребывали на севере, в войсках герцога де Гиза.
Среди дам, кроме Екатерины, королевы законной, находились Диана де Пуатье, королева фактическая, молодая королева Мария Стюарт и печальная принцесса Елизавета, которой суждено было впоследствии стать королевой Испанской.
Среди мужчин выделялся глава Бурбонского дома король Наваррский Антуан, властитель слабый и нерешительный, который по настоянию своей жены, мужественной Жанны д’Амбре, отправился ко двору французского монарха, дабы при содействии Генриха II вернуть Наварре отторгнутые испанцами земли.
Был там и его брат, принц Конде, которого не слишком-то любили, однако уважали. Конде был еще более ярый гугенот, нежели король Наварры, и недаром его считали тайным главою мятежников. Он превосходно ездил верхом, владел в совершенстве шпагой, был изящен и остроумен.
Вполне понятно, что короля Наваррского и принца Конде окружали лица, тайно или явно сочувствовавшие Реформации: Колиньи, Ла Реноди, барон Кастельно…
Общество, как видите, собралось достаточно многолюдное и оживленное. Но на фоне общего веселья, шума и легкого возбуждения резко выделялись два рассеянных, озабоченных, даже опечаленных угрюмца. То были король и коннетабль де Монморанси.
Все мысли Генриха II вертелись вокруг Кале. Прошло три недели со дня отъезда герцога де Гиза, и все эти три недели он только и думал об этой смелой затее, которая может окончательно вышвырнуть англичан за пределы королевства, но может и основательно подорвать престиж Франции.
Генрих не раз укорял себя за то, что позволил Гизу ввязаться в такое опасное предприятие. А если оно лопнет? Какой стыд перед Европой! Как тоща возместить такую потерю?
Король, уже три дня не получавший известий о ходе осады, весь ушел в горькие мысли и почти не слушал кардинала Лотарингского, который, стоя у его кресла, пытался поддержать в нем угасающую надежду.
Диана де Пуатье прекрасно видела, что ее августейший властелин пребывает в дурном расположении духа. И однако, заметив стоявшего в сторонке мрачного Монморанси, все же направилась не к королю, а к нему.
Коннетабля тоже беспокоила осада Кале, но совершенно по иным причинам.
В самом деле, взятие Кале бесспорно выведет герцога де Гиза на первое место, а коннетабля тут же отбросит на второй план. Итак, если Франция будет спасена, то коннетабль погиб. А нужно сказать, что любовь его к собственной персоне без труда брала верх над любовью к отечеству. Вот почему он столь неприветливо встретил улыбающуюся Диану де Пуатье.
— Что случилось с моим старым воителем? — ласково спросила она его.
— Вот как! И вы тоже надо мной потешаетесь! — злобно буркнул Монморанси.
— Друг мой, вы не отдаете отчета своим словам!
— Отдаю, черт побери! — прорычал коннетабль. — Вы величаете меня старым воителем! Старый? Пожалуй, это так… Хм!.. Я не какой-нибудь двадцатилетний свистопляс. Но воитель? Ну уж нет! Разве не видите, что меня считают способным только на то, чтоб красоваться на приемах в Лувре!
— Не говорите так, — мягко возразила Диана. — Разве вы не коннетабль?
— Подумаешь, коннетабль!.. Теперь есть главнокомандующий всеми вооруженными силами королевства!
— Но это же временная должность! А ваше звание, звание первого воина королевства, — пожизненно!
— Все в прошлом! — горько усмехнулся коннетабль.
— Зачем вы так говорите, друг мой? Вы не утратили своей власти и по-прежнему внушаете страх нашим общим врагам — и здесь, и по ту сторону границы.
— Поговорим серьезно, Диана, не нам обманывать друг друга. Вот вы говорите, будто внешние враги трепещут предо мной, но кого же посылают против них? Полководца более молодого и несомненно более удачливого, чем я! И этот голубчик использует свой успех для достижения личных целей!
— Но откуда видно, что де Гизу действительно повезет?
— Его поражение, — лицемерно изрек коннетабль, — нанесло бы Франции величайший ущерб, и я бы горько оплакивал его… но боюсь, что победа его принесет королю еще больше несчастий, чем поражение!
— Неужели вы полагаете, что честолюбие господина де Гиза…
— О, честолюбие его безмерно! — вздохнул завистливый царедворец. — И если бы по непредвиденным обстоятельствам произошла смена власти, можете себе представить, на что бы решился сей честолюбец! Гизы хотят быть королями над королем.
— Но такое несчастье, слава Богу, слишком невероятно и слишком далеко, — возразила Диана, пораженная той легкостью, с какой шестидесятилетний коннетабль пророчил гибель сорокалетнему королю.
— Нам грозят сейчас и другие опасности… они почище будущих, — помрачнел коннетабль.
— Что за опасности, друг мой?
— У вас что, память отшибло? Разве вам неведомо, кто поехал в Кале вместе с герцогом, кто навязал ему, по всей видимости, эту проклятую затею, кто может вернуться победителем да еще ухитрится приписать себе всю честь победы?!
— Вы говорите о виконте д’Эксмесе?
— А о ком же еще, сударыня? Вы, может, и забыли его сумасбродное обещание, но он-то не забудет, нет! Тем более такой исключительный случай! Он способен выполнить свое обещание и нагло потребовать от короля исполнения слова!
— Это невозможно! — вспыхнула Диана.
— Что невозможно? Что господин д’Эксмес сдержит свое слово? Или король не исполнит свое?
— И первое, и второе предположения просто абсурдны!
— Хм!.. Но если первое осуществится, то второе неминуемо последует за ним. Король питает слабость к вопросам чести и вполне способен во имя рыцарской верности выдать врагам нашу общую тайну.
— Нет, это немыслимо! — побледнела Диана.
— Пусть так, но если это немыслимое сбудется, что вы тоща скажете?
— Не знаю… Ничего не знаю… Нужно думать, искать, действовать! Нужно идти на все! Если даже король не поддержит нас, мы обойдемся и без него! Мы можем прибегнуть к своей власти и к своему личному влиянию.
— Вот этого-то я и ждал, — заметил коннетабль. — Наша власть, наше личное влившие! Говорите уж о своем влиянии, сударыня! Что же касается моего, то оно превратилось в пустой звук… Полюбуйтесь, какая пустота вокруг моей особы… Кому интересно оказывать почет развенчанному вельможе! И вы, сударыня, не ждите больше помощи от бывшего своего поклонника, лишенного милостей, влияния, даже денег!..
— Даже денег? — недоверчиво переспросила Диана.
— Да, черт возьми, даже денег! — в бешенстве рявкнул коннетабль. — И это в моем возрасте и после стольких услуг! Последняя война совсем меня разорила, мне пришлось выкупить самого себя и кое-кого из своих, и это истощило все мои сбережения. Скоро я буду ходить по улицам с протянутой рукой.
— Но разве у вас нет друзей? — спросила Диана.
— У меня нет друзей, черт побери! — заявил коннетабль и выспренне добавил: — У того, кто несчастен, друзей не бывает.
— Я берусь доказать вам обратное, — возразила Диана. — Теперь я понимаю причину вашего дурного настроения. Почему же вы мне не сказали об этом раньше? Или вы уже не доверяете мне? Нехорошо, нехорошо… И все-таки я вам отомщу… по-дружески! Скажите, разве король не утвердил на прошлой неделе новый налог?
— Утвердил, — кивнул головой сразу успокоившийся коннетабль. — Этот налог рассчитан на возмещение военных издержек..
— Очень хорошо. А сейчас я покажу вам, как женщина может исправить несправедливость судьбы по отношению к достойным людям. Генрих сегодня тоже не в духе, но все равно! Я иду на штурм, и вам придется признать, что я ваш верный союзник и добрый друг.
— Ах, Диана, вы так добры, так прекрасны! Я готов заявить об этом во всеуслышание! — галантно поклонился коннетабль.
— Но и вы, коща я верну вам милость короля, вы тоже не покинете меня в нужде, не так ли?
— О, дорогая Диана, все, что я имею, принадлежит и вам!
— Ну хорошо, — отозвалась Диана с многообещающей улыбкой.
Она поднесла свою изящную белую руку к губам сановного поклонника и, подбодрив его взглядом, направилась к королю.
Кардинал Лотарингский, не отходивший от Генриха, расточал все свое красноречие, дабы предсказать королю удачное разрешение смелой затеи с Кале. Но Генрих прислушивался не столько к речам кардинала, сколько к своим беспокойным мыслям.
В эту минуту к ним подошла Диана.
— Бьюсь об заклад, — смело обратилась она к кардиналу, — что ваше высокопреосвященство изволит чернить перед королем бедного Монморанси!
— О, сударыня, — воскликнул Карл Лотарингский, ошеломленный неожиданным нападением, — я призываю в свидетели его величество, что самое имя господина коннетабля ни разу не было произнесено во время нашей беседы!
— Совершенно верно, — вяло подтвердил король.
— Тот же вред, но другим способом, — уколола кардинала Диана.
— Если говорить о коннетабле не полагается, а забывать о нем тоже нельзя, что же мне остается делать, сударыня?
— Как — что?.. Говорить о нем, и говорить только хорошее!
— Пусть так! — лукаво подхватил кардинал. — Повеление красоты — закон для меня. В таком случае, я буду говорить о том, что господин де Монморанси — выдающийся полководец, что он выиграл Сен-Лоранскую битву и укрепил благосостояние Франции, а в настоящее время — для завершения своих подвигов — затеял отчаянную схватку с неприятелем и проявляет неслыханную доблесть под стенами Кале.
— Кале! Кале! Кто бы мне сказал, что там творится?.. — пробормотал король. Из всей этой словесной перепалки до него дошло только одно это слово.
— О, ваши похвалы, господин кардинал, поистине пропитаны христианским духом, — сказала Диана, — примите благодарность за столь язвительное милосердие.
— По правде говоря, — отозвался кардинал, — я и сам не знаю, какую еще хвалу воздать этому бедняге Монморанси.
— Вы плохо ищете, ваше высокопреосвященство! Разве нельзя отдать должное тому усердию, с которым коннетабль собирает последние средства для обороны и приводит в боевую готовность сохранившиеся здесь остатки войска, тогда как иные, рискуя, ведут главные наши силы на верную погибель в безумных походах?
— О! — проронил кардинал.
— К тому же можно добавить, — продолжала Диана, — что даже тоща, когда неудачи ополчились на него, он ни в коей мере не проявил личного честолюбия и помышлял только об отечестве, которому отдал все: жизнь, которой рисковал, свободу, которой так долго был лишен, и состояние, от которого сейчас ничего не осталось.
— Вот как! — притворно удивился кардинал.
— Именно так, ваше высокопреосвященство, и примите к сведению — господин де Монморанси разорен!
— Боже мой! Разорен? — переспросил кардинал.
А беззастенчивая Диана не унималась:
— Разорен, и поэтому я настоятельно прошу, ваше величество, помочь верному слуге.
Король, занятый своими мыслями, ничего не ответил. Тогда она снова принялась за свое:
— Да, государь, я вас убедительно прошу оказать помощь вашему верному коннетаблю. Его выкуп и те военные издержки, которые он понес на службе вашему величеству, исчерпали последние его средства… Государь, вы слушаете меня?
— Простите, сударыня, — отозвался Генрих, — но сегодня вечером мне трудно сосредоточиться. Я никак не могу отогнать от себя мысль о возможной неудаче в Кале…
— Тем более вы должны помочь человеку, который заранее готовится смягчить последствия будущего поражения.
— Однако у нас, как и у коннетабля, не хватает денег, — возразил король.
— Но ведь новый налог уже утвержден? — спросила Диана.
— Эти средства предназначены на оплату и содержание войска, — заметил кардинал.
— В таком случае, большая их часть должна быть выдана главе всего войска.
— Глава всего войска находится в Кале! — заявил кардинал.
— Нет, он в Париже, в Лувре!
— Значит, вам угодно, сударыня, награждать поражение?
— Во всяком случае, это лучше, господин кардинал, нежели поощрять безрассудство.
Наконец король прервал их:
— Довольно! Разве вы не видите, что этот спор меня утомляет и оскорбляет! Известно ли вам, сударыня, и вам, ваше высокопреосвященство, какое четверостишие я обнаружил недавно в моем часослове?
— Четверостишие? — вырвалось у обоих его собеседников.
— У меня хорошая память, — сказал Генрих. — Вот оно:
В правленье вашем, сир, смешались два начала: И то, что женская велит вам красота,
И то, что шепчут вам советы кардинала.
Вы никакой не сир, вы просто сир-о-та!
Диана и тут не растерялась:
— Довольно милая игра слов, она мне приписывает то влияние на ваше величество, которым я, увы, не обладаю!
— Ах, сударыня, — возразил король, — у вас достаточно влияния, старайтесь только не злоупотреблять им.
— Если так, ваше величество, сделайте то, о чем я вас прошу!
— Ну хорошо, хорошо… — с раздражением бросил король. — А теперь оставьте меня в покое…
При виде подобной бесхарактерности кардинал только возвел очи горе, а Диана метнула на него торжествующий взгляд.
— Благодарю вас, ваше величество, — сказала она, — я повинуюсь вам и удаляюсь, но отгоните от себя смятение и беспокойство. Государь, победа любит отважных, вы победите, я это предчувствую!..
— Дай-то Бог! — вздохнул Генрих. — …Но как же ограничена власть королей! Не иметь никакой возможности дознаться, что происходит в Кале! Вы, кардинал, очень хорошо говорите, а вот то, что брат ваш молчит, — это просто ужасно! Что делается в Кале? Как бы об этом узнать?
В это мгновение в залу вошел дежурный привратник и, поклонившись королю, громовым голосом известил:
— Посланец от господина де Гиза, прибывший из Кале, просит разрешения предстать перед вашим величеством.
— Посланец из Кале? — едва сдерживая себя, подскочил в кресле король.
— Наконец-то! — радостно воскликнул кардинал.
— Впустить вестника господина де Гиза, впустить немедленно! — приказал король.
Все разговоры смолкли, сердца замерли, взгляды устремились на дверь. В гробовой тишине в залу вошел Габриэль.
XXVII
ВИКОНТ ДЕ МОНТГОМЕРИ
Так же, как и при возвращении из Италии, Габриэль появился в сопровождении четырех своих людей. Амброзио, Лактанций, Ивонне и Пильтрусс внесли за ним английские знамена и остановились у порога.
Молодой человек держал в руках бархатную подушку, на которой лежали два письма и ключи от города.
На лице Генриха застыла гримаса радости и ужаса. Он радовался счастливой вести, но его страшила суровость вестника.
— Виконт д’Эксмес! — прошептал он, видя, как Габриэль медленно подходит к нему.
Г-жа де Пуатье обменялась с коннетаблем тревожными взглядами.
Тем временем Габриэль, торжественно преклонив колено перед королем, громко произнес:
— Государь, вот ключи от города Кале, которые после семидневной осады и трех ожесточенных штурмов англичане вручили герцогу де Гизу и которые герцог де Гиз препровождает вашему величеству.
— Значит, Кале наш? — переспросил король, словно не веря этому.
— Кале ваш, государь, — повторил Габриэль.
— Да здравствует король! — загремело в зале.
Генрих II, забыв обо всех своих страхах и помня только о том, что войско его одержало блестящую победу, с сияющим лицом раскланивался с взволнованными придворными.
— Благодарю вас, господа, благодарю! От имени Франции принимаю ваши изъявления восторга, однако будет справедливо, если большую их часть мы воздадим доблестному руководителю похода господину де Гизу!
Шепот одобрения пронесся по залу.
— Но поскольку его нет среди нас, — продолжал Генрих, — мы с радостью адресуем наши поздравления вам, ваше высокопреосвященство, славному представителю рода Гизов, и вам, виконт д’Эксмес, доставившему нам такую счастливую весть.
— Государь, — твердо произнес Габриэль, почтительно склонясь перед королем, — простите, государь, но отныне я больше не виконт д’Эксмес.
— Как так? — вскинул бровь Генрих II.
— Государь, со дня взятия Кале я считаю себя вправе носить свое настоящее имя и свой настоящий титул. Я виконт де Монтгомери!
При упоминании этого имени, которое долгие годы произносилось не иначе, как шепотом, по залу прокатился гул удивления:
— Этот молодой человек назвался виконтом де Монтгомери! Значит, граф де Монтгомери, его отец, еще жив! Что бы это могло значить? Почему вновь заговорили об этом древнем, некогда знатном роде?
Король, конечно, мог не слышать эти безмолвные реплики, но догадаться о них было совсем не трудно. Он побледнел и в гневе закусил дрожавшие губы. Г-жа де Пуатье тоже встрепенулась, а забившийся в угол коннетабль вышел из своей мрачной неподвижности, и мутный его взор загорелся ненавистью.
— Что это значит, сударь? — спросил король вдруг осипшим голосом. — Чье имя вы дерзнули присвоить? Откуда у вас такая смелость?
— Так меня зовут, государь, — спокойно ответил Габриэль, — а то, что вы почитаете смелостью, есть не что иное, как уверенность.
Было ясно, что Габриэль решил одним смелым ударом сразу же открыть игру и пошел ва-банк, лишая тем самым возможности отступления не только короля, но и самого себя.
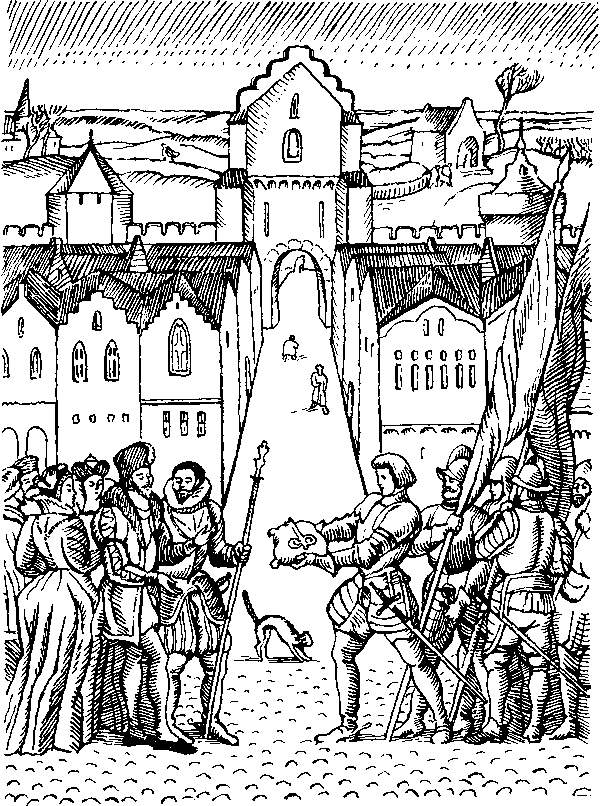
Генрих моментально разгадал эту уловку, но, желая хоть немного отдалить страшную развязку, заметил:
— Вашими личными делами, сударь, мы займемся позже, а сейчас не забывайте: вы — гонец герцога де Гиза, и, если я не ошибаюсь, ваше поручение еще не выполнено.
— Вы правы, государь, — низко поклонился ему Габриэль. — Теперь мне надлежит вручить вашему величеству знамена, отбитые у англичан. Вот они. Кроме того, господин герцог де Гиз собственноручно написал вам вот это послание.
И он поднес на подушке письмо герцога. Король взял его, сломал печать, вскрыл конверт и протянул письмо кардиналу со словами:
— Вам, кардинал, выпадает счастье огласить послание вашего брата. Оно обращено не ко мне, а к Франции.
— Вашему величеству угодно…
— Да, господин кардинал, так мне угодно. Вы заслужили такую честь.
Карл Лотарингский с почтительным поклоном принял письмо из рук короля, развернул его и в воцарившейся тишине прочел нижеследующее:
— "Государь! Кале в нашей власти. Мы за неделю отняли у англичан то, что они получили двести лет назад ценою годичной осады. Города Гин и Гам — последние пункты, которыми они владеют сейчас во Франции, — теперь уж долго не продержатся. Я беру на себя смелость обещать Вашему величеству, что не пройдет и двух недель, как наши враги будут окончательно изгнаны из пределов страны. Я счел нужным проявить великодушие к побежденным: по условиям капитуляции жителям Кале предоставляется право вернуться в Англию со всем своим имуществом. Число погибших и раненых у нас весьма велико. В настоящее время я не имею ни времени, ни возможности посвятить Ваше величество во все детали; сам я был серьезно ранен…"
В этом месте кардинал побледнел и прервал чтение.
— Как, герцог ранен? — вскричал король, прикинувшись встревоженным.
— Ваше величество, не беспокойтесь, — вмешался Габриэль. — Рана герцога, слава Богу, теперь уже не опасна. От нее останется лишь благородный шрам на лице и славное прозвище Меченый.
Кардинал пробежав глазами несколько последующих строк, убедился, что Габриэль не солгал, и, успокоившись, продолжал:
— "…Сам я был серьезно ранен в первый же день вступления в Кале, но меня спасло своевременное вмешательство и выдающийся талант молодого хирурга мэтра Амбруаза Парэ;
в данное время я еще слаб и посему лишен радости личного общения с Вашим величеством.
Но Вы сможете узнать все подробности от подателя сего письма, который вам вручит его вместе с ключами от города и английскими знаменами; кстати, о нем мне должно особо рассказать Вашему величеству, ибо честь молниеносного взятия Кале принадлежит не мне, государь. Я всеми силами старался содействовать успеху наших доблестных войск, но основная идея, план, выполнение и окончательный успех этого предприятия относятся целиком и полностью к подателю сего послания господину виконту д’Эксмесу…"
Тут король перебил кардинала, обращаясь к Габриэлю:
— Очевидно, герцог де Гиз не знает вашего нового имени?
— Государь, — отвечал Габриэль, — я осмелился впервые назваться так лишь в присутствии вашего величества.
Кардинал по знаку короля продолжал:
— "Я, признаться и не помышлял о таком смелом ударе, когда господин д’Эксмес, встретясь со мной в Лувре, изложил мне свой превосходный план, рассеял мои сомнения, положил конец колебаниям и убедил меня решиться на ратный подвиг, который составит славу всего Вашего царствования. Но это еще не все; в таком серьезном предприятии риск был недопустим. Тогда господин д’Эксмес дал возможность маршалу Строцци проникнуть переодетым в Кале и проверить все возможности защиты и нападения. Мало того, он вручил нам настолько точный план всех застав и укреплений Кале, что город предстал перед нами словно на ладони. Под стенами города, в схватках у форта Ньелле, под Старой крепостью, — словом, всюду виконт д’Эксмес проявил чудеса храбрости, находясь во главе отряда, который экипировал на свои собственные средства. Но он превзошел сам себя при взятии форта Ризбанк. Этот форт мог бы свободно принять из Англии громадные подкрепления, и тогда мы были бы разбиты и уничтожены. Могли бы мы, не имея флота, противостоять крепости, которую защищал океан? Нет, конечно. Однако виконт д’Эксмес совершил чудо! Ночью, на шлюпке, один со своими добровольцами, он сумел высадиться на голой скале, подняться по отвесной стене и водрузить французское знамя над неприступным фортом!"
Тут, несмотря на присутствие короля, шепот восхищения заглушил голос кардинала. Габриэль, потупившись, скромно стоял в двух шагах от короля, и его скромный вид, как бы усугубляя впечатление о содеянном им ратном подвиге, приводил в восторг молоденьких женщин и старых воинов.
Даже сам король невольно взволновался и потеплевшим взором смотрел на юного героя из рыцарского романа. Только одна г-жа де Пуатье покусывала побледневшие губы да г-н де Монморанси хмурил косматые брови.
Передохнув, кардинал снова вернулся к письму:
— "После взятия форта Ризбанк английские корабли не рискнули пойти на безнадежную высадку. Три дня спустя мы вступили в Кале. В этой последней схватке, государь, я и получил страшную рану, которая чуть не стоила мне жизни. Здесь мне придется снова упомянуть виконта д’Эксмеса. Он чуть ли не силой заставил пропустить к моему смертному ложу мэтра Парэ…" За это примите уж от меня особую благодарность, — растроганно произнес Карл Лотарингский и с подъемом закончил: — "Государь, обычно славу больших успехов приписывают тому, под чьим руководством они были достигнуты. В данном же случае я считаю своим долгом уведомить Ваше величество, что податель сего письма был истинным вдохновителем и исполнителем нашего предприятия, и, если бы не он, Кале был бы еще в руках англичан. Господин д’Эксмес просил меня не говорить об этом никому, кроме короля, что я с радостью и делаю. Мой долг заключается в том, чтобы удостоверить документами доблесть господина д’Эксмеса. Остальное, государь, Ваше право. Господин д’Эксмес говорил мне, что у Вас есть для него некая награда. И действительно, только король может по достоинству оценить и вознаградить подобный невиданный подвиг. В заключение молю Бога, государь, ниспослать Вам долгую жизнь и счастливое царствование.
Ваш смиренный и верноподданный слуга Франциск Лотарингский. Кале, 8 января 1558 года".
Когда Карл Лотарингский дочитал письмо и вручил его королю, по залу снова пробежала легкая волна восторженного шепота. Если бы не дворцовый этикет, доблестному воину долго рукоплескали бы.
Король почувствовал этот общий порыв и вначале попытался противиться ему, но все-таки вынужден был обратиться к Габриэлю, как бы выражая желание всех присутствующих.
— То, что вы совершили, сударь, просто невероятно! Я и сам полагаю, что мне надлежит наградить вас за этот героический подвиг.
— Государь, — отозвался Габриэль, — я претендую только на одну награду, и ваше величество знает… — Но, заметив нетерпеливый жест Генриха, тут же осекся и заключил: — Прошу прощения, государь, моя миссия пока не завершена.
— Что у вас есть еще?
— Государь, вот письмо от госпожи де Кастро к вашему величеству.
— От госпожи де Кастро? — обрадованно переспросил Генрих.
И, порывисто вскочив с кресла, он спустился с возвышения, взял в руки письмо Дианы и вполголоса сказал Габриэлю:
— Оказывается, вы не только вернули город королю, но и дочь отцу! Я ваш должник вдвойне! Однако посмотрим, что она пишет…
И поскольку Генриха стесняло это почтительное молчание двора, ожидавшего его повелений, он во всеуслышание распорядился:
— Я не препятствую, господа, изъявлениям вашей радости. Больше я ничего не могу вам сообщить, все остальное я выясню в разговоре с посланцем герцога де Гиза. Вам остается только по достоинству оценить эту великолепную новость, чем можете и заняться, господа!..
Гости не замедлили воспользоваться разрешением, и вскоре в зале повис какой-то нескончаемый, неясный гул.
Одна лишь г-жа де Пуатье и коннетабль следили за королем и Габриэлем. Они обменялись красноречивыми взглядами. Потом Диана подошла почти вплотную к королю. Но Генрих не замечал ни Дианы, ни коннетабля. Он весь был поглощен письмом дочери.
— Милая Диана! Бедная, милая Диана!.. — растроганно бормотал он.
Затем, прочитав письмо, он в великодушном порыве обратился к Габриэлю:
— Госпожа де Кастро мне также представляет вас как своего спасителя! Причем она говорит, что вы не только вернули ей свободу, но и, насколько я понял, спасли ее честь?
— Государь, я лишь исполнил свой долг.
— Тоща и мне остается исполнить свой, — гордо выпрямился король, — слово за вами! Чего же вы хотите, господин виконт де Монтгомери?
XXVIII
РАДОСТЬ И ТРЕВОГА
"Господин виконт де Монтгомери"!
Это имя в устах короля значило больше, чем обещание, Габриэль торжествовал. Генрих готов был простить!
Диана шепнула подошедшему к ней коннетаблю:
— Он слабеет!
— Подождем, наше слово впереди! — не растерялся коннетабль.
— Государь, — говорил между тем королю Габриэль, — государь, я не считаю нужным повторять, какой милости я от вас жду. Свое обещание я выполнил. Исполните ли вы свое?
— Да, я его исполню, — не колеблясь, ответил король, но только с одним условием — никакой огласки.
— Это условие будет в точности соблюдено. Клянусь честью!
— Тоща подойдите ко мне, сударь! — приказал король. Габриэль подошел, кардинал из скромности удалился, но г-жа де Пуатье, сидевшая почти рядом с королем, не тронулась с места и слышала весь дальнейший разговор.
Впрочем, ее присутствие не смущало короля. На сей раз голос его звучал твердо:
— Виконт де Монтгомери, вы рыцарь, которого я ценю и уважаю. Если вы даже получите то, чего желаете и что безусловно заслужили, мы все-таки будем еще в долгу перед вами. Итак, возьмите это кольцо. Завтра в восемь часов утра предъявите его коменданту Шатле. Он будет нами предупрежден, и вы немедленно получите то, ради чего так свято и доблестно боролись.
Габриэль почувствовал, как от радости у него подгибаются колени, и, не удержавшись, упал к ногам короля. Сердце бешено колотилось, на глазах выступили слезы.
— Государь, — выпалил он, — до последних моих дней я ваш телом и душой!.. Это так же верно, как и то, что в случае отказа я бы возненавидел вас.
— Ну полноте, виконт, встаньте, — улыбаясь, молвил король. — Успокойтесь. И чтобы немного отвлечься, расскажите нам всю эту неслыханную историю взятия Кале. По-моему, об этом можно говорить и слушать без конца.
Генрих II больше часа не отпускал от себя Габриэля, заставляя по сто раз повторять одни и те же подробности.
Потом он нехотя уступил его дамам, которые, в свою очередь, забросали вопросами юного героя.
Наконец, кардинал Лотарингский, не знавший прошлого Габриэля и видевший в нем только друга и приближенного своего брата, пожелал представить его королеве.
Екатерина Медичи в присутствии всего двора была вынуждена поздравить того, кто принес королю столь радостную весть. Но сделала она это с холодком и высокомерием, и ее презрительный взгляд никак не гармонировал со сказанными ею словами. Габриэль чувствовал этот холод лживой любезности, под маской которой таились тайная насмешка и скрытая угроза.
Откланявшись Екатерине Медичи, он повернулся и тут неожиданно понял причину своих дурных предчувствий. И в самом деле, едва он бросил взгляд в сторону короля, как с ужасом увидел: к Генриху подходит Диана де Пуатье и что-то говорит ему со злой и пренебрежительной усмешкой. Затем она подозвала коннетабля, и тот тоже что-то начал втолковывать королю.
Ни одно движение его врагов не ускользнуло от Габриэля. Но в тот момент, когда сердце его зашлось в тревоге, к нему с веселой улыбкой стремительно подлетела Мария Стюарт и засыпала его уймой похвал и расспросов. Обеспокоенный Габриэль отвечал невпопад.
— Это же замечательно, великолепно! Вы со мной согласны, дорогой дофин? — обратилась она к Франциску, своему юному супругу, который не преминул добавить к восторгам жены и свои собственные.
— На что только не пойдешь, дабы заслужить такие добрые слова! — вздохнул Габриэль, не спуская глаз с возбужденной троицы.
— Чувствовало мое сердце, что вы непременно совершите какой-нибудь чудесный подвиг! — продолжала Мария Стюарт с присущей ей грацией. — Ах, если бы я могла вас отблагодарить, как и король! Но женщина, увы, не имеет в своем распоряжении ни титулов, ни чинов.
— О, поверьте, у меня есть все, о чем можно только мечтать, — сказал Габриэль, а сам подумал: "Король все слушает ее и не возражает!.."
— Все равно… — не унималась Мария Стюарт. — Видите этот букетик фиалок, который прислал мне турнелльский садовник? Так вот, господин д’Эксмес, с разрешения дофина я подношу вам эти цветы в память о сегодняшнем дне! Вы принимаете?
— О сударыня! — И Габриэль почтительно поцеловал протянутую руку.
— Цветы всегда радуют и утешают в печали, — задумчиво произнесла Мария Стюарт. — Возможно, мне предстоят горести, но я никогда не почувствую себя несчастной, пока у меня будут цветы. Вот почему, господин д’Эксмес, я преподношу их вам, счастливому победителю.
— Кто знает, — грустно покачал головой Габриэль, — не нуждается ли счастливый победитель в утешении больше, чем кто-либо другой?
Произнося эти слова, он не сводил глаз с короля, который, видимо, о чем-то мучительно размышлял и все ниже склонял голову перед доводами г-жи де Пуатье и коннетабля.
Габриэль ужаснулся, догадавшись, что фаворитка подслушала их разговор с королем и говорит сейчас именно о нем, Габриэле, и о его отце.
Между тем, мило пошутив над озабоченностью Габриэля, Мария Стюарт оставила его.
На смену подошел адмирал Колиньи и тоже горячо поздравил его с блестящим успехом.
— Вы созданы, — говорил адмирал, — не только для блистательных побед, но и для почетных поражений. Я горжусь, что вовремя сумел разгадать ваши достоинства, и сожалею только о том, что мне не пришлось разделить вместе с вами честь высокого подвига, который принес вам счастье, а Франции — славу.
— Такая возможность вам еще представится, господин адмирал.
— Вряд ли, — печально заметил адмирал. — Дай только Бог, чтоб нам не пришлось на поле битвы быть в разных лагерях!
— Что вы разумеете под такими словами, адмирал? — заинтересовался Габриэль.
— За последние месяцы четверо верующих были сожжены заживо. Протестанты с каждым днем множатся и в конце концов возмутятся против этих жестоких и бесчестных гонений. Боюсь, что в один прекрасный день две партии превратятся в две армии.
— И что тоща?
— А то, что вы, господин д’Эксмес, несмотря на ту памятную прогулку на улицу Сен-Жана, сохранили за собой полную свободу действий. Но, сдается мне, вы сейчас настолько в чести, что не сможете не вступить в армию короля, ведущую борьбу с так называемой ересью!
Следя за королем, Габриэль ответил:
— А я полагаю, господин адмирал, что вы ошибаетесь! Думаю, что скоро я с чистой совестью восстану вместе с угнетенными против угнетателей.
— Что? Что это значит? — взволновался адмирал. — Вы даже побледнели, Габриэль! Что с вами?
— Ничего, ничего, адмирал, но я вынужден вас покинуть. До скорой встречи!
Габриэль издалека увидел, как король утвердительно кивнул головой, после чего Монморанси тут же удалился, торжествующе взглянув на Диану.
Через несколько минут прием был окончен, и Габриэль, поклонившись королю, осмелился сказать ему:
— До завтра, государь.
— До завтра, — буркнул король, отвернувшись в сторону.
Теперь он не улыбался. Улыбалась, напротив, г-жа де Пуатье.
Габриэль вышел из дворца. Гнетущая тоска охватила его.
Весь вечер он бродил вокруг Шатле. Убедившись, что Монморанси туда не входил, он немного воспрянул духом. Потом, потрогав пальцем королевское кольцо, он вспомнил слова Генриха II, слова, которые исключали всякие сомнения, всякую двусмысленность: "Вы немедленно получите то, ради чего вы так свято и доблестно боролись". И все-таки эта ночь, отделявшая его от решающего мгновения, показалась ему длиннее года!
XXIX
ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ
Одному лишь Богу известно, что передумал Габриэль, чего стоили ему эти мучительные часы. Вернувшись домой, он не перекинулся ни единым словом ни со слугами, ни с кормилицей. С этой минуты для него началась новая жизнь — молчаливая, напряженная, насыщенная действием. Все, что он пережил в эту ночь — обманутые надежды, смелые решения, замыслы отмщения, мечты о любви, — все это он похоронил в своей душе.
Только в восемь часов он мог явиться в Шатле с кольцом, полученным от короля. Оно должно было открыть все двери не только ему, но и его отцу.
До шести часов утра Габриэль пребывал в своих покоях. В шесть часов одетый и вооруженный, как для долгого путешествия, он спустился вниз. Слуги засуетились. Четыре добровольца из его отряда окружили Габриэля. Но он всех дружески поблагодарил и отпустил, оставив при себе только пажа Андре и Алоизу.
— Алоиза, — обратился он к ней, — я жду со дня на день гостей, двух моих друзей из Кале — Жана Пекуа и его жену Бабетту. Возможно, мне не придется самому их встретить, но и в мое отсутствие прими их как подобает и обращайся с ними так, как будто они мне брат и сестра.
— Господин виконт, уж кому-кому, а вам-то должно быть ясно, что для меня достаточно одного вашего слова. Не беспокойтесь, у ваших гостей будет все, что нужно.
— Благодарю, Алоиза, — сказал Габриэль, пожимая ей руку, — Теперь поговорим с вами, Андре… У меня есть несколько важных поручений, и вам придется ими заняться, поскольку вы замещаете Мартина Герра.
— Як вашим услугам, господин виконт.
— Тогда слушайте. Через час я один покину этот дом. Если я вернусь, вам ничего не придется делать, но если я не вернусь ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра…
Кормилица горестно всплеснула руками, а Андре перебил своего господина:
— Простите, господин виконт, вы сказали, что, возможно, не скоро вернетесь сюда?
— Да, Андре.
— Так почему же я не могу вас сопровождать? Вы и впрямь будете долго отсутствовать? — смущенно спросил Андре.
— Вполне возможно…
— Но тоща… Перед отъездом госпожа де Кастро вручила мне для вас письмо…
— Письмо? И вы мне его до сих пор не передали? — быстро спросил Габриэль.
— Простите, господин виконт, я должен был вам его вручить только в том случае, если вы придете из Лувра опечаленным и разгневанным. "Вот тоща, — сказала мне госпожа Диана, — передайте виконту д’Эксмесу это письмо, и пусть оно послужит ему либо предупреждением, либо утешением".
— Дайте мне его! — воскликнул Габриэль. — Совет и утешение! Как раз вовремя!
Андре вынул из кармана бережно свернутое письмо и отдал виконту. Габриэль поспешно сломал печать, отошел к окну и принялся читать.
"Друг мой, среди треволнений и упований этой последней ночи, которая, быть может, навсегда разлучит нас, меня тревожит мысль. Вот она: возможно, что, исполняя свой страшный долг, Вы будете вынуждены вступить в столкновение с королем; возможно, что в результате этой борьбы Вы возненавидите его и захотите покарать…
Габриэль, я не знаю точно, мой ли он отец, но знаю, что он все время лелеял меня, как своего ребенка.
Когда я думаю о Вашей мести, я содрогаюсь. И если месть эта осуществится, я погибну.
И пока все эти ужасные сомнения еще не разрешены, умоляю Вас, Габриэль: сохраните уважение к особе короля. Ведь людей должны карать не такие же люди, а Бог!
Итак, друг мой, что бы ни случилось, не спешите карать даже заведомого преступника. Не будьте его судьей и тем более его палачом. Знайте: Всевышний отомстит за Вас так сурово, как Вам не суметь.
Доверьте Вашу тяжбу Его правосудию.
Сделайте так во имя любви ко мне. Милосердия! Вот последняя мольба, последний призыв, который к Вам обращает
Диана де Кастро".
Габриэль, грустно улыбаясь, дважды перечитал письмо, потом сложил его, спрятал на своей груди и, опустив голову, на минутку задумался. Потом, как бы очнувшись от сна, сказал:
— Хорошо! Свои приказания я не отменяю. Если я, как было сказано, не вернусь, если вы обо мне что-нибудь услышите или, наоборот, ничего не услышите, запомните крепко-накрепко, что вам надлежит сделать…
— Я вас слушаю, господин виконт, — отозвался Андре.
— Через несколько дней госпожа де Кастро прибудет в Париж. Вы должны узнать точный срок ее прибытия.
— Это несложно, господин виконт.
— Постарайтесь выйти ей навстречу и передайте от моего имени вот этот запечатанный пакет. В нем нет ничего ценного… так, просто косынка и больше ничего, но смотрите не потеряйте ее. Вы вручите ей этот пакет и скажете…
— Что ей сказать, господин виконт? — спросил Андре, видя, что тот колеблется.
— Нет, не говорите ей ничего! Скажите только, что она свободна, что я возвращаю ей все ее обещания, залогом чего служит эта косынка.
— И это все?
— Все… А если обо мне не будет вестей и госпожа де Кастро проявит хоть чуточку беспокойства, тоща… вы скажете… Впрочем, не говорите ей ничего, но попросите, чтоб она взяла вас обратно к себе на службу. А если она не захочет, возвращайтесь сюда и ждите, когда я вернусь.
— Вы вернетесь… господин виконт, вернетесь… — со слезами на глазах прошептала кормилица. — Разве может случиться, чтобы вы пропали без вести?
— Может, так оно и лучше было бы… — заметил Габриэль. — Во всяком случае, надейся и жди меня.
— Надеяться! А вдруг вы исчезнете! — воскликнула Алоиза.
— Исчезну? Почему ты так думаешь? Ведь всего не предвидишь. И все-таки я надеюсь вскоре обнять тебя, Алоиза!
— Да благословит вас Бог за эти слова!
— А кроме этих приказаний, у господина виконта других не будет? — спросил Андре.
— Нет… Впрочем, постойте!
И Габриэль, присев к столу, написал следующее письмо адмиралу Колиньи:
"Г-н адмирал, извольте считать меня с нынешнего дня в ваших рядах. Так или иначе, но я безраздельно отдаю себя вашему делу и посвящаю угнетенной религии свое сердце и свою жизнь.
Ваш смиренный соратник и верный друг Габриэль де Монтгомери".
— Передайте, если я не вернусь, — Габриэль протянул Андре запечатанное письмо. — А теперь, друзья мои, я с вами прощаюсь и ухожу. Час настал!..
И действительно, через полчаса Габриэль уже стучал в ворота Шатле.
XXX
НЕВЕДОМЫЙ УЗНИК
Г-н де Сальвуазон, комендант Шатле, который принимал Габриэля при первом посещении, недавно скончался. Нового коменданта звали г-н де Сазерак.
К нему-то и провели молодого человека. Беспокойство железной хваткой сжало горло Габриэля, и он не смог выдавить из себя ни слова. Молча он показал коменданту кольцо короля.
Г-н де Сазерак с достоинством поклонился:
— Я ожидал вас, сударь! Час назад мною был получен приказ, имеющий к вам прямое отношение. Предъявителю этого кольца я должен беспрекословно выдать на руки безымянного заключенного, который в течение многих лет содержится в Шатле под номером двадцать один. Верно, сударь?
— Да, да, — торопливо подтвердил Габриэль, которому надежда вернула голос. — И этот приказ, господин комендант…
— Я готов его выполнить.
— О-о! И это правда? — вздрогнул Габриэль.
— Несомненно, — ответил г-н де Сазерак, в голосе которого чуткое ухо уловило бы грусть и горечь.
Но Габриэль был слишком взволнован и обрадован, чтобы заметить это.
— Значит, я не сплю! Значит, мои нелепые страхи — только сон! Вы мне возвращаете узника, господин комендант! Благодарю тебя, Боже! Благодарю тебя, государь! Тоща пойдемте скорее, умоляю вас!
И он шагнул было вперед, но вдруг как-то неожиданно обессилел и невольно остановился. Ему показалось, будто сердце его разрывается на куски, будто он задыхается. Увы, человеческая природа слишком слаба, чтобы вынести столько треволнений!..
Почти неожиданное осуществление столь долгих упований, достижение цели всей его жизни, благодарность королю, удовлетворение, любовь к отцу — все это переплелось в тугой клубок, завертелось перед мысленным взором ослабевшего Габриэля. Ну как он мог хоть на мгновение усомниться в великодушии монарха!
Наконец он взял себя в руки:
— Простите, господин комендант, за эту минутную слабость. Как видите, и радость трудно перенести.
— О, не извиняйтесь, прошу вас, — глухо отвечал комендант.
Габриэль, пораженный тоном, которым сказаны были эти слова, поднял взгляд на открытое, благородное лицо г-на де Сазерака. В нем было столько доброты, столько сердечности!
Но странное дело — г-н де Сазерак смотрел на восторженного Габриэля с каким-то затаенным сожалением. Заметив это, Габриэль побледнел, и зловещее предчувствие вновь закралось в его душу. И все-таки он поборол в себе это неожиданное сомнение и, выпрямившись, сказал:
— Теперь идемте. Я готов.
И они двинулись в подземелье.
Впереди шел слуга с факелом.
Габриэль, помимо своей воли, припоминал и эти мрачные стены, и коридоры, и лестницы, которые ему довелось уже видеть, и те полузабытые ощущения, которые владели им тоща.
Они подошли к железной двери подземелья, где он некогда увидел того изнуренного, бессловесного узника. Габриэль, не колеблясь, круто остановился.
— Здесь, — выдохнул он.
Но г-н де Сазерак грустно покачал головой:
— Нет, еще не здесь.
— Как — не здесь? Вы что, смеетесь надо мной, милостивый государь?
— О, что вы! — с упреком тихо возразил комендант.
Холодный пот выступил у Габриэля на лбу.
— Простите! Но как вас понимать?
— Я должен вам сообщить прискорбную весть. Вчера вечером узника из этой камеры велено было перевести этажом ниже.
— А! Но почему! — растерялся Габриэль.
— Было обусловлено, что узник за любую попытку заговорить, за малейший крик, даже за произнесенное имя препровождается в другое, более низкое подземелье.
— Мне это известно, — еле слышно прошептал Габриэль.
Де Сазерак продолжал:
— Однажды он уже осмелился нарушить приказ, и тогда-то его и препроводили в эту страшную темницу, в которой вам довелось его видеть. Мне говорили, что вас когда-то осведомили о той пытке молчанием, на которую он осужден.
— Верно, верно, — нетерпеливо воскликнул Габриэль, — но что же дальше?
— А дальше вот что: вчера вечером незадолго до закрытия ворот шилось в Шатле одно влиятельное лицо, имени которого я не назову.
— Это неважно. Дальше… — торопил Габриэль.
— Человек этот, — продолжал комендант, — приказал, чтобы его провели в камеру номер двадцать один. Он обратился к заключенному, тот в ответ не проронил ни слова. Я надеялся, что старец сумеет выдержать испытание; в течение получаса, несмотря на все уловки и ухищрения этой особы, узник хранил молчание!..
Габриэль тяжело вздохнул, однако не прервал мрачного повествования.
— Но после одной фразы, последней фразы, которая была сказана ему на ухо, узник приподнялся на своем ложе, слезы брызнули из его выцветших глаз, и он заговорил… Должен вам сказать, узник заговорил, клянусь вам честью! Я сам его слышал!
— И тогда? — хрипло спросил Габриэль.
— И тогда, — отвечал г-н де Сазерак, — я должен был, несмотря на мои же возражения и просьбы, выполнить жестокую обязанность, предписанную мне службой! Я должен был повиноваться власти, превышающей мою власть. И вот я перевел заключенного в подземелье, которое находится под этим!
— В подземелье под этим? — вскричал Габриэль. — Скорей туда!.. Принесем ему освобождение!
Комендант грустно покачал головой, но Габриэль не заметил этого. Он уже спускался по скользким, заплесневелым ступеням каменной лестницы, которая вела в смертоносную клоаку мрачного узилища.
Тоща г-н де Сазерак жестом отпустил слугу, взял сам факел и, приложив платок ко рту, последовал за Габриэлем.
С каждой ступенькой удушливый воздух становился все тяжелее и тяжелее. В конце лестницы уже нечем было дышать. В этой губительной атмосфере могли выживать только омерзительные гады, попадавшиеся им под ноги. Но Габриэль ни на что не обращал внимания. Дрожащей рукой он взял заржавленный ключ, который ему протянул комендант, и, открыв тяжелую, источенную червями дверь, ринулся в подземелье.
При свете факела в углу, на соломенном тюфяке, виднелось распростертое тело.
Габриэль бросился к нему и, приподняв, крикнул:
— Отец!
Г-н де Сазерак содрогнулся от этого крика.
Но голова старца безжизненно откинулась, руки повисли, как плети.
XXXI
ГРАФ ДЕ МОНТГОМЕРИ
Габриэль, стоя на коленях, поднял голову и осмотрелся вокруг со зловещим спокойствием. Но спокойствие это показалось г-ну де Сазераку страшнее воплей и рыданий.
Затем, как бы спохватившись, Габриэль приложил руку к сердцу старца. Так ждал одну или две минуты, потом сдержанно и спокойно произнес:
— Ничего, ничего!.. Сердце уже не бьется, хотя тело еще не остыло…
— Какое могучее сложение! — прошептал комендант. — Он еще мог бы долго жить…
Габриэль наклонился над усопшим, прикрыл ему глаза и почтительно поцеловал в угасшие глаза.
Г-н де Сазерак попытался отвлечь его от страшного зрелища.
— Сударь, — сказал он, — если покойный вам дорог…
— Дорог? — перебил его Габриэль. — Да это же мой отец!..
— Если вам угодно воздать ему последний долг, мне разрешено выдать вам его тело.
— Неужели? — с таким же зловещим спокойствием усмехнулся Габриэль. — Значит, налицо полная справедливость и верность данному слову, этого нельзя не признать. Посудите сами, господин комендант, мне поклялись перед Богом возвратить моего отца… и возвратили — вот он! Правда, не было и речи, чтоб вернуть его живым… — И он пронзительно захохотал.
— Мужайтесь, — сказал г-н де Сазерак. — Проститесь с тем, кого вы оплакиваете.
— А я это и делаю, вы же видите!..
— Да, но все-таки лучше поскорее уйти отсюда. Воздух здесь вреден и опасен для жизни.
— И вот доказательство, — Габриэль указал на неподвижное тело.
— Пойдемте, пойдемте отсюда, — взял молодого человека за руку комендант.
— Хорошо, я последую за вами, — согласился Габриэль и жалобно добавил: — Но сжальтесь, подарите мне несколько минут!
Г-н де Сазерак молча кивнул, а сам отошел к двери, где воздух был не такой тяжелый и зловонный.
Габриэль опустился на колени перед покойником и замер, безмолвный и неподвижный.
Что говорил он своему усопшему отцу? Искал ли он страшную разгадку на этих сомкнутых устах? Клялся ли он в священной мести? Думал ли он о прошлом или о будущем? О людях или о Боге? О правосудии или о милосердии?
Так прошло пять-шесть минут.
Дышать становилось все труднее. И тоща комендант обратился к Габриэлю:
— Теперь уж я вас буду просить. Нам пора подняться наверх.
— Я готов, — отвечал Габриэль, — я готов…
Он взял холодную руку отца и поцеловал ее. Потом приложился губами ко лбу. Он не плакал. Слез не было.
— До свидания, — сказал он ему, — до свидания!
Он поднялся с колен и медленно, тяжело зашагал вслед за г-ном де Сазераком…
Войдя в кабинет, залитый утренним солнцем, комендант снова взглянул на своего молодого гостя и поразился: белые пряди засеребрились в его темных волосах.
Помолчав, г-н де Сазерак мягко сказал:
— Не могу ли я вам быть полезен? Я буду счастлив сделать все, что дозволено мне должностью.
— Вы мне обещали, что я могу отдать последние почести усопшему. Сегодня вечером я пришлю людей, и, если вы соблаговолите уложить останки в гроб, они унесут и похоронят узника в его семейном склепе.
— Понятно, сударь, — ответил де Сазерак. — Эта милость для вас мне разрешена, но только при одном условии.
— При каком? — холодно спросил Габриэль.
— Если вы дадите обещание не делать никакой огласки.
— Хорошо, обещаю вам, господин комендант. Люди придут ночью и без липших разговоров отнесут тело на улицу Садов святого Павла, к склепу графов де…
— Прошу прощения, — торопливо перебил его комендант,
— я не знаю имени заключенного, не хочу и не должен его знать. Моя должность и присяга запрещают говорить мне с вами об этом. Так что советую вам скрыть от меня такие подробности.
Габриэль гордо усмехнулся:
— Мне скрывать нечего. Скрывают только те, кто виновны.
— А вы принадлежите к несчастным, — возразил комендант. — Разве так будет не лучше?
— Во всяком случае, то о чем вы умолчали, я угадал и все могу вам рассказать. Например, я знаю, что некая влиятельная особа явилась сюда вечером и пожелала говорить с узником для того, чтобы заставить его разговориться! Я знаю, к каким соблазнам прибегали, чтобы он нарушил свое молчание. От этого молчания зависела вся его дальнейшая жизнь.
— Как! Вы это знали? — поразился де Сазерак.
— Конечно, знал, — ответил Габриэль. — Тот влиятельный человек сказал старцу: "Ваш сын жив!" Или: "Ваш сын покрыл себя славой!" Или: "Ваш сын несет вам освобождение!" Он сказал ему о сыне, презренный!
У коменданта вырвался жест удивления.
— И, услыхав имя своего сына, несчастный отец, который молчал из ненависти к своему смертельному врагу, не совладал с порывом любви! Так ли оно было, милостивый государь?
Комендант, не говоря ни слова, склонил голову.
— Было так, вы не можете отрицать! Вам совершенно бесполезно отрицать, что именно сказало влиятельное лицо бедному узнику! Ну, а что же до имени этого лица… хотя вы и пытались его замолчать… угодно ли вам, чтоб я его назвал?
— Что вы, что вы! — вскричал г-н де Сазерак. — Мы здесь одни, это так, но все-таки будьте осторожны! Неужели вы не страшитесь?
— Я ничего не страшусь! Итак, это был коннетабль, герцог де Монморанси! Палача всегда видно…
— О, помилуйте, — перебил его комендант, с ужасом озираясь по сторонам.
— Что касается имени узника и моего, — спокойно продолжал Габриэль, — так оно вам неизвестно. Но мне ничто не препятствует открыться. Вы были весьма благожелательны ко мне в эти суровые часы; если вы в будущем услышите мое имя, знайте: тот, о ком идет речь, считает себя обязанным вам.
Г-н де Сазерак ответил:
— И я буду счастлив узнать, что судьба не всегда так жестока к вам.
— О, это для меня теперь не столь важно. Но так или иначе, я объявляю вам, что с этой ночи, когда скончался мой отец, я
— граф де Монтгомери!
Комендант Шатле, застыв на месте, не проронил ни слова.
Габриэль продолжал:
— На том мы и расстанемся, милостивый государь. Примите мою благодарность. Да сохранит вас Господь!
Он поклонился и твердым шагом вышел из Шатле.
Свежий утренний воздух и солнечный свет ошеломили его. Он остановился на мгновение и даже пошатнулся. Но когда прохожие стали уже на него оглядываться, он собрался с силами и зашагал прочь от этого зловещего места.
Отыскав уединенное местечко на берегу Сены, он вынул свою записную книжку и написал кормилице следующее письмо:
"Моя добрая Алоиза!
Теперь решено: не жди меня, сегодня домой я не вернусь. Мне нужно некоторое время побыть одному, побродить, подумать, подождать. Но обо мне не беспокойся, я непременно вернусь к тебе. Нынче вечером сделай так, чтобы все в доме пораньше легли спать. Ты, однако, не спи. Вечером, коща опустеет улица, в ворота постучат четверо людей со скорбной и драгоценной ношей. Ты открой им, проводи их к нашему фамильному склепу и укажи открытую гробницу, в которую они захоронят того, кого принесли. Благоговейно проследи за выполнением обряда. Потом, коща все будет кончено, дай каждому по четыре золотых экю, выпусти их и вернись обратно, дабы преклонить колени и помолиться за своего усопшего господина.
Я тоже буду молиться, но только не здесь. Так нужно. Ибо чувствую, что созерцание этой гробницы привело бы меня к страшным и безрассудным поступкам. Мне нужно побыть одному.
До свидания, моя добрая Алоиза. Скажи Андре, чтоб он помнил о г-же де Кастро, и сама не забудь о моих друзьях из Кале. До встречи, да хранит тебя Бог!
Габриэль де М."
Написав письмо, Габриэль нанял четырех простолюдинов, дал каждому из них по четыре золотых экю в задаток и столько же обещал впоследствии. Но для этого они должны были отнести письмо по адресу, а вечером, после десяти часов, явиться в Шатле, получить от коменданта, г-на де Сазерака, гроб с телом и отнести его на улицу Садов святого Павла, в тот особняк, куда и было адресовано письмо.
Бедняки горячо поблагодарили Габриэля и поклялись в точности исполнить его поручения. Выслушав их, Габриэль печально усмехнулся: "И все это осчастливило четырех людей!"
Он решил покинуть Париж.
Дорога его проходила мимо Лувра. Закутавшись в плащ, скрестив на груди руки, он на мгновение остановился перед королевским дворцом.
— Теперь-то мы рассчитаемся! — еле слышно прошептал он и пошел дальше, вспоминая слова гороскопа, некогда составленного для графа Монтгомери магистром Нострадамусом и предсказывавшего ныне судьбу его сына:
Всерьез иль в игре он коснется копьем чела короля,
И алая кровь заструится ручьем с чела короля Ему Провидение право дает карать короля —
Полюбит его и его же убьет любовь короля!
Да, это странное предсказание, уготованное его отцу, осуществилось. Действительно, граф Монтгомери в юности, играя, ударил короля Франциска I тлеющей головешкой; потом, в зрелые годы, стал соперником короля Генриха II в любви, и, наконец, вчера был умерщвлен по приказу женщины, которую любил король.
Габриэля же, в свою очередь, любила Екатерина Медичи. Доведет ли его судьба до последнего предначертания? Представится ли ему случай, играя, поразить короля? И если месть свершится, Габриэлю будет совершенно безразлично, когда убьет его — раньше или позже — любовь короля!
XXXII
СТРАНСТВУЮЩИЙ РЫЦАРЬ
Алоиза, давно уж привыкшая к ожиданию и одиночеству, вновь провела немало томительных часов, поджидая у окна возвращения молодого хозяина.
Когда какой-то простолюдин постучал в ворота, Алоиза сама побежала открыть. Наконец-то известие!..
Известие было ужасное!
Первые же прочитанные строки как бы заволокли туманом ее глаза, и, чтобы скрыть свое волнение, она убежала к себе в комнату и там, заливаясь слезами, дочитала до конца страшное письмо.
Но у нее был твердый характер и мужественная душа. Она взяла себя в руки, вытерла слезы и вышла к посланцу:
— Хорошо. До вечера. Я буду ждать вас и ваших товарищей.
Едва наступил вечер, она отправила спать своих домашних.
— Сегодня хозяин не ночует дома, — сказала она, а, оставшись одна, подумала: "Да, хозяин возвращается, но не молодой, а старый! Кого же еще можно захоронить в семейном склепе, если не прах графа Монтгомери? О благородный мой повелитель, неужели вы унесете с собой в могилу свою тайну? Тайна! Тайна! Тайна! Повсюду тайны, повсюду страсти!.."
Скорбные размышления Алоизы закончились горячей молитвой. Было около одиннадцати часов. Улицы совсем опустели, когда в ворота глухо постучали.
Алоиза вздрогнула и побледнела, но, собрав все свое мужество, открыла ворота зловещим носильщикам. Глубоким и почтительным поклоном она встретила старого хозяина, возвращавшегося домой после такого долгого отсутствия. Потом сказала людям:
— Идите за мной. Я вам укажу дорогу.
И, освещая дорогу светильником, она повела их к склепу. Дойдя до места, носильщики опустили гроб в одну из открытых гробниц, накрыли ее плитою черного мрамора, сняли шапки, стали на колени и наскоро помолились за упокой души неизвестного раба Божьего.
Потом кормилица молча проводила их и вручила им деньги, обещанные Габриэлем. Словно безгласные тени, они растворились во мраке. Не было сказано ни слова.
А Алоиза снова вернулась к склепу и там, в слезах и молитвах, провела остаток ночи.
Поутру, когда к ней пришел Андре, она, бледная, но спокойная, сказала ему:
— Дитя мое, нам не придется ожидать господина виконта. Позаботьтесь об исполнении его поручений.
— Все ясно, — грустно ответил паж. — Я сегодня же отправлюсь обратно к госпоже де Кастро.
— От имени отсутствующего нашего господина благодарю вас, Андре, за усердие, — молвила Алоиза.
Он уехал и после долгих расспросов встретился с г-жой де Кастро в Амьене.
Диана де Кастро только что прибыла в этот город в сопровождении свиты, которую предоставил ей герцог де Гиз, и пожелала немного отдохнуть с дороги в доме г-на Тюре, губернатора края.
Увидев пажа, Диана изменилась в лице, но овладела собой и жестом позвала его в соседнюю комнату.
— Ну что? — спросила она, когда они остались вдвоем. — Что вы принесли мне, Андре?
— Только вот это, — подал ей паж свернутую косынку.
— О, это не перстень! — воскликнула Диана.
Наконец, придя в себя от неожиданной вести, она принялась расспрашивать Андре с пытливостью несчастных, которые жаждут испить до дна чашу своего горя:
— Господин д’Эксмес не вручил вам никакого письма для меня?
— Нет, сударыня.
— Но что вы можете мне передать на словах?
— Увы, — молвил паж, склонив голову, — господин д’Экс-мес сказал только то, что возвращает вам ваши обеты, даже тот, залогом которого была эта косынка. А больше он ничего не добавил.
— Но при каких обстоятельствах он направил вас ко мне? Вы передали ему мое письмо? Что он сказал, прочитав его? Говорите, Андре! Вы честны и преданны! От ваших слов зависит счастье моей жизни. Даже малейший ваш намек может натолкнуть меня на нужную дорогу.
— Сударыня, — отвечал Андре, — я мог бы рассказать вам все, что знаю, но знаю-то я совсем немного.
— Говорите, все равно говорите!
И Андре заговорил. Он рассказал ей о тех приказаниях, которые Габриэль дал ему, Андре, и Алоизе на случай своего отсутствия, о тех сомнениях и тревогах, которые одолевали молодого человека. Рассказал он и том, как, прочитав письмо Дианы, Габриэль собрался было что-то сказать, но потом раздумал и ограничился несколькими фразами. Словом, Андре, как и обещал, передал ей все, что знал. Но поскольку он плохо разбирался в сути дела, рассказ его еще больше растревожил Диану.
С грустью смотрела она на эту черную косынку, словно ожидая от нее ответа. А в голове билась беспокойная мысль: "Одно из двух — либо Габриэль узнал, что он в действительности мой брат, либо потерял последнюю надежду разгадать эту дьявольскую тайну… Но тоща почему он не избавил меня от жестоких недоумений?"
Диана растерялась. Как ей поступить? Навеки укрыться в стенах какого-нибудь монастыря? Или вернуться ко двору, отыскать Габриэля, узнать у него всю правду и остаться при короле, дабы предохранить его от возможных опасностей?
Король? Ее отец? Но отец ли он ей? А вдруг она — недостойная дочь, спасающая короля от заслуженной мести? Какие страшные противоречия!
Но Диана была женщина, и женщина мягкая и великодушная. Она сказала себе: что бы ни случилось, тот, кто мстит, жалеет о совершенном, тот, кто прощает, никогда не жалеет об этом! И она решила вернуться в Париж, остаться при короле и любыми путями разузнать о деяниях и намерениях Габриэля. Кто знает, может быть, и самому Габриэлю понадобится ее заступничество! Если же ей удастся примирить их обоих, тоща совесть у нее будет спокойна и она сможет посвятить себя Богу.
Приняв такое решение, Диана отбросила прочь всякие колебания, двинулась в путь и через три дня появилась в Лувре, где ее встретил с распростертыми объятиями растроганный король.
Однако эти изъявления отцовских чувств она приняла крайне сдержанно. Сам же король, которому хорошо было известно расположение Дианы де Кастро к Габриэлю, тоже испытывал какую-то тревожную растерянность. Присутствие дочери невольно напоминало ему то, о чем вспоминать не хотелось. Быть может, поэтому он и не заикнулся о предполагавшемся ее браке с сыном Монморанси: в этом смысле г-жа де Кастро могла быть совершенно спокойна. Впрочем, ей и без того хватало забот. Ни в особняке Монтгомери, ни в Лувре, ни в других местах ничего достоверного о виконте д’Эксмесе ей не сказали.
Молодой человек исчез.
Проходили дни, недели, целые месяцы. Напрасно Диана прямо или исподволь выспрашивала о Габриэле — никто ничего определенного о нем не знал. Некоторые уверяли, будто видели его, но заговорить с ним не решились — вид его был столь мрачен, что все от него шарахались. Более того, все эти неожиданные встречи происходили почему-то в самых различных местах: одни встречали его в Сен-Жерменском предместье, другие — в Фонтенбло, третьи — в Венсенском лесу, а некоторые — даже в Париже…
Откуда могли взяться такие разноречивые сведения?
И, однако, в этом была доля истины.
Габриэль, пытаясь избавиться от страшных воспоминаний и еще более страшных мыслей, не мог усидеть на одном месте. Нестерпимая жажда действия бросала его по всему краю. Пешком или на коне, бледный и мрачный, похожий на античного Ореста, гонимого фуриями, он блуждал как неприкаянный по городам, деревням, полям, заходя в дома только на ночлег.
Однажды, коща война на севере уже утихла, он заглянул к одному своему знакомому, к мэтру Амбруазу Парэ, недавно вернувшемуся в Париж. Обрадованный Амбруаз Парэ встретил его как героя и задушевного друга.
Габриэль, словно изгнанник, возвратившийся из далеких странствий, принялся расспрашивать хирурга обо всех давным-давно известных новостях.
Так он узнал, например, что Мартин Герр выздоровел и теперь находится, видимо, на пути в Париж, что герцог де Гиз и его армия стоят лагерем под Тионвилем, что маршал де Терм отбыл в Дюнкерк, а Гаспар де Таван овладел Гином, и что у англичан не осталось ни одной пяди французской земли, как в том и поклялся Франциск Лотарингский…
Габриэль слушал внимательно, но новости эти не взволновали его.
— Благодарю вас, мэтр, — сказал он Амбруазу Парэ. — Мне приятно было узнать, что взятие Кале пошло на пользу Франции. Однако не только ради интереса к этим новостям явился я к вам, мэтр. Должен признаться: меня взбудоражил наш разговор в прошлом году, в маленьком домике на улице Сен-Жана. Теперь мне хотелось бы побеседовать с вами о вопросах религии, которые вы постигли в совершенстве… Вы, вероятно, перешли уже на сторону Реформации?
— Да, виконт, — не колеблясь, ответил Амбруаз Пара. — Кальвин благосклонно ответил мне на мое письмо и рассеял последние мои сомнения, последние колебания. Ныне я один из самых ревностных среди посвященных.
— Тогда не угодно ли вам приобщить к вашему свету нового добровольца? Я говорю о себе. Не угодно ли вам укрепить мою зыбкую веру, подобно тому, как вы укрепляете истерзанное тело?
— Мой долг — облегчить не только физические страдания человека, но и страдания его души. Я готов вам служить, господин д’Эксмес.
Больше двух часов длилась их беседа, во время которой Амбруаз Пара был пылок и красноречив, а Габриэль — спокоен, печален и внимателен.
Потом Габриэль встал и, протягивая руку хирургу, сказал:
— Благодарю, наш разговор пойдет мне на пользу. Время, к сожалению, не такое, чтоб я мог открыто присоединиться к вам. Мне нужно подождать… Но благодаря вам, мэтр, я понял, что вы идете по верному пути, и отныне считайте, что я если не делом, то сердцем уже с вами. Прощайте, мэтр Амбруаз… Мы еще свидимся…
Габриэль молча распрощался с хирургом и ушел.
Через месяц, в самом начале мая 1558 года, впервые после своего таинственного исчезновения он появился в особняке на улице Садов святого Павла.
Там было немало перемен. Две недели назад вернулся Мартин Герр, а Жан Пекуа с Бабеттой жили там уже третий месяц. Но судьба, очевидно, не пожелала довести испытание преданности Жана до конца, и за несколько дней до возвращения Габриэля Бабетта разрешилась мертвым ребенком.
Бедная мать сильно убивалась, но в конце концов нежные утешения мужа и материнская забота Алоизы несколько смягчили ее горе.
Итак, однажды они сидели вчетвером за дружеской беседой, как вдруг дверь отворилась, и в комнату медленно и спокойно вошел хозяин дома, виконт д’Эксмес.
Они с радостными возгласами вскочили со своих мест и бросились к Габриэлю. Когда первые восторги утихли, Алоиза засыпала вопросами того, кого вслух называла "господин", а в сердце своем — "дитя мое". Где это он так долго пропадал? Что намерен делать сейчас? Останется ли наконец среди тех, кому так дорог? Но Габриэль грустно взглянул на нее и приложил палец к губам: значит, он не желает распространяться ни о прошлом, ни о будущем.
И чтобы избавиться от настойчивых расспросов, он сам стал расспрашивать Бабетту и Жана Пекуа: не нуждаются ли они в чем-нибудь, имеют ли они сведения о Пьере, оставшемся в Кале… Он посочувствовал горю Бабетты и постарался ее утешить, насколько можно утешить мать, потерявшую свое дитя.
Почти целый месяц провел Габриэль среди друзей и домочадцев, но, хотя был он добр и любезен, по всему было видно, что пребывает он в мрачной меланхолии.
Мартин Герр не спускал глаз со своего вернувшегося хозяина. Габриэль и с ним поговорил, но, к сожалению, ничем не напомнил о давнем обещании покарать преступника, некогда прикидывавшегося его оруженосцем. Мартин же настолько уважал Габриэля, что не смел первым заговорить об этом с виконтом.
Но вечером, уже собираясь уходить, Габриэль сам обратился к Мартину Герру:
— Мартин, я не забыл о тебе. Я все время искал, допытывался и, кажется, нашел следы той правды, что тебя волнует.
— О, господин виконт! — радостно пробормотал смутившийся оруженосец.
— Да, Мартин, — продолжал Габриэль, — я собрал нужные сведения и чувствую, что иду по верному пути. Но мне нужна твоя помощь, друг мой. На той неделе поезжай к себе на родину, но по дороге остановись в Лионе. Через месяц я с тобой там встречусь, и мы согласуем дальнейшие наши действия.
— Слушаюсь, господин виконт, — отвечал Мартин Герр. — Но неужели до той поры мы не увидимся?
— Нет, сейчас мне нужно побыть одному, — непререкаемым тоном возразил Габриэль. — Я снова вас покину, и не надо меня удерживать, это меня только огорчит. Прощайте, друзья мои! Помни, Мартин, через месяц мы встречаемся в Лионе.
— Я буду вас там ждать, господин виконт.
Габриэль тепло распрощался с Жаном Пекуа и его женой, крепко пожал руки Алоизе и, словно не замечая скорби своей старой кормилицы, ушел в ночь… И снова — беспокойные метания, снова — бродячая жизнь, на которую, казалось, он был обречен…
XXXIII
НОВАЯ ВСТРЕЧА С АРНО ДЮ ТИЛЕМ
Минуло еще шесть недель, и вот мы уже у порога красивого домика в деревушке Артиг, что неподалеку от Риэ.
15 июля 1558 года…
На гладко выструганной деревянной скамейке сидел какой-то человек, проделавший, судя по его запыленной одежде, немалый путь. Он, развалясь, протягивал ноги, обутые в грязные башмаки, женщине, стоявшей перед ним на коленях и, видимо, собиравшейся их расшнуровать.
Человек недовольно хмурил брови, женщина улыбалась.
— Долго я буду ждать, Бертранда? — грубо спросил он. — Ты выводишь меня из терпения! До чего же ты неуклюжа!
— Вот и готово, Мартин, — кротко промолвила женщина.
— Что готово? Эх! — заворчал мужчина. — А где домашние туфли? Ну! Разве ты вовремя догадаешься их принести, дубина ты стоеросовая!.. А я сиди босой и жди!
Бертранда метнулась в дом и через секунду вернулась с туфлями.
Вы, конечно же узнали, кто перед вами. Да, да, это был все тот же хам и грубиян Арно дю Тиль, укрывшийся под именем Мартина Герра, и ныне укрощенная и удивительно смиренная Бертранда де Ролль.
— А где мой стакан меда? — пробурчал Арно.
— Все готово — робко сказала Бертранда, — я сейчас принесу…
— Опять дожидаться! — нетерпеливо топнул он ногой. — Поторапливайся, а не то… — И он выразительным жестом завершил свою недосказанную мысль.
Бертранда исчезла и вернулась с молниеносной быстротой. Мартин взял из ее рук стакан меда и с явным удовольствием залпом выпил его.
— Здорово! — причмокнул он языком, как бы удостаивая благодарности жену.
— Бедный мой дружок, тебе жарко! — Бертранда осмелилась отереть платком лоб своего сурового муженька. — Надень шляпу, а то простудишься. Ты, наверно, устал?
Он ответил ей тем же ворчанием:
— И надо было мне считаться с какими-то дурацкими обычаями и гонять по всей округе, чтоб созвать на обед целую стаю голодных родичей! Как же, годовщина свадьбы!.. Клянусь, я начисто забыл про этот нелепый обычай, и вот только вчера ты мне напомнила… Ну ничего, обошел теперь всех… Через два часа вся родня с ненасытными челюстями будет здесь…
— Спасибо, Мартин. Ты верно говоришь: обычай действительно нелепый, но ему нужно покоряться, если не хочешь прослыть гордецом и невежей.
— Тоже мне философ! — с издевкой отозвался лже-Мартин Герр. — А ты, бездельница, хоть что-нибудь сделала по своей части? Стол накрыт?
— Да, Мартин, как ты и приказал.
— А судью пригласила?
— Пригласила, Мартин, и он сказал, что постарается заглянуть к нам.
— "Постарается"! — яростно завопил лже-Мартин. — Это не то! Надо, чтоб непременно был! Плохо ты, значит, его приглашала! Этого судью мне нужно приручить. Его приход хоть как-то окупит всю эту глупую сумятицу с бестолковой годовщиной!..
— "Бестолковая годовщина"! — слезливо повторила Бертранда. — И это о нашей свадьбе! Ах, Мартин, ты теперь стал образованный, много ездил, много видел и можешь презирать обычаи нашего края… но все-таки… Эта годовщина мне напоминает то время, когда ты был не так суров к своей бедной женушке…
Мартин разразился язвительным хохотом:
— Да, да, но тоща и женушка была не так нежна к своему муженьку!.. Помнится, иной раз она даже позволяла себе…
— О Мартин! — воскликнула Бертранда. — Не заставляй меня краснеть…
— А я, когда вспоминаю, что был ослом, который мог терпеть… Да ладно уж… довольно об этом… Характер мой с тех пор изменился, да и твой тоже… Ну, а теперь все идет ладно, и у нас получилась недурная семья.
— Вот именно, — подтвердила Бертранда.
— Бертранда!
— Что, Мартин?
— Ты сейчас же отправишься снова к судье, еще раз пригласишь к нам и непременно заручишься его согласием. И знай: если он не явится, то быть тебе битой!
— Все сделаю, Мартин, — уверила его Бертранда и мгновенно исчезла.
Арно дю Тиль одобрительно посмотрел ей вслед, потом блаженно потянулся, удовлетворенно вздохнул и самодовольно прищурил глаза, как человек, который ничего не боится и ничего не желает.
Он даже и не заметил, что по дороге, безлюдной в этот знойный час, бредет, тяжело опирясь на костыль, какой-то путник.
Завидев Арно, он остановился:
— Извините, приятель, нет ли в вашем селении таверны, где можно было бы отдохнуть и пообедать?
— Таковой у нас не имеется, — вяло отозвался Арно. — Вам придется идти в Риэ, два лье отсюда. Там есть постоялый двор.
— Еще два лье! — ахнул незнакомец. — Я и без того валюсь с ног и охотно бы дал пистоль за хорошую постель и добрый обед.
— Пистоль? — пошевелился Арно дю Тиль (его отношение к деньгам ничуть не изменилось). — Ну что ж, если уж вам так хочется, то можно будет постелить в уголке, а что до обеда, так у нас сегодня справляют годовщину свадьбы и лишний сотрапезник не помешает. Подойдет?
— Конечно, ведь я же сказал, что валюсь с ног от голода и усталости.
— Тоща решено: оставайтесь за один пистоль.
— Получите вперед!
Арно дю Тиль привстал, чтоб взять деньги, и приподнял шляпу, закрывавшую его лицо.
Увидев его, странник изумленно попятился:
— Племянничек! Арно дю Тиль!
Арно взглянул на него и побледнел, но тут же пришел в себя:
— Ваш племянничек? Я вас не узнаю. Кто вы такой?
— Ты не узнаешь меня, Арно? Ты не узнаешь своего старого дядюшку по матери, Карбона Барро, которому ты, так же как и всей семье, причинил столько хлопот?
— Да нет, клянусь! — нагло рассмеялся Арно.
— Как так! Да разве ты не уморил свою матушку, мою бедную сестру, которую лет десять назад бросил в Сожьясе?! Ах, так, значит, ты меня не узнаешь, негодяй! Но я-то тебя тут же признал!
— Не понимаю, сударь, что вы хотите этим сказать? — ничуть не смущаясь, отвечал наглец. — Я никакой не Арно, я Мартин Герр, я не из Сожьяса, а из Артига. Здешние старожилы знают, что я здесь родился, и если вам охота выставить себя на посмешище, так повторите свои бредни перед моей женой Бертрандой де Ролль и пред моими родными.
— Жена! Родные! — повторил ошеломленный Карбон Барро. — Позвольте… Неужели я ошибся?.. Нет, невозможно… Такое сходство…
— За десять лет трудно поручиться, — перебил Арно. — Но, может, вам и зрение изменяет? Мою родню вы сможете увидать и услыхать здесь, они вот-вот подойдут.
— Ну что ж, пусть так! — Карбон Барро стал понимать, что он ошибся. — Бывает… но могу сказать от имени всей семьи, что племянничек-то наш был величайшим прохвостом! И, по моему расчету, даже трудно предположить, чтоб он был жив. Думается мне, что его давным-давно повесили!
— Вы так думаете? — не без горечи спросил Арно дю Тиль.
— Я в этом уверен, дорогой Мартин Герр! — убежденно заявил Карбон Барро. — Но вам все это ни к чему, поскольку речь идет вовсе не о вас.
— Совершенно ни к чему, — подтвердил Арно с некоторым недовольством.
— Ах, сколько раз, — продолжал разговорчивый дядюшка, — сколько раз, глядя на слезы его бедной матери, я поздравлял себя с тем, что остался холостяком и не наплодил кучу детишек!
"Ладно! У дядюшки Карбона нет детей, значит, нет и наследников!" — поразмыслив, заключил Арно.
— О чем вы задумались, мэтр Мартин? — спросил дядюшка.
— Вот думаю, — мягко отзвался Арно, — что, несмотря на все эти утверждения, вы, почтенный Карбон Барро, все-таки были бы не прочь иметь сынка или, на худой конец, хоть вот такого неважного племянника… Все же родственник… вы бы могли ему завещать свое состояние…
— Мое состояние? — переспросил Карбон.
— Ну конечно! Вы, наверное, не слишком-то бедны, ежели так легко бросаетесь пистолями! А этот Арно был бы вашим, как я полагаю, наследником. Черт возьми! Вот потому-то я и жалею, что не могу хоть на время превратиться в Арно!
— Арно дю Тил действительно был бы моим наследником, — согласно кивнул головой Карбон Барро. — Но не велика радость от моего наследства, ибо я совсем не богат… Правда, сейчас я могу заплатить пистоль, потому что очень устал и проголодался. Но тем не менее мой кошелек не слишком туго набит…
— Хм!.. — недоверчиво хмыкнул Арно дю Тиль.
— Вы мне не верите, мэтр Мартин Герр? Как вам угодно… Впрочем, проверить нетрудно: я направляюсь в Лион, где председатель судебной палаты, у которого я двадцать лет служил судебным приставом, предлагает мне приют и кусок хлеба до конца моих дней. Он-то мне и прислал двадцать пять пистолей на уплату долгов и на дорогу. Словом, мое наследство не таково, чтобы соблазнить Арно дю Тиля… если он здравствует и поныне. Вот почему…
— Хватит болтать! — грубо оборвал его раздосадованный Арно дю Тиль. — Мне только и дела, что выслушивать ваши побасенки! Давайте мне ваш пистоль и заходите в дом, если хочется. Потом пообедаете, отоспитесь, и мы будем квиты. И незачем так долго и много разглагольствовать.
— Но вы же сами меня расспрашивали!
— Ладно… Вот уж и гости собираются… Я вас покидаю, надо их встретить… А вы не стесняйтесь, заходите сами. Провожать я вас не буду…
— Сам вижу, — буркнул Карбон Барро и вошел в дом, поругивая про себя хозяина за столь неожиданные перемены в его настроении.
Три часа спустя все сидели за столом под тенистыми деревьями. Артигский судья, которого так усердно зазывали на обед, восседал на почетном месте. Добрые вина чередовались с затейливыми тостами. Молодежь говорила о будущем, старики — о минувшем. Дядюшка Карбон Барро имел полную возможность убедиться, что хозяина и в самом деле называли Мартином Герром и что среди обитателей Артига он свой человек.
— Помнишь, Мартин Герр, — говорил один, — августинского монаха, брата Хризостома, того, что нас обоих учил читать?
— Ну как же, как же! — отвечал Арно.
— А помнишь, братец Мартин, — подхватил другой, — как на твоей свадьбе впервые у нас в краю дали салют из мушкетов?
— Как же, припоминаю…
И, дабы оживить приятные воспоминания, он крепко обнимал жену, горделиво восседавшую рядом с ним.
— Если у вас такая прекрасная память, — раздался вдруг позади него повелительный голос, — если вы помните все подробности, то, может быть, вы припомните и меня?
XXXIV
ПРАВОСУДИЕ ПОПАЛО ВПРОСАК
Тот, кто произнес эти слова, сбросил с себя коричневый плащ и широкополую шляпу, затенявшую его лицо, и подгулявшие гости увидели перед собой богато одетого молодого человека с гордой осанкой. Неподалеку от него стоял слуга и держал под уздцы двух лошадей.
Все почтительно встали, удивленные и заинтересованные.
Один лишь Арно дю Тиль вдруг побледнел, как мертвец.
— Виконт д’Эксмес! — растерянно прошептал он.
— Так как же? — громовым голосом обратился к нему Габриэль. — Узнаете ли вы меня?
Арно прикинул в уме свои шансы на выигрыш и после мгновенного колебания решился.
— Конечно, — ответил он, пытаясь придать своему голосу необходимую твердость, — конечно, узнаю… Вы — виконт д’Эксмес, которого я не раз видел в Лувре и в те времена, коща был в услужении у господина де Монморанси… Но я никак не полагал, что вы запомните меня, скромного и незаметного слугу господина коннетабля.
— Вы забываете, что служили одновременно и у меня!
На лице у Арно отразилось глубочайшее изумление:
— Кто? Я? Простите, но вы, господин виконт, глубоко ошибаетесь!
— Я настолько не боюсь ошибиться, — спокойно возразил Габриэль, — что предлагаю артигскому судье, который присутствует здесь, немедленно вас арестовать и заключить в тюрьму! Теперь ясно?
За столом воцарилась настороженная тишина. Удивленный судья подошел к Габриэлю. Один Арно сохранял завидное самообладание.
— Хотел бы я знать, в каком преступлении меня обвиняют, — обратился он к виконту.
— Я вас обвиняю, — громко заявил Габриэль, — в том, что вы нагло подменили моего оруженосца Мартина Герра и предательски завладели его именем, имуществом и женой, использовав при этом ваше поразительное сходство.
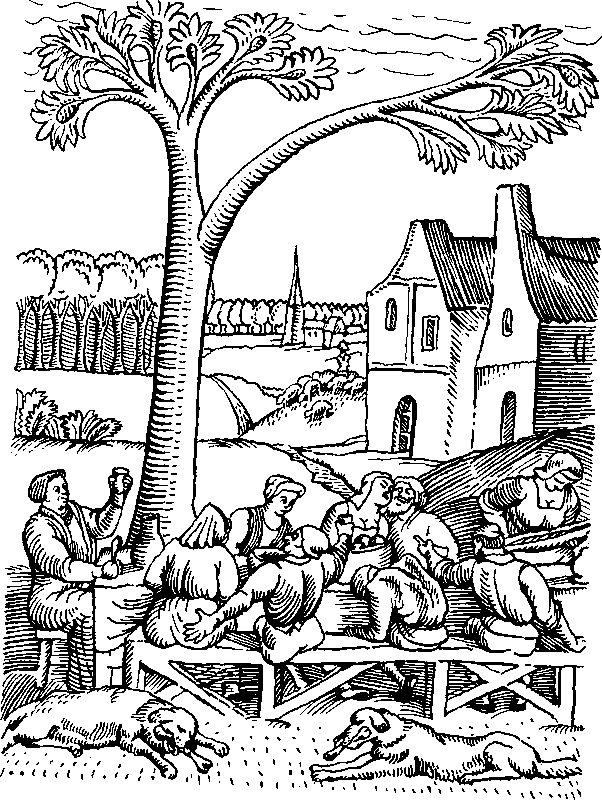
Услыхав такую четкую формулировку, пораженные гости со страхом переглянулись.
— Что бы это значило? — бормотали, крестясь, они. — Мартин Герр больше не Мартин Герр? Что за дьявольщина? Уж не колдовство ли здесь?
Арно дю Тиль понял, что нужно немедленно ответить ударом на удар и тем самым перетянуть на свою сторону усомнившихся. И он тут же обратился к той, которую называл своей женой:
— Бертранда! Скажи сама наконец: муж я тебе или нет?
Испуганная, задыхающаяся Бертранда не проронила ни звука. Она только широко раскрыла глаза и переводила взгляд то на Габриэля, то на своего мнимого супруга. Но коща Арно дю Тиль сделал угрожающий жест, все ее колебания мгновенно кончились, и, оросившись в его объятия, она вскрикнула:
— Дорогой мой Мартин Герр!
Эти слова вывели из оцепенения гостей, и до виконта донесся ропот негодования.
— Теперь, сударь, — заявил, торжествуя, Арно дю Тиль, — при наличии свидетельства моей жены, а также и всех моих родичей и друзей вы все еще настаиваете на своем нелепом обвинении?
— Настаиваю.
— Минутку! — вмешался в разговор дядюшка Карбон. — ясно, что на свете существует другой человек, похожий точь-в-точь на вот этого, и я утверждаю, что один из них непременно мой племянничек Арно дю Тиль!
— Вот уж поистине помощь свыше, и как раз вовремя! — заметил Габриэль и обратился к старику: — Так вы действительно признаете в этом человеке своего племянника?
— Точно не скажу, — отвечал старик, — но могу поклясться наперед, что, ежели тут кроется какой-нибудь обман, так, значит, в нем замешан мой племянник!
— Вы слышите, господин судья? — обратился Габриэль к представителю власти. — Кто бы ни был виновен, но преступление налицо.
— А где же тот, кто хочет уличить меня в обмане? — усмехнулся Арно. — Почему не дают мне очную ставку? Прячется он, что ли? Пусть покажется, и тоща нас рассудят!
— Мартин Герр, мой оруженосец, — сказал Габриэль, — по моему приказу пребывает в Риэ под стражей; господин судья, я граф де Монтгомери, бывший гвардии его величества капитан. Обвиняемый сам меня опознал. Я, как обвинитель, настаиваю на том, чтобы он был арестован и заключен в тюрьму. Когда они оба будут в руках правосудия, мы без труда установим, на чьей стороне истина.
— Вы совершенно правы, ваше сиятельство, — согласился с Габриэлем судья. — Отведите Мартина Герра в тюрьму.
— Раз такое дело, я бы и сам туда пошел, — проговорил Арно, — слава Богу, я ни в чем не виновен… А ваши верные показания, мои добрые и честные друзья, — обратился он к гостям, желая перетянуть их на свою сторону, — сослужат мне хорошую службу в такой крайности. Ведь вы все помните меня и знаете, разве не так?
— Так, так, Мартин, можешь быть покоен! — зашумели гости, растроганные его словами.
Бертранда же упала в обморок.
Через неделю в трибунале города Риэ начался судебный процесс.
Дело было поистине трудное и необычное для судопроизводства! Оно могло быть интересным и для нашего времени, поскольку за прошедшие триста лет ничего подобного еще не случалось.
Если бы не вмешался Габриэль де Монтгомери, то, по всей вероятности, превосходные судьи из Риэ никогда бы не выпутались из этого дела.
Габриэль прежде всего настоял, чтобы обоим подследственным не устраивали очной ставки до особого распоряжения. Допросы и показания снимали с них порознь: Мартин Герр и Арно дю Тиль находились в строгой изоляции.
Мартина Герра, закутанного в широкий плащ, представили Бертранде, дядюшке Карбону Барро и всем соседям и родичам.
Все его опознали. Это был он, его осанка, его лицо. Ошибиться было невозможно. Но Арно дю Тиля также все опознали. Все кричали, все волновались и никак не могли установить истину.
Да и как можно найти какое-то различие между такими удивительными двойниками, как Арно дю Тиль и Мартин Герр?
— Тут сам черт себе ногу сломит! — ворчал растерявшийся Карбон Барро.
По виду различить их было просто невозможно. Оставалось единственное средство: подметить разницу в их поступках и особенно в их склонностях.
Вспоминая о своей юности, Арно и Мартин говорили об одних и тех же случаях, помнили те же самые числа, называли те же имена с поразительной точностью.
В подтверждение своих слов Арно предъявлял письма Бертранды, семейные документы, а также и свое обручальное кольцо; в ответ на это Мартин доказывал, что тот, повесив его в Нуайоне, имел возможность похитить у него и обручальное кольцо, и все бумаги.
Таким образом, судьи пребывали все в том же замешательстве, все в той же неуверенности. Показания и улики одной стороны были так же четки и убедительны, как и другой, высказывания взаимообвинителей казались совершенно искренними. Нужны были какие-то особые, необычные улики, способные разрешить с полной очевидностью такой трудный спор.
Габриэль их нашел и пустил в ход.
По его распоряжению председатель суда задал Арно и Мартину один и тот же вопрос:
— Где вы жили в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет?
Каждый из двух ответил совершенно одинаково:
— В Сен-Себастьяне, в Бискайе, у моего кузена Санси.
Санси был тут же и подтвердил, что так оно и было.
Тоща Габриэль подошел к нему и что-то сказал ему на ухо.
Санси рассмеялся и обратился к Арно на бискайском наречии. Арно побледнел и не сумел ответить.
— Как же так? — спросил Габриэль. — Вы четыре года прожили в Сен-Себастьяне и не знаете местного наречия?
— Я его позабыл, — пробормотал Арно.
Мартин Герр, подвергнутый такому же испытанию, болтал по-бискайски добрые пятнадцать минут, к великой радости кузена Санси, к вящему убеждению суда, а также и всех присутствующих.
Таково было первое доказательство, пролившее первый луч света на истину, а за ним последовало и другое, которое оказалось тем не менее достаточно убедительным.
Сверстники Мартина Герра по Артигу с восхищением и не без зависти вспоминали, как ловко он играл в мяч. Однако после возвращения он постоянно отказывался от игры, ссылаясь на рану в правой руке, тоща как настоящий Мартин Герр с радостью согласился сыграть и тут же, в присутствии судей, обыграл лучших игроков. Но играл он, между прочим, закутавшись в плащ; его подручный только подносил ему мячи, которые он забивал с изумительной легкостью.
С этого момента общественное мнение перешло на сторону Мартина и оказалось, как ни странно, на стороне истины.
Наконец, последний факт окончательно уронил Арно дю Тиля в глазах судей.
Арно и Мартин были одинакового роста. Но Габриэль в поисках мельчайших улик заметил, что ноги, вернее, одна-единственная нога у его оруженосца гораздо меньше, чем у Арно дю Тиля.
Старый артигский башмачник предстал перед судом и предъявил ему новые и старые мерки Мартина.
— Да, — сказал он, — в прежние времена обувь Мартина Герра была меньшего размера, и я несказанно удивился, узнав по возвращении, что теперь он носит обувь другого размера — на целых три номера больше, чем раньше!..
Мартин же с гордостью протянул ему уцелевшую ногу, и сапожник, сняв мерку, тут же признал, что она ничуть не увеличилась в размерах, несмотря на долгие странствия.
Теперь уже никто не сомневался в невиновности Мартина Герра; все считали преступником Арно дю Тиля.
Но Габриэлю мало было этих формальных улик, он хотел нравственных доказательств.
Он отыскал того самого крестьянина, которого Арно дю Тиль отправил будто бы из Нуайона в Париж с престранным поручением: распустить слух о гибели Мартина Герра. Крестьянин подробно рассказал, как в особняке на улице Садов святого Павла встретил того, кого уже видел на дороге в Лион.
После выступления этого свидетеля снова обратились к Бертранде де Ролль. Бедняжка Бертранда, несмотря ни на что, показывала в интересах того, кто внушал ей страх. Ей задали вопрос: заметила ли она какие-либо перемены в характере ее мужа после его возвращения?
— Конечно, он очень изменился, — ответила она и тут же добавила: — К лучшему, господа судьи.
Когда же ей предложили пояснить свои слова, Бертранда совсем разоткровенничалась:
— Раньше Мартин был слабенький, тихий, как барашек, и иногда мне было даже стыдно за него. А как вернулся, сразу стало видно: мужчина, хозяин! Он в два счета доказал мне, что прежде я вела себя не так и что женское дело — слушаться слова и палки. Теперь говорит, а я его слушаю. Одним словом, когда он приехал из своих странствий, мы поменялись ролями, и все стало на свое место.
Другие жители Артига тоже подтвердили, что прежде Мартин Герр был добродушен, благочестив и безобиден, а нынче стал дерзок, насмешлив и задирист. Как и Бертранда, они объяснили такую перемену долгими странствиями.
Граф Габриэль де Монтгомери начал свою речь при почтительном молчании судей и всех присутствующих.
Он рассказал, при каких непостижимых обстоятельствах у него служили два Мартина, как он не в силах был понять неожиданные перемены в поведении своего оруженосца, как он наконец напал на верный след…
Рассказал он о горестном недоумении Мартина, и о предательстве Арно дю Тиля, о порядочности одного и о подлости другого, пролил свет на всю эту запутанную и темную историю и закончил тем, что потребовал кары виновному и полного восстановления в правах неповинного.
В те времена правосудие было не столь предупредительно и благосклонно к обвиняемым, как в наши дни. Арно дю Тиль не знал всей совокупности обвинений, выдвинутых против него. Его беспокоили лишь две улики: бискайское наречие и игра в мяч, но в то же время ему думалось, что данные им разъяснения вполне убедительны. В показаниях же башмачника толком он не разобрался, да, кстати, и не знал, что ответил на те же вопросы Мартин Герр.
Габриэль из чувства справедливости и великодушия предложил, чтобы Арно дю Тиль присутствовал при заключительном заседании суда и мог лично отвечать суду на предложенные им вопросы. Поэтому Арно слышал всю обвинительную речь Габриэля.
Когда виконт д’Эксмес кончил, Арно дю Тиль, не терявший присутствия духа, подошел к судьям и попросил слова. Суд хотел было отклонить эту просьбу, но Габриэль воспротивился, и Арно предоставили слово.
Говорил он превосходно. Изворотливый, смышленый наглец имел врожденный дар красноречия. И снова попытался запутать все нити следствия и заронить в головы судей спасительную для него неразбериху.
Не пускаясь в объяснения всех происшедших недоразумений, он принялся четко и последовательно излагать все события своей жизни с раннего детства до нынешнего дня. Он обращался к друзьям и родичам, вспоминая массу подробностей, о которых те давным-давно забыли. И, слушая его, они то заливались хохотом, то умиленно вздыхали.
Он намекал, что при желании его сопернику нетрудно было подучить бискайское наречие и набить руку в игре в мяч. Он спрашивал у графа де Монтгомери, где доказательство того, что он будто бы похитил у оруженосца бумаги. Ну, а что касается крестьянина-свидетеля — кто может поручиться, что он не кум лже-Мартина? Если, наконец, говорить об исчезнувших выкупных деньгах, то непременно надо учесть, что он, Мартин Герр, прибыл в Артиг с суммой, значительно превышавшей размер выкупа, а происхождение этой суммы объяснялось грамотой от весьма высокопоставленного и могущественного вельможи, коннетабля де Монморанси.
Арно дю Тиль в заключительной части своей речи с такой ловкостью ввернул имя славного коннетабля, что оно совершенно ослепило судей.
Он настоятельно просил, чтобы о нем справились у этого влиятельного лица, и выражал уверенность, что полученные сведения без труда помогут восстановить его доброе имя.
Одним словом, в своей речи сей прохвост проявил столько ловкости и изобретательности, объяснялся с таким пылом, что судьи снова заколебались.
Нужно было нанести последний удар, и Габриэль, хотя и с неохотой, наконец решился на это.
Он что-то шепнул на ухо председателю суда, и тот приказал отправить Арно дю Тиля обратно в тюрьму и привести Мартина Герра.
Назад: XVII ПОД ПОКРОВОМ ТЕМНОЙ ночи
Дальше: Часть третья

