Часть третья
I
МОНСЕНЬОР
(Продолжение)
В эту минуту какой-то человек, подталкиваемый служителем, тяжелой поступью вошел в зал и с почтительным видом направился не то к бургомистру, не то к принцу Оранскому.
— Ага! — воскликнул бургомистр. — Это ты, мой друг?
— Я самый, господин бургомистр, — ответил вновь прибывший.
— Монсеньор, — сказал бургомистр, — вот человек, которого мы посылали в разведку.
Услыхав обращение “монсеньор”, относившееся не к принцу Оранскому, разведчик сделал жест, выражавший изумление и радость, и быстро приблизился, чтобы лучше разглядеть того, кого так титуловали.
Разведчик принадлежал к числу тех фламандских моряков, которых очень легко узнать по их столь характерной наружности — квадратной голове, голубым глазам, короткой шее и широким плечам; моряк вертел в корявых пальцах мокрую шерстяную шапку, а когда он ближе подошел к офицерам, то на каменных плитах остался широкий влажный след: его грубая одежда промокла насквозь, с нее стекала вода.
— Ого-го! Храбрец вернулся вплавь, — сказал незнакомец, останавливая на моряке тот властный взгляд, которому немедленно покоряются и воин и слуга, ибо в нем одновременно чувствуются и суровость и ласка.
— Да, монсеньор, да, — поспешно подтвердил моряк, — а Шельда широка да и быстра.
— Говори, Гоэс, говори, — продолжал незнакомец, хорошо знавший, какую милость он оказывал простому матросу, называя его по имени.
Он правильно рассчитал: с этой минуты, по-видимому, он один стал существовать для Гоэса и к нему одному Гоэс обращался в дальнейшем, хотя был послан другим лицом и, следовательно, более всего должен был дать отчет в своей миссии этому лицу.
— Монсеньор, — начал матрос, — я взял самую маленькую лодчонку; назвав пароль, я миновал заграждение, образованное на Шельде нашими судами, и добрался до этих проклятых французов — ах, простите, монсеньор!
Гоэс осекся.
— Продолжай, продолжай, — с улыбкой сказал незнакомец, — я француз только наполовину — стало быть, и проклятие меня поразит только наполовину.
— Так вот, монсеньор, раз уж вы соблаговолили меня простить…
Незнакомец милостиво кивнул ему, Гоэс продолжал:
— Так вот, я греб в темноте, обернув весла тряпками, и вдруг услыхал оклик: “Эй, вы там, в лодке, чего вам нужно?” Я решил, что это относится ко мне, и уже хотел было наугад что-нибудь ответить, но тут позади меня крикнули: “Адмиральская шлюпка!”
Незнакомец посмотрел на офицеров и покачал головой, как бы спрашивая: “Что я вам говорил?”
— В ту же минуту, — продолжал моряк, — я как раз хотел переменить курс, — я ощутил сильнейший толчок; моя лодка стала тонуть; вода захлестнула меня с головой; я погрузился в бездонную пропасть; но водовороты Шельды признали во мне старого знакомого, и я снова увидел небо. Тут я догадался, что адмиральская шлюпка, на которой господин де Жуаез возвращался на свою галеру, прошла над моей лодки. Одному богу ведомо, каким чудом я не был ни раздавлен, ни потоплен.
— Спасибо, отважный мой Гоэс, спасибо, — сказал принц Оранский, счастливый, что его предположения подтвердились, — ступай и молчи обо всем!
Он вложил в руку Гоэса туго набитый кошелек. Но моряк, по-видимому, дожидался, чтобы и незнакомец отпустил его.
Тот сделал ему знак, выражавший благоволение, и Гоэс удалился, по-видимому, гораздо более обрадованный этим милостивым знаком, нежели щедростью принца Оранского.
— Ну как, — спросил незнакомец бургомистра, — что вы скажете об этом донесении? Неужели вы еще сомневаетесь в том, что французы снимутся с якоря, неужели вы думаете, что господин де Жуаез вернулся из лагеря на свою галеру только для того, чтобы мирно провести там ночь?
— Стало быть, вы обладаете даром предвидения, монсеньор? — воскликнули горожане.
— Не более, чем его высочество принц Оранский, который, я в этом уверен, во всем согласен со мной. Но как и его высочество, я хорошо осведомлен, а главное — знаю тех, кто на той стороне.
Он рукой указал на польдеры.
— Поэтому, — продолжал он, — я очень удивлюсь, если они сегодня вечером не пойдут на приступ. Итак, господа, вы должны быть в полной боевой готовности, ибо, если вы дадите им время, они атакуют вас весьма энергично!
— Эти господа могут по всей справедливости засвидетельствовать, что перед самым вашим прибытием я говорил им то же самое, монсеньор.
— Какие у вас предположения насчет плана действий французов, монсеньор? — спросил бургомистр.
— Вот что я считаю наиболее вероятным: пехота целиком состоит из католиков и поэтому будет драться отдельно, иначе говоря, атакует с одной какой-нибудь стороны; конница состоит из кальвинистов, следовательно, тоже будет драться отдельно — стало быть, опасность грозит с двух сторон. Флот подчинен господину де Жуаезу, он совсем недавно прибыл из Парижа; при дворе знают, с какой целью адмирал отправился сюда, он захочет получить свою долю воинской славы. В итоге — враг предпримет атаку с трех сторон.
— Так образуем три корпуса, — предложил бургомистр.
— Образуйте один-единственный корпус, господа, из лучших воинов, какие только у вас есть, а тех, на кого вы не можете положиться в открытом поле, назначьте охранять городские укрепления. Затем, с этим корпусом предпримите вылазку в тот момент, когда французы меньше всего будут этого ждать. Им кажется, что атаковать будут они; нужно их предварить и самим на них обрушиться. Если вы будете ждать, пока они пойдут на приступ, — вы пропали, потому что в этом деле французы не имеют себе равных, так же как вы, господа, не имеете себе равных, когда в открытом поле защищаете подступы к вашим городам.
Фламандцы просияли.
— Что я вам говорил, господа? — воскликнул Молчаливый.
— Для меня великая честь, — сказал незнакомец, — что, сам того не зная, я оказался одного мнения с первым полководцем нашего века.
Они учтиво поклонились друг другу.
— Итак, решено, — продолжал незнакомец, — вы предпринимаете вылазку, яростно атакуете вражескую пехоту и вражескую конницу. Надеюсь, ваши командиры сумеют так руководить этой вылазкой, что вы отбросите осаждающих.
— Но их корабли — они прорвутся через наши заграждения, — сказал бургомистр, — сейчас дует норд-вест, и через два часа они будут в городе.
— Да ведь у вас самих в Сент-Мари, на расстоянии одного лье отсюда, шесть старых судов и тридцать лодок. Это ваша морская баррикада, это цепь, заграждающая Шельду.
— Да, да, монсеньор, совершенно верно. Откуда вы знаете все эти подробности?
Незнакомец улыбнулся.
— Как видите, знаю, — ответил он. — Там-то и решится исход битвы.
— В таком случае, — продолжал бургомистр, — нужно послать нашим храбрым морякам подкрепление.
— Напротив, вы можете еще и свободно располагать теми четырьмя сотнями людей, которые там сейчас находятся; достаточно будет двадцати человек — сообразительных, смелых и преданных.
Антверпенцы вытаращили глаза.
— Согласны ли вы, — спросил незнакомец, — ценою потери ваших шести старых кораблей и тридцати ветхих лодок разгромить весь французский флот?
— Гм, — антверпенцы переглянулись между собой, — не так уж стары наши корабли, не так уж ветхи наши лодки.
— Ну что ж, — воскликнул незнакомец, — оцените их, и вам оплатят их стоимость.
— Вот те люди, — шепотом сказал незнакомцу Молчаливый, — с которыми мне изо дня в день приходится бороться. О! Если бы мне противостояли только события, я давно уже одолел бы их!
— Так вот, господа, — продолжал незнакомец, положив руку на туго набитую сумку, о которой мы уже упоминали, — оцените их, но оцените быстро! Все вы получите от меня векселя, каждый — на свое имя; надеюсь, вы сочтете их достаточно надежными.
— Монсеньор, — ответил бургомистр, минуту-другую посовещавшись с десятниками и сотниками городского ополчения. — Мы торговцы, а не знатные господа, поэтому простите нам некоторую нерешительность; поймите — ведь наши души обитают не в наших телах, а в наших конторах. Однако в известных обстоятельствах мы ради общего блага способны на жертвы. Итак, распоряжайтесь нашими заграждениями так, как вы это находите нужным.
— Клянусь, монсеньор, — вставил Молчаливый, — вы за десять минут получили от них то, чего я добивался бы полгода.
— Итак, господа, я распоряжаюсь вашими заграждениями, и вот что я сделаю: французы, с адмиральской галерой во главе, попытаюся прорвать их. Я удвою цепи заграждения — цепи, протянутые поперек реки, но между ними и берегом будет оставлено пространство, достаточное, чтобы неприятельский флот проскользнул там и оказался посреди ваших лодок и ваших кораблей. Тогда с этих лодок и кораблей двадцать смельчаков, которых я там оставил, зацепят французские суда абордажными крюками, а зацепив их, подожгут ваши заграждения, предварительно наполненные горючими веществами, и быстро уплывут в лодке.
— Вы слышите, — воскликнул Молчаливый, — и французский флот сгорит весь, без остатка!
— Да, весь, — подтвердил незнакомец, — и французы уже не смогут отступить ни морем, ни польдерами, потому что вы откроете шлюзы Мехельна, Берхема, Льера, Дюффаля и Антверпена. Сначала отброшенные вами, затем преследуемые водами прорванных вами плотин, со всех сторон окруженные этими внезапно нахлынувшими волнами, этим морем, где только прилив и нет отлива, французы, все до единого, будут потоплены, истреблены, уничтожены.
Командиры разразились восторженными криками.
— Но есть препятствие, — сказал принц Оранский.
— Какое же, ваше высочество? — спросил незнакомец.
— Потребовался бы целый день, чтобы разослать по этим городам соответствующие приказания, а в нашем распоряжении всего один час.
— Часа достаточно, — заявил незнакомец.
— Но кто предупредит флотилию?
— Она предупреждена.
— Кем?
— Мною. Если бы эти господа отказались предоставить ее мне, я бы ее купил.
— Но Мехельн, Льер, Дюффаль?
— Я проездом побывал в Мехельне и Льере и послал надежного человека в Дюффаль. В одиннадцать часов французы будут разбиты, в полночь флот будет сожжен, в час ночи отступление французов будет в самом разгаре, в два часа Мехельн прорвет свои плотины, Льер откроет свои шлюзы, в Дюффале сделают так, что каналы выйдут из берегов. Вся равнина превратится в бушующий океан, который, правда, поглотит дома, поля, леса, селенья, но в то же время, повторяю, поглотит французов, да так, что ни один из них не вернется во Францию.
Эти слова были встречены молчанием, выражавшим восторг, граничивший с ужасом; затем фламандцы принялись шумно рукоплескать.
Принц Оранский подошел к незнакомцу, протянул ему руку и сказал:
— Итак, монсеньор, с нашей стороны все готово?
— Все, — ответил неизвестный, — но я думаю, что и у французов все готово. Взгляните!
Он указал на военного, только что приподнявшего ковровую портьеру.
— Господа, — сказал офицер, — нам дали знать, что французы выступили из лагеря и приближаются к городу.
— К оружию! — воскликнул бургомистр.
— К оружию! — повторили все присутствующие.
Незнакомец остановил их.
— Одну минуту, господа, — сказал он густым, повелительным голосом, — я должен дать вам еще одно указание — последнее и самое важное…
— Говорите! Говорите! — в один голос воскликнули все.
— Французы будут застигнуты врасплох, следовательно, произойдет не битва, даже не отступление, а бегство. Чтобы успешно их преследовать, нужно быть налегке. Скиньте ваши латы! Черт возьми! Из-за этих лат, которые сковывают ваши движения, вы проиграли те битвы, которые должны были выиграть. Скиньте латы, господа, скиньте немедленно!
И незнакомец показал на свою широкую грудь, защищенную только кожаной курткой.
— Мы будем сражаться бок о бок, господа, — продолжал он, — а пока ступайте на площадь перед ратушей: там вы найдете всех ваших людей в боевом порядке. Мы придем туда вслед за вами.
— Благодарю вас, монсеньор, — сказал принц Оранский незнакомцу, — вы разом спасли и Бельгию, и Голландию.
— Я тронут вашими словами, принц, — ответил тот.
— Согласится ли ваше высочество обнажить шпагу против французов? — спросил принц.
— Я устроюсь так, чтобы сражаться против гугенотов, — ответил незнакомец, кланяясь с улыбкой, которой мог бы позавидовать его мрачный соратник и значение которой понял один Бог.
II
ФРАНЦУЗЫ И ФЛАМАНДЦЫ
В ту минуту, когда городской совет в полном составе выходил из ратуши, а командиры спешили к своим частям, чтобы выполнить приказания неизвестного полководца, словно ниспосланного фламандцам самим Провидением, со всех сторон раздался грозный гул, казалось, затопивший весь город и завершившийся неистовым ревом.
В это самое время загрохотала артиллерия.
Орудийный огонь явился неожиданностью для французов, предпринявших свой ночной поход в полной уверенности, что они застанут уснувший город врасплох. Но, встреченные пушечными залпами, они не замедлили шаг, а ускорили его. Если теперь уже не представлялось возможным взять город с налета, взобравшись по приставным лестницам на крепостные стены, то можно было, как это сделал король Наваррский под Кагором, заполнить рвы фашинами и посредством петард взорвать городские ворота.
Пушки антверпенских укреплений палили непрерывно, но темнота не позволяла вести прицельную стрельбу; ответив на крики противников оглушительным ревом, французы продолжали путь молча, с той пылкой отвагой, которую они всегда проявляли в наступлении.
Вдруг распахнулись все ворота и калитки, и отовсюду выбежали вооруженные люди; в противоположность французам, их подгоняла не стремительная горячность, а какая-то мрачная одержимость, не препятствующая движениям воина, но придающая им твердость, благодаря которой он уподобляется движущейся стене. Это фламандцы двинулись на врага, сомкнув ряды, а над их головами продолжала греметь артиллерия, более шумная, нежели грозная.
Тотчас завязался бой: дрались с остервенением — сабля лязгает о нож, пика скрещивается с лезвием кинжала; огоньки, вспыхивающие при каждом выстреле из пистолета или аркебузы, освещают лица, обагренные кровью.
И при всем том — ни крика, ни ропота, ни стона: в бою фламандец исполнен ярости, француз — досады. Фламандец взбешен тем, что он вынужден драться, — это не его ремесло и не доставляет ему удовольствия. Француз взбешен тем, что на него напали, когда он сам намерен был напасть.
В ту минуту, когда обе стороны с неистовством, которое мы тщетно пытались бы передать, вступили в рукопашную, со стороны Сент-Мари один за другим доносятся оглушительные взрывы, и над городом, словно огненный сноп, поднимается огромное зарево. Там наступает Жуаез: ему поручено произвести диверсию — прорвать заграждение, обороняющее Шельду, а затем проникнуть со своим флотом в самое сердце города.
Во всяком случае, французы очень надеются на это.
Но дело обстоит совсем иначе.
Снявшись с якоря, при западном ветре, наиболее благоприятном для такого предприятия, Жуаез на своей адмиральской галере, шедшей во главе французского флота, плыл по ветру, гнавшему суда вперед, против течения. Все было подготовлено к битве: моряки Жуаеза, вооруженные абордажными саблями, стояли на корме, канониры с зажженными фитилями не отходили от своих орудий; марсовые с ручными бомбами гнездились на мачтах, и наконец, отборные матросы, вооруженные топорами, стояли начеку, готовые ринуться на палубы вражеских судов, чтобы, обрубив там цепи и канаты, расчистить проход для флота.
Двигались бесшумно. Семь кораблей Жуаеза, при отплытии построенные клином, острием которого являлась адмиральская галера, казались скоплением исполинских призраков, беззвучно скользивших по воде. Юный адмирал, которому полагалось находиться на вахтенном мостике, не в силах был спокойно стоять на своем посту. Облаченный в роскошную броню, он занял на своей галере место старшего лейтенанта и, склонясь над бушпритом, пытался пронизать острым взором окутывавший реку туман и ночную мглу.
Вскоре смутно стало вырисовываться заграждение, черневшее поперек Шельды, оно казалось всеми покинутым; но в этой стране, полной засад, такое безлюдье вызывало безотчетный страх.
Однако флотилия продолжала плыть вперед; заграждение было уже в каких-нибудь десяти кабельтовых, расстояние уменьшалось с каждой секундой, и еще ни разу до слуха французов не донесся оклик: “Кто идет?”
Матросы усматривали в этом молчании лишь небрежность, радовавшую их; юный адмирал, более дальновидный, чуял в нем пугавшую его западню.
Наконец нос адмиральской галеры врезался в снасти двух судов, составлявших центр заграждения, и, нажимая на них, заставил податься всю эту гибкую, подвижную плотину, отдельные части которой, скрепленные между собой цепями, уступили нажиму, но не разъединились. И вдруг в ту минуту, когда морякам с топорами был дан приказ ринуться на вражеские суда, чтобы разъять заграждение, множество абордажных крюков, закинутых невидимыми руками, вцепились в снасти французских кораблей.
Фламандцы предвосхитили маневр, задуманный французами.
Жуаез вообразил, что враги вызывают его на решительный бой. Он принял вызов. Абордажные крюки, брошенные с его стороны, железными узами соединили вражеские суда с французскими. Затем, выхватив из рук какого-то матроса топор, он, крича: “На абордаж! На абордаж!” — первым вскочил на тот из неприятельских кораблей, который теснее других был сцеплен с его собственным.
Вся команда, офицеры и матросы, ринулась за ним, издавая тот же клич; но ничей голос не прозвучал в ответ, никакая сила не воспротивилась их вторжению. Они увидели только, как три лодки, полные людей, неслышно заскользили по реке, словно три запоздалые ночные птицы.
Лодки быстро удалялись, сильными взмахами весел рассекая воду; птицы улетают, сильными взмахами крыльев рассекая воздух.
Французы в некотором недоумении стояли на кораблях, захваченных ими без боя. Так было по всей линии.
Вдруг Жуаез услыхал у себя под ногами смутный гул, и в воздухе запахло серой. Страшная мысль молнией прорезала его сознание; он подбежал к люку и поднял крышку: внутренняя часть судна пылала.
В ту же минуту по всей линии пронесся крик: “Назад, на корабли! На корабли!”
Все вернулись на свои суда проворнее, чем сошли с них; Жуаез, вскочивший на вражеский корабль первым, вернулся оттуда последним.
Едва он успел ступить на борт своей галеры, как огонь охватил палубу корабля, оставленного им минуту назад.
Словно извергаемое множеством вулканов, отовсюду вырывалось пламя; каждая лодка, каждая шлюпка, каждое судно были кратерами; французские корабли, более крупные, высились будто над огненной пучиной.
Тотчас был дан приказ обрубить канаты, разбить цепи, оторвать абордажные крюки; матросы взбирались по снастям со скоростью людей, убежденных, что в быстроте — спасение их жизни.
Но работа была огромная и превышала их силы; возможно, они еще успели бы освободиться от абордажных крюков, заброшенных антверпенцами на французские корабли, но ведь были еще и крюки, прицепленные французским флотом к неприятельским судам.
Вдруг разом загремели двадцать взрывов; французские суда сотряслись до самого основания, недра их затрещали.
Это гремели пушки, защищавшие подвижную плотину; заряженные неприятелем до отказа и затем покинутые, они разрывались сами собой, по мере того как их охватывал огонь, и разрушали все, чего достигали, — разрушали слепо, но верно.
Подобно исполинским змеям, языки пламени вздымались вдоль мачт, обвивались вокруг рей, своими багровыми языками лизали медные борта французских кораблей.
Жуаез, в своей роскошной броне с золотыми насечками невозмутимо стоявший посреди моря огня и властным голосом отдававший приказания, напоминал одну из тех сказочных саламандр, с чешуи которых при каждом их движении сыплются мириады сверкающих искр.
Вскоре взрывы стали еще более мощными, еще более разрушительными; уже не пушки гремели, разлетаясь на тысячи кусков, — загорелись крют-крюйт-камерывзрывались сами суда.
Пока Жуаез надеялся разорвать смертоносные узы, соединявшие его с неприятелем, он боролся изо всех сил; но теперь всякая надежда на успех исчезла; огонь перекинулся на французские суда, и всякий раз, когда взрывался неприятельский корабль, на палубу его галеры изливался огненный дождь, подобный последнему ослепительному снопу гигантского фейерверка.
Это был греческий огонь, беспощадный огонь, питаемый всем тем, что гасит другие огни, и пожирающий свою жертву даже в водной пучине.
Взрываясь, антверпенские суда прорвали заграждение, но французские суда уже не могли продолжать свой путь; сами охваченные пламенем, они носились по воле волн, волоча за собой жалкие обломки губительных брандеров, обхвативших французов своими огненными щупальцами.
Жуаез понял, что дальше бороться бессмысленно; он дал приказ спустить все лодки и плыть к левому берегу.
Приказ был передан на все остальные корабли с помощью рупоров; те, кто его не услыхал, инстинктивно прониклись той же мыслью.
Пока весь экипаж до последнего матроса не разместился в лодках, Жуаез оставался на палубе своей галеры.
Его хладнокровие, похоже, вернуло всем присутствие духа;
каждый из его моряков крепко держал в руках либо топор, либо абордажную саблю.
Не успел Жуаез достичь берега, как адмиральская галера взорвалась, осветив с одной стороны город, с другой — водный простор, могучую реку, которая, все расширяясь, сливалась наконец с морем.
Тем временем крепостная артиллерия умолкла — не потому, что битва стала менее жаркой, а потому, что фламандцы и французы теперь дрались врукопашную и уже невозможно было, метя в одних, не попасть в других.
Кальвинистская конница атакует в свой черед — и творит чудеса; вооруженные шпагами всадники врезаются в ряды фламандцев, топчут их лошадьми; раненые, но не сломленные враги тесаками вспарывают лошадям брюхо.
Несмотря на эту блистательную кавалерийскую атаку, во французских войсках происходит некоторое замешательство; они удерживают позиции, но не наступают; меж тем из всех ворот города непрестанно появляются свежие батальоны, с ходу атакующие армию герцога Анжуйского.
Вдруг почти у самых стен города начинается заметное движение. На фланге антверпенской пехоты раздаются крики: “Анжу! Анжу! Франция! Франция!” — и ужасающий натиск заставляет дрогнуть эту массу людей, так тесно прижатых друг к другу напором задних рядов, что передние вынуждены выказывать чудеса храбрости, потому что ничего иного им не остается.
Этот перелом произведен адмиралом Жуаезом; это кричат его матросы: полторы тысячи человек, вооруженных топорами и тесаками, под предводительством Жуаеза, которому подали коня, оставшегося без всадника, внезапно обрушились на фламандцев; они должны отомстить за свой пожираемый пламенем флот и за две сотни своих товарищей, сгоревших или утонувших.
Они не выбирали места нападения; они бросились на первый же отряд, по языку и одежде признанный ими за врага.
Жуаез как никто владел своей длинной боевой шпагой: он с молниеносной быстротой вращал кистью, сжимавшей эту шпагу, и каждым рубящим ударом раскраивал кому-нибудь голову, каждым колющим — пронзал человека насквозь.
Отряд фламанцев, на который обрушился Жуаез, был истреблен, словно горсть хлебных зернышек стаей муравьев.
Опьяненные первым успехом, моряки продолжали действовать.
В то время как они продвигались вперед, кальвинистская конница, теснимая этими потоками людей, понемногу подавалась назад; но пехота графа де Сент-Эньяна продолжала драться с фламандцами.
Герцогу Анжуйскому пожар флота представился в виде дальнего зарева. Слыша пушечные выстрелы и грохот взрывавшихся кораблей, он полагал, что в той стороне, откуда они доносились, идет жестокий бой, который, естественно, кончится победой Жуаеза; разве можно было предположить, что несколько фламандских кораблей вступят в бой с французским флотом!
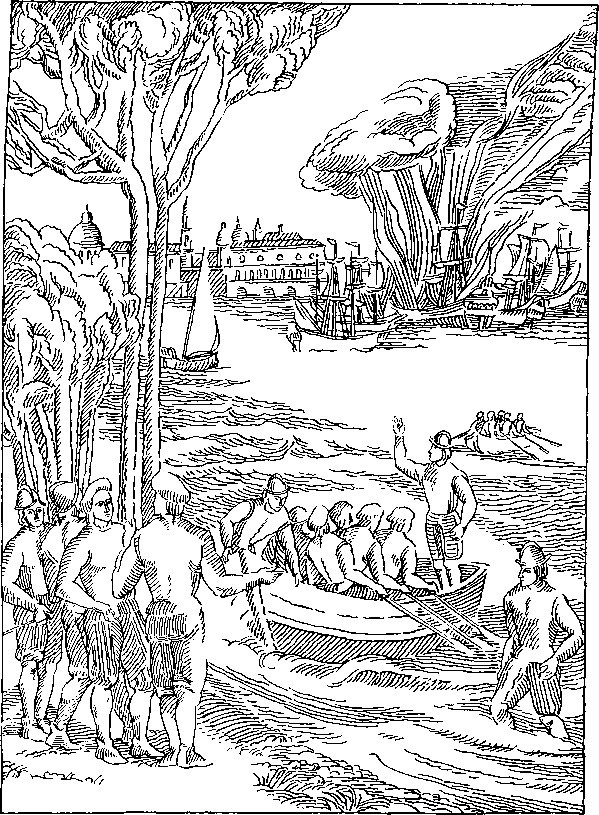
Он с минуты на минуту ждал донесения о произведенной Жуаезом диверсии, как вдруг ему сообщили, что французский флот уничтожен, а Жуаез со своими моряками врезался в самую гущу фламандского войска.
Герцог сильно встревожился. Флот обеспечивал отступление, а следовательно, и безопасность армии.
Герцог послал кальвинистской коннице приказ предпринять новую атаку; измученные всадники и кони снова сплотились, чтобы еще раз помчаться на антверпенцев.
В сумятице схватки был слышен голос Жуаеза:
— Держитесь, господин де Сент-Эньян! Франция! Франция!
Словно косарь, готовящийся снять жатву с колосистой нивы, он вращал своей шпагой в воздухе и с размаху опускал ее, кося перед собой людей; тщедушный королевский любимчик, изнеженный сибарит, облекшись в броню, видимо, обрел мифическую силу Геркулеса Немейского.
Слыша этот голос, перекрывавший гул битвы, видя эту шпагу, сверкавшую во мраке, пехота опять преисполнялась мужества, по примеру конницы напрягала все силы — и возобновляла бой.
Тогда из города, верхом на породистом вороном коне, выехал тот, кого называли монсеньором.
Он был в черных доспехах, иначе говоря, шлем, латы, нарукавники и набедренники — все было черненой стали; за ним на прекрасных конях следовали пятьсот всадников, которых принц Оранский отдал в его распоряжение.
В то же время из противоположных ворот выступил и сам Вильгельм Молчаливый во главе отборной пехоты, еще не бывшей в деле.
Всадник в черных доспехах поспешил туда, где подмога была всего нужнее, — к месту, где сражался Жуаез и его моряки.
Фламандцы узнавали всадника и расступались перед ним, радостно крича:
— Монсеньор! Монсеньор!
До той поры Жуаез и его моряки чувствовали, что враг слабеет; но раздались эти крики — и они увидели перед собой новый мощный отряд, появившийся вдруг, словно по волшебству.
Жуаез направил своего коня прямо на черного всадника — и они, преисполнившись мрачного гнева, вступили в поединок.
Искры посыпались во все стороны, как только их шпаги скрестились.
Полагаясь на отменную закалку своих лат и на свое искусство опытнейшего фехтовальщика, Жуаез стал наносить неизвестному мощные удары, которые тот ловко отражал. В то же время один из ударов противника пришелся ему прямо в грудь; но шпага отскочила от брони и только оцарапала ему плечо.
— А! — воскликнул юный адмирал, ощутив прикосновение острия. — Он француз, и мало того — у него был тот же учитель фехтования, что и у меня!
Услышав эти слова, неизвестный отвернулся и хотел было ускакать.
— Если ты француз, — крикнул ему адмирал, — ты предатель, ведь ты сражаешься против своего короля, своей родины, своего знамени!
В ответ неизвестный воротился и с еще большим ожесточением напал на Жуаеза.
Но на этот раз Жуаез был предупрежден и знал, с какой искусной шпагой имеет дело. Он подряд отразил три или четыре удара, нацеленные с величайшей ловкостью и с неописуемыми яростью, силою и злобой.
Тогда незнакомец, в свою очередь, подался назад.
— Гляди, — крикнул ему юный адмирал, — вот как поступают, когда сражаются за родину; чистого сердца и честной руки достаточно, чтобы защитить голову без шлема, чело без забрала.
И отстегнув ремни своего шлема, он далеко отбросил его, обнажив благородную, красивую голову; глаза его сверкали силой, гордостью и юношеским задором.
Вместо того чтобы ответить словами или последовать столь доблестному примеру, всадник в черных доспехах глухо зарычал и занес шпагу над обнаженной головой противника.
— А! — воскликнул Жуаез, отражая удар. — Верно я сказал, что ты предатель, так умри же смертью предателя!
И, тесня неизвестного, он нанес ему острием шпаги два или три удара, один из которых попал в отверстие спущенного забрала.
— Я убью тебя, — приговаривал молодой человек, — я сорву с тебя шлем, который так хорошо тебя защищает и скрывает твое лицо, и повешу тебя на первом попавшемся дереве.
Незнакомец хотел было, в свою очередь, сделать выпад, но к нему подскакал верховой и шепнул ему на ухо:
— Монсеньор, прекратите эту стычку, ваше присутствие будет весьма полезно вон там.
Незнакомец взглянул туда, куда указывал гонец, и увидел, что ряды фламандцев дрогнули под натиском кальвинистской конницы.
— Верно, — сказал он с угрозой в голосе, — вот те, кого я искал.
В эту минуту на отряд Жуаеза обрушилась волна всадников, и моряки, устав непрестанно разить тяжеловесным, годным лишь для великанов оружием, сделали первый шаг назад. Черный всадник воспользовался этим, чтобы исчезнуть в сумятице и во мраке.
Спустя четверть часа французы подались по всей линии и уже только старались достойно отступить, не обращаясь в бегство.
Господин де Сент-Эньян принимал все меры к тому, чтобы его люди отходили по возможности в порядке.
Но из города выступил последний свежий отряд — пятьсот человек конницы, две тысячи пехоты и атаковал истощенную, уже отступавшую армию. Этот отряд состоял из старых ратников принца Оранского, боровшихся и с герцогом Альбой, и с доном Хуаном, и с Рекесенсом, и с Александром Фарнезе.
Французам пришлось немедленно принять важное решение: оставив поле битвы, отступать сушей, поскольку флот, на который рассчитывали в случае поражения, был уничтожен.
Несмотря на хладнокровие вождей, на храбрость большинства солдат, ряды французов смешались.
Вот тогда незнакомец, во главе конного отряда, почти еще не потратившего сил в бою, налетел на бегущих и снова встретил в арьергарде Жуаеза с его моряками, из которых две трети уже полегли на поле брани.
Юному адмиралу совсем недавно подвели третью лошадь — две уже были убиты под ним. Его шпага сломалась, из рук раненого матроса он выхватил тяжелый абордажный топор, который вращал в воздухе так же легко и быстро, как пращник свою пращу.
Время от времени он оборачивался лицом к неприятелю, словно дикий кабан, который никак не может решиться бежать от охотника и напоследок отчаянно кидается на него. Со своей стороны, фламандцы, скинувшие латы по настоянию того, кого они называли монсеньором, стали весьма подвижны и гнались за армией анжуйца по пятам, не давая ей и мгновенной передышки.
При виде этого чудовищного разгрома в сердце незнакомца шевельнулось подобие раскаяния или, уж во всяком случае, сомнения.
— Довольно, господа, довольно, — сказал он по-французски своим людям, — сегодня вечером их отогнали от Антверпена, а через неделю прогонят из Фландрии; не будем просить большего у бога войны!
— А! Он француз! Француз! — воскликнул адмирал. — Я угадал, что ты предатель! А! Будь проклят, и да поразит тебя смерть, уготованная предателям!
Это гневное обращение, по-видимому, смутило того, кто не дрогнул перед тысячами шпаг, поднятых против него; он повернул коня — и победитель бежал едва ли не с той же поспешностью, что и побежденные.
Но бегство одного врага ничего не изменило в положении дел; страх заразителен, он успел охватить всю армию, и солдаты в панике бежали уже со всех ног.
Несмотря на усталость, лошади трусили рысью — казалось, они тоже поддались страху; люди разбегались во все стороны, чтобы найти убежище; за несколько часов армии не стало.
Это происходило в то время, когда по приказу монсеньора открывались плотины, спускались шлюзы от Льера до Термонда, от Гасдонка до Мехельна, каждая речонка, вобрав в себя свои притоки, каждый канал, выйдя из берегов, затопляли окрестные равнины потоками бушующей воды.
Поэтому в тот самый час, когда бежавшие французы, утомив своих преследователей, начали останавливаться там и сям; когда наконец они увидели, что антверпенцы, а вслед за ними — воины принца Оранского повернули назад, в сторону город; когда те, что вышли из ночной резни целыми и невредимыми, сочли себя спасенными и вздохнули: одни — творя молитву, другие — бормоча проклятие, — в этот час на них со скоростью ветра, со всем неистовством морской стихии ринулся новый враг, слепой и беспощадный; но хотя неотвратимая опасность уже надвигалась со всех сторон, беглецы еще ничего не подозревали.
Жуаез велел своим морякам сделать привал; их осталось всего восемьсот, и только они в этом ужасающем разгроме сохранили подобие дисциплины.
Граф де Сент-Эньян, задыхавшийся, потерявший голос, вынужденный отдавать команды только жестами, пытался собрать разбежавшихся пехотинцев.
Бегущее войско возглавлял герцог Анжуйский; верхом на отличном коне, сопровождаемый слугой, державшим в поводу другого коня, он лихо скакал, видимо, ничем не озабоченный.
— Он негодяй и трус, — говорили одни.
— Он храбрец и поражает своим хладнокровием, — говорили другие.
Отдых, длившийся с двух до шести часов утра, дал пехотинцам силу продолжать отступление. Но съестного не было и в помине.
Лошади, казалось, были изнурены еще больше, чем люди, их не кормили со вчерашнего дня, и они едва передвигали ноги. Поэтому они шли в хвосте армии.
Все надеялись найти пристанище в Брюсселе; этот город в свое время подчинился герцогу, там у него было много приверженцев; правда, некоторые не без тревоги спрашивали себя, доброжелательно ли их встретят; был ведь момент, когда думали, что на Антверпен можно полагаться так же твердо, как сейчас жаждали положиться на Брюссель.
Так, в Брюсселе, то есть в каких-нибудь восьми лье от того места, где находилось французское войско, можно будет снабдить его продовольствием, найти подходящее место для стоянки и возобновить прерванную кампанию в момент, который сочтут наиболее для этого благоприятным.
Остатки воинских частей, направляемые в Брюссель, должны были стать ядром новой армии. Ведь в то время никто еще не предвидел, что наступит страшная минута, когда почва уйдет из-под ног несчастных солдат, когда горы пенящейся воды обрушатся на их головы и захлестнут их, когда тела стольких храбрецов, влекомые мутным потоком, понесутся к морю или застрянут в пути и превратятся в удобрение для брабантских полей.
Герцог Анжуйский велел подать себе завтрак в крестьянской хижине между Гедокеном и Гекгутом. Хижина была пуста; судя по всему, жители поспешно покинули ее накануне вечером; огонь еще тлел в очаге.
Решив по примеру своего предводителя подкрепиться, солдаты и офицеры начали рыскать по обоим поселкам, но вскоре они с изумлением, смешанным с ужасом, обнаружили, что все дома пусты и жители, уходя, унесли с собой почти все припасы.
Господин де Сент-Эньян, как и все другие, старался раздобыть что-нибудь съестное; беспечность, проявляемая герцогом Анжуйским в то время, когда столько отважных людей умирало за него, внушала Сент-Эньяну отвращение, и он отдалился от него. Он был из тех, кто говорил: “Негодяй и трус!"
Он самолично осмотрел три дома, не нашел там ни души и стучался в дверь четвертого, когда ему сообщили, что на два лье в окружности, другими словами, во всей местности, занятой французскими войсками, все дома обезлюдели.
Услыхав эту весть, г-н Сент-Эньян насупился, и лицо его исказила гримаса.
— В путь, господа, в путь! — сказал он затем своим офицерам.
— Но ведь, мы измучены, генерал, — возразили те, — мы умираем с голоду.
— Да, но вы живы, а если вы останетесь здесь еще на час — вы будете мертвы, быть может, уже и сейчас слишком поздно.
Господин де Сент-Эньян не мог сказать ничего определенного, но он чуял, что за этим безлюдьем кроется какая-то грозная опасность.
Двинулись дальше; снова герцог Анжуйский ехал впереди головного отряда; г-н де Сент-Эньян предводительствовал срединной колонной; Жуаез командовал арьергардом.
Но вскоре отстали и еще две-три тысячи человек — одни ослабели от ран, других изнурила усталость: они растягивались на траве или под сенью деревьев, всеми покинутые, отчаявшиеся, томимые мрачным предчувствием. Позднее отстали те всадники, чьи лошади уже не могли тащиться дальше или были ранены в пути.
Вокруг герцога Анжуйского осталось самое большее три тысячи человек, крепких и способных сражаться.
III
ПУТНИКИ
Меж тем как совершались эти страшные события, предвещавшие бедствие еще более жестокое, два путника, верхом на отличных першеронах, в прохладный ночной час выехали из городских ворот Брюсселя на Мельхенскую дорогу.
Они ехали рядом, не держа на виду никакого оружия, кроме, впрочем, широкого фламандского ножа, медная рукоятка которого поблескивала за поясом одного из них; свернутые плащи были приторочены к седлам.
Путники ни на шаг не отставали друг от друга; каждый из них думал свою думу, быть может, одну и ту же, но оба не произносили ни слова.
Одеждой и манерами они напоминали тех пикардийских коробейников, которые тогда ездили из Франции во Фландрию и обратно, бойко торгуя в обеих странах; своего рода коммивояжеры, немудрствующие предшественники нынешних краснобаев, они в ту далекую эпоху, по сути дела, выполняли ту же работу.
Видя, как они мирно трусят по освещенной луной дороге, любой встречный принял бы их за простых людей, озабоченных тем, как бы поскорее найти ночлег после дня, проведенного в трудах.
Но если б ветер донес до этого встречного хоть несколько фраз — обрывков тех разговоров, которые путники изредка вели между собой, — это ошибочное мнение, основанное на обманчивой внешности, круто изменилось бы.
Самыми странными из всех были первые замечания, которыми они обменялись, отъехав приблизительно на пол-лье от Брюсселя.
— Сударыня, — сказал более коренастый, обращаясь к более стройному, — вы в самом деле были правы, когда решили выехать ночью; мы на этом выгадали семь лье и прибудем в Мехельн именно тогда, когда, насколько можно предвидеть, исход нападения на Антверпен уже будет известен. Там упоение победой будет в самом разгаре. За два дня небольших переездов — они должны быть совсем небольшими, иначе вы устанете, — за два дня таких переездов мы достигнем Антверпена, как раз в к тому времени, когда, по всей вероятности, принц опомнится от своего восторга и, побывав на седьмом небе, соблаговолит обратить взор долу и спустится на землю.
Спутник, которого именовали “сударыня” и который, несмотря на мужскую одежду, ни единым словом не возражал против этого обращения, голосом одновременно тихим, нежным и твердым ответил:
— Друг мой, поверь мне: Господь Бог вскоре истощит свое долготерпение — перестанет охранять этого презренного принца и жестоко покарает его; поэтому мы должны как можно скорее претворить наши замыслы в дело, ибо я не принадлежу к числу тех, кто верит в предопределение; я считаю, что люди свободно распоряжаются своей волей и своими поступками. Если мы не будем действовать сами, а предоставим действовать Богу, — не стоило терпеть такие муки, чтобы дожить до нынешнего дня.
В эту минуту порыв северо-западного ветра обдал их ледяным холодом.
— Вы дрожите, сударыня, — сказал один из путников, — накиньте плащ.
— Нет, Реми, благодарю; ты знаешь, я уже не ощущаю ни телесной боли, ни душевных терзаний.
Реми возвел глаза к небу и погрузился в мрачное молчание. Время от времени он придерживал коня и оборачивался, привстав в стременах; тогда его спутница, безмолвная, словно конная статуя, несколько опережала его.
После одной из таких минутных остановок она, когда спутник нагнал ее, спросила:
— Ты никого не видишь позади нас?
— Нет, сударыня, никого.
— А всадник, который нагнал нас ночью в Валансьене и расспрашивал про нас, после того, как он долго и с изумлением нас разглядывал?
— Я его больше не вижу.
— А мне кажется, я его мельком видела, когда мы въезжали в Моне.
— Сударыня, я уверен, что видел его, когда мы въезжали в Брюссель.
— В Брюссель — так ты сказал?
— Да, но, должно быть, он там сделал привал.
— Реми, — сказала дама, подъехав к своему спутнику вплотную, словно опасалась, что кто-нибудь ее услышит на этой пустынной дороге, — Реми, а не кажется ли тебе, что он напоминает…
— Кого, сударыня?
— Во всяком случае — ростом и сложением, лица его я не видела, — напоминает того несчастного молодого человека…
— О! Нет, нет, сударыня, — поспешно заверил ее Реми, — я не уловил ни малейшего сходства; к тому же — как бы он мог узнать, что мы покинули Париж и едем этой дорогой?
— Совершенно так же, Реми, как он узнал, где мы, когда мы в Париже переезжали с места на место.
— Нет-нет, сударыня, — продолжал Реми, — он не следовал за нами, он никому не поручал нас выслеживать, и, как я уже вам говорил перед отъездом, у меня есть веские основания полагать, что он принял отчаянное решение, но что это решение касается только его самого.
— Увы, Реми! Каждому из нас в этом мире уготована своя доля страданий; да облегчит Господь долю этого несчастного!
На вздох своей госпожи Реми ответил таким же вздохом, и они молча продолжали путь; вокруг них тоже царило безмолвие, нарушаемое лишь цоканьем копыт по сухой дороге.
Так прошло два часа.
Когда путники въехали в Вильворд, Реми обернулся. На повороте дороги он услыхал топот коня, мчавшегося галопом.
Он остановился, долго вглядывался вдаль, но ничего не увидел. Его зоркие глаза тщетно пытались пронизать ночной мрак; ни один звук не нарушал торжественной тишины, и он вместе со своей спутницей въехал в городок.
— Сударыня, — сказал он, — уже светает, примите мой совет: остановимся здесь — лошади устали, да и вам необходимо отдохнуть.
— Реми, — ответила дама, — вы напрасно притворяетесь. Вы чем-то встревожены.
— Да, состоянием вашего здоровья, сударыня: поверьте мне, женщине не по силам такое утомительное путешествие. Я сам едва…
— Поступайте так, как найдете нужным, — ответила Диана.
— Так вот, давайте въедем в этот переулок, в конце которого мерцает фонарь; это знак, по которому узнают гостиницы; поторопитесь, прошу вас.
— Стало быть, вы что-нибудь услыхали?
— Да, как будто конский топот. Правда, мне думается, я ошибся, но на всякий случай я чуть задержусь, чтобы удостовериться, обоснованны мои подозрения или нет.
Не возражая, не пытаясь отговорить Реми от его намерения, Диана пришпорила своего коня и направила его в длинный извилистый переулок. Реми дал ей проехать, спешился и отпустил поводья своего коня, который, разумеется, тотчас последовал за конем Дианы.
Сам Реми притаился за огромной тумбой и стал выжидать.
Диана постучалась в дверь гостиницы, за которой, по стародавнему фламандскому обычаю, бодрствовала или, вернее, спала широкоплечая служанка с мощными дланями.
Служанка уже услыхала цоканье конских копыт о мостовую, проснулась, не выказывая ни малейшего недовольства, отперла входную дверь и радушно встретила путешественника или, вернее, путешественницу. Затем она открыла лошадям широкую сводчатую дверь, куда они тотчас вбежали, почуяв конюшню.
— Я жду своего спутника, — сказала Диана, — дайте мне посидеть у огня; я не лягу, пока он не придет.
Служанка бросила соломы лошадям, закрыла дверь в конюшню, вернулась в кухню, придвинула к огню табурет, сняла пальцами нагар с толстой свечи — и снова заснула.
Тем временем Реми в своей засаде подстерегал всадника, о присутствии которого его предупредил конский топот на дороге.
Реми видел, как всадник шагом, прислушиваясь к каждому шороху, въехал в поселок, как, доехав до переулка и завидев фонарь, он еще замедлил шаг, видимо, колеблясь, продолжать ли ему путь или направиться к гостинице.
Он придержал лошадь так близко от Реми, что тот ощутил ее дыхание на своем плече.
Реми схватился за нож.
“Да, это он, — сказал себе верный слуга, — он здесь, в этом краю, он снова следует за нами. Что ему нужно от нас?”
Путник скрестил руки на груди; лошадь тяжело дышала, вытягивая шею.
Он безмолствовал; но по тем огненным взглядам, которые он устремлял то вперед, то назад, то в глубь переулка, нетрудно было угадать, что он спрашивал себя, повернуть ли ему назад, скакать ли вперед или же постучаться в гостиницу.
— Они поехали дальше, — вполголоса сказал себе всадник. — Что ж, надо ехать!
И, натянув поводья, он продолжал путь.
“Завтра, — мысленно решил Реми, — мы поедем другой дорогой”.
Он пошел к своей спутнице, с нетерпением ожидавшей его.
— Ну что, — шепотом спросила она, — нас кто-то выслеживает:
— Никто, я ошибся. На дороге нет никого, кроме нас, вы можете спать совершенно спокойно.
— О! Мне не спится, Реми, вы это знаете.
— Так, по крайней мере, поужинайте, сударыня, вы и вчера ничего не ели.
— Охотно, Реми.
Снова разбудили несчастную служанку; она отнеслась к этому так же добродушно, как в первый раз; узнав, что от нее требуется, она вынула из буфета соленый окорок, жареного зайца и варенье. Затем она принесла кувшин пенистого ливенского пива. Реми сел за стол рядом со своей госпожой.
Она до половины наполнила свою кружку, но едва прикоснулась к ней; отломила кусочек хлеба и проглотила несколько крошек; затем, отодвинув кружку и хлеб, она откинулась на спинку стула.
— Как! Вы больше ничего не отведаете, сударыня? — спросила служанка.
— Нет, спасибо, я сыта.
Тогда служанка посмотрела на Реми; он взял хлеб, оставленный его госпожой, и неспешно стал есть, запивая его пивом.
— А мясо? — спросила служанка. — Что ж вы мясо не едите, сударь?
— Спасибо, дитя мое, не хочу.
— Что ж оно — нехорошее, по-вашему?
— Я уверен, что оно превкусное, но я не голоден.
Служанка молитвенно сложила руки, выражая изумление, которое ей внушала необычная умеренность незнакомца; ее соотечественники в пути ели совсем по-другому.
Сообразив, что в этом жесте служанки есть и некоторая досада, Реми бросил на стол серебряную монету.
— О, Господи, — воскликнула девушка, — мне столько нужно сдать вам с этой монеты, что не стоит ее брать. С вас всего-то следует шесть денье за двоих!
— Оставьте себе эту монету целиком, милая, — сказала путешественница. — Верно, мы оба, брат и я, едим мало, но мы не хотим уменьшить ваш доход.
Служанка покраснела от радости, но в то же время на глазах у нее выступили слезы — так грустно были сказаны эти слова.
— Скажите, дитя мое, — спросил Реми, — есть ли проселочная дорога отсюда в Мехельн?
— Есть, сударь, но очень плохая; зато… вы, сударь, возможно, этого не знаете, большая дорога очень хороша.
— Знаю, дитя мое, знаю. Но мне нужно ехать проселочной.
— Ну что ж… я только хотела вас предупредить, сударь, потому что вы путешествуете с женщиной, и эта дорога для нее будет вдвойне тяжела, особенно сейчас.
— Почему же, дитя мое?
— Потому что этой ночью тьма-тьмущая народа из деревень и поселков отправляется в окрестности Брюсселя.
— Брюсселя?
— Да, они спешно переселяются туда.
— Почему же они переселяются?
— Не знаю; такой был приказ.
— Чей приказ? Принца Оранского?
— Нет, монсеньора.
— А кто такой монсеньор?
— Ах, сударь, вы уж очень много о чем меня спрашиваете — я ведь ничего не знаю; как бы там ни было — со вчерашнего вечера все переселяются.
— Кто же переселяется?
— Да все те, кто живет в деревнях, поселках, городках, где нет ни плотин, ни укреплений.
— Странно все это, — молвил Реми.
— Мы сами тоже уедем на рассвете, — продолжала служанка, — из нашего городка все уедут. Вчера, в одиннадцать часов вечера, весь скот по каналам и проселочным дорогам погнали в Брюссель; вот почему на той дороге, о которой я вам сказала, сейчас, наверно, страх сколько скопилось лошадей, подвод и людей.
— Почему же они не идут большой дорогой? Мне думается, там этих трудностей было бы меньше?
— Не знаю; таков приказ.
Реми и его спутница переглянулись:
— Но мы-то можем ехать проселочной дорогой — мы ведь держим путь в Мехельн?
— Думаю, что да, если только вы не предпочтете сделать, как все, то есть отправиться под Брюссель.
Реми взглянул на свою спутницу.
— Нет, нет, мы сейчас же поедем в Мехельн, — воскликнула Диана, вставая. — Прошу вас, милая, отоприте конюшню.
По примеру своей спутницы встал и Реми, вполголоса говоря:
— Из двух опасностей я все же предпочитаю ту, которая мне известна; кроме того, молодой человек намного опередил нас, а если, волею случая, он нас поджидает — ну что ж! Посмотрим!
Реми еще не расседлал лошадей; он помог своей спутнице вдеть ногу в стремя, затем сам вскочил на своего коня — и рассвет уже застал их на берегу Диле.
IV
ОБЪЯСНЕНИЕ
Опасность, тревожившая Реми, была вполне реальна, так как узнанный им ночью всадник, отъехав на четверть лье от Вильворда и никого не увидав на дороге, убедился, что те, за кем он следовал, остановились в этом городке.
Он не повернул назад, вероятно, потому, что следить за обоими путниками он старался по возможности незаметно, а улегся в клеверном поле, предварительно поставив своего коня в один из тех глубоких рвов, которыми во Фландрии разграничивают участки, принадлежащие разным лицам.
Благодаря этой уловке он рассчитывал все видеть, сам оставаясь невидимым.
Читатель, несомненно, узнал этого молодого человека: как и подозревала сама преследуемая им дама, это был все тот же Анри дю Бушаж, волею рока столкнувшийся с женщиной, от которой он поклялся бежать.
После своей беседы с Реми у порога таинственного дома — иначе говоря, после крушения всех своих надежд — Анри вернулся в особняк Жуаезов с твердым намерением расстаться с жизнью, представлявшейся ему столь несчастной на самой своей заре. Но будучи храбрым дворянином и хорошим * сыном, он понимал, что ему нельзя ничем запятнать имени отца, и он решил умереть славной смертью на поле боя.
Во Фландрии шла война. Брат Анри, адмирал де Жуаез, командовал флотом и мог доставить ему возможность достойно уйти из жизни. Анри не долго думал: вечером следующего дня, спустя двадцать часов после отъезда Реми и его госпожи, он отправился в путь.
В письмах из Фландрии говорилось о предстоящем штурме Антверпена. Анри надеялся поспеть вовремя. Ему приятно было думать, что он, по крайней мере, умрет со шпагой в руке, в объятиях брата, под французским знаменем, что смерть его наделает шума и что шум достигнет дамы из таинственного дома.
О благородное безумие! Славные и мрачные грезы! В течение четырех дней Анри упивался своим страданием, а главное — надеждой, что этой муке скоро придет конец.
Когда Анри, погруженный в эти скорбные размышления, увидел шпиль Валансьенской колокольни, в городе пробило восемь часов. Вспомнив, что в это время запирают городские ворота, он пришпорил коня и, проезжая по подъемному мосту, едва не сбил с ног всадника, остановившегося, чтобы подтянуть подпругу своего седла.
Анри не принадлежал к числу знатных наглецов, без зазрения совести топчущих всех, кто не имеет герба. Проезжая, он извинился перед незнакомцем. Тот было оглянулся на него, но тотчас же снова опустил голову.
Анри, тщетно стараясь остановить лошадь, скачущую во весь опор, вздрогнул, словно увидел нечто такое, чего он никак не ожидал увидеть.
“Я схожу с ума, — говорил он себе, — Реми в Валансьене! Тот самый Реми, которого я оставил четыре дня назад на улице Бюсси! Реми один, без своей госпожи, — ведь, сдается мне, с ним какой-то юноша! Поистине, печаль мутит мне рассудок и расстраивает зрение настолько, что все окружающее принимает для меня облик того, о чем я неустанно думаю”.
Продолжая свой путь, он въехал в город, и подозрение, на миг возникшее в его уме, рассеялось.
Он остановил лошадь у первой попавшейся гостиницы, бросил поводья конюху и сел на скамейку у двери, ожидая, покуда ему приготовят комнату и ужин.
Но, сидя в задумчивости на этой скамейке, он вдруг увидел, что к нему приближаются те же два путника и что тот, кого он принял за Реми, часто оглядывается. Лицо другого скрывала шляпа с широкими полями.
Проходя мимо гостиницы, Реми увидел Анри на скамейке и опять отвернулся, но именно эта предосторожность помогла Анри узнать его.
— О, на этот раз я не ошибся, — прошептал Анри, — я совершенно хладнокровен, зрение мое не мутится, мысли не путаются, никаких видений у меня нет. А между тем то же самое явление повторяется, и, кажется, в одном из этих путников я узнаю Реми, слугу из дома в предместье. Нет, не хочу дольше оставаться в неизвестности, надо немедленно все выяснить.
Приняв это решение, Анри встал и пошел по главной улице по следам обоих путешественников. Но потому ли, что они уже зашли куда-нибудь, или потому, что они пошли другим путем, Анри их нигде не обнаружил. Он устремился к городским воротам. Они были уже заперты.
Расспрашивая, Анри обошел все гостиницы, и наконец кто-то сказал ему, что видел, как два всадника подъехали к захудалому постоялому двору на улице Бефруа.
Дю Бушаж поспел туда, когда хозяин уже собирался запереть дверь. Мигом учуяв в молодом приезжем знатную особу, хозяин стал предлагать ему ночлег и всяческие услуги. Анри тем временем зорко всматривался в глубь передней. При свете лампы, которую держала служанка, ему удалось увидеть Реми, поднимавшегося по лестнице. Спутника его он не увидел: по всей вероятности, тот, пройдя вперед, уже исчез из поля зрения.
Дойдя до самого верха, Реми остановился. На этот раз граф его определенно узнал: он невольно вскрикнул, и Реми обернулся на его голос.
Анри увидел его лицо с характерным шрамом, уловил его тревожный взгляд, и у него уже не оставалось никаких сомнений. Слишком взволнованный, чтобы немедленно принять решение, он удалился; сердце его тягостно сжималось: он спрашивал себя, почему Реми покинул свою госпожу и почему один едет по той же дороге, что и он.
Мы сказали “один”, потому что Анри сперва не обратил никакого внимания на второго всадника. Мысли его словно перекатывались из бездны в бездну.
На другой день Анри поднялся спозаранку, рассчитывая встретиться с обоими путниками в ту минуту, когда откроют городские ворота; он остолбенел, услышав, что ночью двое неизвестных просили у губернатора разрешения выехать из города и что, вопреки обыкновению, для них тотчас же отперли ворота.
Таким образом, они выехали около часу пополуночи и выгадали целых шесть часов. Анри нужно было наверстать потерянное время. Он пустил своего коня галопом, в Монсе настиг путников и обогнал их.
Он снова увидел Реми, но теперь тот должен был стать колдуном, чтобы узнать его: Анри переоделся в солдатское платье и купил другую лошадь.
Тем не менее бдительному слуге почти удалось перехитрить Анри — на всякий случай Реми шепнул что-то своему спутнику, и тот успел отвернуть лицо, которого Анри не увидел и на этот раз.
Но молодой человек не сдался. В первой же гостинице, где нашли приют путешественники, он принялся расспрашивать, и так как расспросы сопровождались тем, против чего трудно устоять, он в конце концов узнал, что спутник Реми был совсем молодой человек, очень красивый, но очень грустный, очень умеренный в пище и никогда не жалующийся на усталость.
Анри вздрогнул. У него внезапно блеснула мысль.
— Не женщина ли это? — спросил он.
— Возможно, — ответил хозяин гостиницы. — Сейчас здесь проезжает много женщин, переодетых мужчинами, в таком виде им легче попасть во Фландрскую армию к своим любовникам. Нам же, хозяевам гостиниц, полагается ничего не замечать, вот мы и не замечаем.
Это объяснение было для Анри тягчайшим ударом. Разве не было вполне возможным, что Реми сопровождает свою переодетую в мужское платье госпожу?
В таком случае — если это было правдой — Анри это ничего хорошего не сулило.
По всей вероятности, как и говорил хозяин гостиницы, неизвестная дама ехала во Фландрию к своему любовнику. Стало быть, Реми лгал, говоря о непреходящей печали незнакомки; стало быть, он измыслил небылицу о вечной любви, повергшей его госпожу в неизбывную скорбь, — измыслил для того, чтобы избавиться от человека, назойливо следившего за ними обоими.
— Ну что ж, — говорил себе Анри, для которого такое предположение было куда мучительней прежнего отчаяния, — ну что ж, тем лучше! Настанет минута, когда я смогу подойти к этой женщине и обвинить ее во всех ухищрениях, которые низводят ее, занимавшую такое высокое место в моих мыслях и сердце, на уровень самых посредственных представительниц ее пола. Тогда я, считавший ее существом почти божественным, увидев вблизи эту блестящую оболочку самой вульгарной души, — я, может быть, упаду с высот своих иллюзий, с высот своей любви.
И юноша рвал на себе волосы при мысли, что он может лишиться и той любви, и тех мечтаний, которые его убивали, ибо справедливо говорят, что умерщвленное сердце все же лучше опустошенного.
Как мы уже сказали, он опередил их и, все время раздумывая о том, что повлекло во Фландрию в одно время с ним этих двух человек, ставших необходимыми для его существования, увидел наконец, что и они въезжают в Брюссель.
Мы уже знаем, как он продолжал следить за ними.
В Брюсселе Анри собрал самые достоверные сведения о кампании, предпринятой герцогом Анжуйским.
Фламандцы были слишком враждебны герцогу, чтобы дружелюбно принять знатного француза: они слишком гордились только что одержанной победой — ибо недопущение в Антверпен герцога, призванного Фландрией, чтобы овладеть ею, было несомненной победой, — слишком гордились этим, чтобы отказать себе в удовольствии несколько унизить знатного француза, расспрашивавшего их с чистейшим парижским акцентом, во все времена казавшимся бельгийцам очень смешным.
У Анри тотчас возникли серьезнейшие опасения за исход этой экспедиции, в которой его брат играл такую значительную роль, поэтому он решил ускорить свой приезд в Антверпен.
Его изумляло то обстоятельство, что Реми и его спутница, явно заинтересованные в том, чтобы он их не узнал, упорно ехали одной с ним дорогой. Это доказывало, что и они направляются в Антверпен.
Выехав из городка, Анри, как уже известно читателю, спрятался в клевере с твердым намерением на сей раз заглянуть в лицо загадочного юноши, сопровождавшего Реми. Тогда все выяснится и с неизвестностью будет покончено. И именно там, как мы уже говорили, он раздирал себе грудь, боясь утратить эту химеру, которая пожирала его, но одновременно вливала в него тысячу жизней, ожидая мгновения, когда сможет его убить.
Когда путники поравнялись с молодым человеком, нимало не подозревая, что он поджидает их в поле у дороги, дама поправляла прическу — в гостинице она на это не отважилась.
Анри увидел ее, узнал и едва не рухнул без чувств в канаву, где мирно паслась его лошадь.
Всадники проехали мимо.
И тут Анри, такой кроткий, такой терпеливый, пока он верил, что жители таинственного дома действуют столь же честно, как и он сам, — Анри пришел в ярость. Ведь после заверений Реми, после лицемерных утешений дамы это путешествие или, вернее, это исчезновение представлялось чем-то вроде предательства по отношению к человеку, который так упорно и вместе с тем так почтительно осаждал их дверь.
Когда боль от удара, поразившего Анри, несколько притупилась, молодой человек встряхнул светлыми кудрями, отер покрытый испариной лоб и снова вскочил в седло, твердо решив отбросить все предосторожности, которые все же заставляло его принимать еще остававшееся уважение, и последовал за путешественниками совершенно открыто и не пряча своего лица.
Отброшен был плащ, отброшен капюшон, исчезла нерешительность — дорога принадлежала ему так же, как и всем, и он спокойно поехал по ней, приноравливая аллюр своего коня к аллюру коней, трусивших впереди.
Он дал себе слово, что не заговорит ни с Реми, ни с его спутницей, а только приложит все старания к тому, чтобы они его узнали.
“Да, да, — твердил он себе, — если их сердца не совсем еще окаменели, мое присутствие — хоть я и оказался тут случайно — будет жестоким упреком этим вероломным людям, которым так сладостно терзать мое сердце!”
Анри не успел проехать и пятисот шагов, следуя за обоими всадниками, как Реми заметил его. Увидев, что Анри нисколько не страшится быть узнанным, а едет, гордо подняв голову, обратясь к ним лицом, Реми смутился.
Дама, заметив его, обернулась.
— Ах, — воскликнула она, — кажется, это все тот же молодой человек, Реми?
Реми снова попытался разубедить и успокоить ее.
— Не думаю, сударыня, — сказал он. — Судя по одежде, это молодой валлонский солдат. Он, наверное, направляется в Амстердам и проезжает через места, где идут военные действия, в поисках приключений.
— Все равно, меня это тревожит, Реми.
— Успокойтесь, сударыня. Если бы этот молодой человек был граф дю Бушаж, он бы уже заговорил с нами. Вы же знаете, какой он настойчивый.
— Но я также знаю, как он почтителен, Реми. Не будь он таким, я бы сказала: велите ему удалиться, Реми, — и перестала бы об этом думать.
— Конечно, сударыня, раз уж он был настолько почтителен, то таким же и остался, и если даже мы предположим, что это он, вам его так же нечего опасаться на дороге в Антверпен, как и в Париже на улице Бюсси.
— Так или иначе, — продолжала дама, еще раз оборачиваясь, — мы уже в Мехельне. Сменим лошадей, если нужно, но мы должны как можно скорее попасть в Антверпен.
— В таком случае, сударыня, я бы посоветовал не заезжать в Мехельн: кони у нас хорошие; поедем в селение, которое виднеется вон там, налево, — кажется, оно называется Вилленброк; таким образом, мы избежим необходимости пребывания в гостинице, расспросов, любопытства досужих людей. А если понадобится сменить лошадей или одежду, там сделать это будет гораздо легче.
— Хорошо, Реми, едем прямо в селение.
Они свернули налево по узкой дороге, едва протоптанной, но явно ведшей в Вилленброк.
Анри свернул там же, где и они, и последовал за ними, соблюдая то же расстояние.
Тревога Реми проявлялась во взглядах, которые он бросал по сторонам, в резких движениях, особенно же в ставшей для него привычной манере с какой-то угрозой оборачиваться назад и внезапно пришпоривать коня.
Легко понять, что все эти проявления беспокойства не ускользали от его спутницы.
Они приехали в Вилленброк.
В двухстах домах, насчитывавшихся в селении, не оставалось ни одной живой души; среди этого запустения испуганно метались забытые хозяевами собаки, заблудившиеся кошки; собаки жалобным воем призывали своих хозяев; кошки же неслышно скользили по улицам, покуда не находили безопасное, на их взгляд, убежище, и тогда из дверной щели или отдушины погреба высовывалась лукавая, подвижная мордочка.
Реми постучался в два десятка домов, но на его стук никто не ответил.
В свою очередь, Анри, словно тень, ни на шаг не отстававший от обоих спутников, остановился у первого дома и постучался туда, но так же тщетно, как те, кто делал это до него. Тогда, уразумев, что селение опустело из-за военных действий, он решил, прежде чем продолжать путь, выяснить, что намереваются делать путники.
Они же и в самом деле приняли решение, как только их лошади поели зерна, которое Реми нашел в закроме гостиницы, покинутой хозяевами и постояльцами.
— Сударыня, — сказал Реми, — мы находимся в стране отнюдь не спокойной и в положении отнюдь не обычном. Мы не можем безрассудно кидаться навстречу опасности. По всей вероятности, мы наткнемся на отряд французов или фламандцев, возможно даже испанцев, ибо при том странном положении, в котором сейчас очутилась Фландрия, здесь должно быть множество авантюристов со всех концов света. Будь вы мужчиной, я бы говорил с вами по-иному, но вы женщина, молодая, красивая, и, значит, опасности подвергается и жизнь ваша, и честь.
— О, жизнь моя — это ничто, — сказала дама.
— Напротив, это все, сударыня, — ответил Реми, — когда у жизни имеется цель.
— Так что же вы предлагаете? Думайте и действуйте за меня, Реми. Вы же знаете, что мои мысли не на этой земле.
— Тогда, сударыня, — ответил слуга, — останемся здесь, поверьте, что так будет лучше. Здесь много домов, которые могут служить хорошим убежищем. У меня есть оружие, мы будем защищаться или спрячемся — в зависимости от того, сочту ли я, что мы достаточно сильны или слишком слабы.
— Нет, Реми, нет, я должна ехать дальше, ничто меня не остановит, — возразила дама, качая головой, — если бы я боялась, то только за вас.
— Раз так, — ответил Реми, — едем!
И, не сказав больше ни слова, он пришпорил свою лошадь.
Незнакомка последовала за ним, а Анри дю Бушаж двинулся в путь вслед за обоими всадниками.
V
ВОДА
По мере того как путники подвигались вперед, местность принимала все более странный вид.
Поля, казалось, так же обезлюдели, как городки и селения.
И впрямь, нигде на лугах не паслись коровы; нигде ни одна коза не щипала траву на склонах холмов и не старалась взобраться на живую изгородь, чтобы дотянуться до зеленых почек терновника или дикого винограда; нигде ни одного стада с пастухом, ни единого пахаря, идущего за плугом, ни коробейника, переходящего от села к селу с тяжелым тюком за плечами; нигде не звучала заунывная песня, которую обычно поет северянин-возчик, вразвалку шагающий за своей доверху нагруженной подводой.
Насколько хватал глаз на этих покрытых сочной зеленью равнинах, на холмах в высокой траве, на опушке лесов не было людей, не слышался голос человеческий. Наверно, такой выглядела природа накануне того дня, когда созданы были человек и животные.
Близился вечер, Анри, охваченный смутной тревогой, чутьем угадывал, что двое путников впереди — во власти таких же чувств, и вопрошал воздух, деревья, небесную даль и даже облака о причине этого загадочного явления.
Единственные фигуры, оживлявшие, выделяясь на золотом фоне заката, уныние этой пустыни, были Реми и его спутница, которые, склонясь, прислушивались, не долетит ли до них какой-нибудь звук; да шагах в ста от них Анри, сохранявший все то же расстояние.
Опустилась ночь, темная, холодная; протяжно завыл северо-западный ветер, и вой этот в бескрайних просторах был страшнее безмолвия, которое ему предшествовало.
Реми остановил свою спутницу, положив руку на повод ее коня, и сказал:
— Сударыня, вы знаете, что я не поддаюсь страху, вы знаете, что я не сделал бы и шага назад ради спасения своей жизни. Так вот, сегодня вечером во мне творится что-то странное, какое-то непонятное оцепенение сковывает, парализует меня, запрещая мне двигаться дальше. Сударыня, не считайте это страхом, робостью, даже паникой, но, сударыня, должен вам признаться, как на духу: впервые в жизни… мне страшно.
Дама обернулась. Может быть, она не уловила всех этих грозных признаков, может быть, не увидела ничего тревожного.
— Он все еще здесь? — спросила она.
— О, теперь дело уже не в нем, — ответил Реми. — Прошу вас, о нем вы не думайте. Он один, а я, во всяком случае, стою одного человека. Нет, опасность, которая меня страшит или, вернее, которую я чую, угадываю инстинктом больше, чем разумом, опасность эта, которая приближается, угрожает нам, которая нас, может быть, уже обволакивает, — она совсем иного свойства. Она неизвестна, и потому-то она меня и страшит.
Дама покачала головой.
— Смотрите, сударыня, — снова заговорил Реми, — видите там ивы со склоненными темными кронами?
— Да.
— Рядом с ними стоит домик. Умоляю вас, поедемте туда, если там есть люди, мы попросим их приютить нас. Если он покинут, мы займем его. Не возражайте, молю вас.
Волнение Реми, его дрожащий голос, настойчивая убедительность его речей заставили спутницу уступить.
Она дернула поводья, и лошадь ее двинулась по направлению, указанному Реми.
Спустя несколько минут путники постучались в дверь домика, стоявшего под сенью ив. У их подножия журчал ручеек, окаймленный двумя рядами тростниковых зарослей и двумя зелеными лужайками. Позади этого кирпичного, крытого черепицей домика был садик, окруженный живой изгородью.
Все было пусто, безлюдно, заброшено.
Никто не ответил на долгий, упорный стук путников.
Недолго думая, Реми вынул нож, срезал ветку ивы, просунул ее между дверью и замком и с силой нажал.
Дверь открылась.
Реми стремительно вбежал в дом. За что бы он сейчас ни брался, все делалось им с лихорадочной поспешностью. Замок грубой работы соседского кузнеца уступил почти без сопротивления.
Реми быстро ввел свою спутницу в дом, захлопнул за собой дверь и задвинул тяжелый засов.
Забаррикадировавшись таким образом, он перевел дух, словно избавился от смертельной опасности.
Найдя наконец пристанище для своей госпожи, Реми помог ей устроиться поудобнее в единственной комнате второго этажа, где нащупал в темноте кровать, стол и стул.
Несколько успокоившись насчет своей спутницы, он сошел вниз и сквозь щель ставен стал следить за каждым движением графа дю Бушажа, который, увидев, что они вошли в дом, тотчас же приблизился к нему.
Размышления Анри были мрачны и вполне соответствовали мыслям Реми.
“Несомненно, — думал он, — какая-то опасность, неизвестная нам, но известная местным жителям, нависла над страной: тут свирепствует война, французы взяли или вскоре возьмут Антверпен; крестьяне, не помня себя от страха, ищут убежища в городах”.
Правдоподобное это объяснение все же не удовлетворило молодого человека. К тому же его тревожили мысли другого порядка.
“Какие у Реми и его госпожи могут быть дела в этих местах? — спрашивал он себя. — Какая властная необходимость заставляет их спешить навстречу опасности? О, я это узнаю — настало время заговорить с этой женщиной и навсегда покончить с сомнениями. Сейчас для этого самый благоприятный случай”.
Он направился было к домику, но тотчас остановился.
“Нет, нет, — сказал он себе, внезапно поддавшись сомнениям, которые часто возникают в сердцах влюбленных. — Нет, я буду страдать до конца. Разве не вольна она поступать, как ей угодно? Разве я уверен в том, что она знает, какую небылицу сочинил о ней этот негодяй Реми? Его одного хочу я привлечь к ответу за то, что он уверял, будто она никого не любит! Однако нужно и тут быть справедливым: неужели этот человек должен был выдать мне тайну своей госпожи? Нет, нет. Горе мое безысходно, и самое страшное, что я никого не могу в нем винить. Для полноты отчаяния мне не хватает только одного — узнать всю правду до конца, увидеть, как эта женщина, прибыв в лагерь, бросается на шею кому-либо из находящихся там дворян и говорит ему: ”Видишь, как я намучилась, и пойми, как я тебя люблю!" Что ж! Я последую за ней до конца. Я увижу то, что так страшусь увидеть, и умру от этого, избавив от лишнего труда мушкет или пушку. Увы! Ты знаешь, Господи, — добавил Анри во внезапном порыве, возникавшем иногда в его душе, полной веры и любви, — я не искал этой последней муки. Я, улыбаясь, шел навстречу смерти обдуманной, молчаливой, славной. Я хотел пасть на поле битвы с неким именем на устах — твоим, Господи! С неким именем в сердце — ее именем! Но Ты не восхотел этого, Ты вручаешь меня кончине, полной отчаяния, горечи и мук. Будь благословен, я принимаю ее!"
Затем, вспомнив дни томительного отчаяния и бессонные ночи, проведенные перед домом, где были глухи к его мольбам, он подумал, что, пожалуй, если бы не сомнение, терзавшее его сердце, положение его сейчас лучше, чем в Париже, ибо теперь он порой видит ее, слышит ее голос, ощущает, как аромат любимой женщины в дуновении ветра ласкает его лицо.
Поэтому, устремив взгляд на хижину, где она заперлась, он продолжал размышлять: “Но в ожидании смерти и пока она отдыхает в этом доме, я таюсь тут, среди деревьев, и еще жалуюсь — я, имеющий сейчас возможность слышать ее голос, если она заговорит, заметить ее тень за окном! О нет, нет, я не жалуюсь! Господи, Господи, я ведь еще слишком счастлив!”
И Анри улегся под ивами, склонившими над домиком свои раскидистые ветви; с неописуемой грустью внимал он журчанию воды, струившейся рядом с ним.
Вдруг он встрепенулся: порыв ветра донес до него грохот пушечных залпов.
“Ах, — подумал он, — я опоздал, штурм Антверпена начался”.
Первым побуждением Анри было вскочить, сесть на коня и помчаться туда, откуда доносился гул битвы. Но это означало расстаться с незнакомкой и умереть, не разрешив своих сомнений.
Если бы их пути не пересеклись, Анри неуклонно продолжал бы идти к своей цели, не оглядываясь назад, не вздыхая о прошлом, не сожалея о будущем, но неожиданная встреча пробудила в нем сомнения, а вместе с ними — нерешительность. Он остался.
Два часа пролежал он, чутко прислушиваясь к дальней пальбе и с недоумением спрашивая себя, что могут означать более мощные залпы, которые время от времени перекрывали все другие.
Он был далек от мысли, что они означают гибель судов его брата, взорванных неприятелем.
Наконец, около двух часов пополуночи, гул стал затихать; к половине третьего наступила полная тишина.
Однако грохот канонады, по-видимому, не был слышен в доме, или же, если он туда проник, временные обитатели дома не обратили на него внимания.
“В этот час, — говорил себе дю Бушаж, — Антверпен уже взят; за Антверпеном последует Гент, за Гентом Брюгге, и мне вскоре представится случай доблестно умереть. Но перед смертью я хочу узнать, ради чего эта женщина едет во французский лагерь”.
После грохота канонады в природе наконец воцарилась тишина. Жуаез, завернувшийся в плащ, лежал неподвижно. Его одолела дремота, против которой на исходе ночи воля человека бессильна, но вдруг его лошадь, пасшаяся неподалеку, начала прядать ушами и тревожно заржала.
Анри открыл глаза.
Лошадь, стоя на всех четырех ногах и повернув голову назад, вдыхала ветер, который, переменившись с приближением рассвета, дул теперь с юго-востока.
— Что с тобой, верный мой товарищ? — спросил молодой человек, вскочив на ноги и ласково потрепав коня по шее. — Выдра, что ли, плыла и испугала тебя или тебе захотелось в уютное стойло?
Казалось, животное поняло его слова: словно силясь ответить хозяину, оно внезапным порывистым движением повернулось в сторону моря и, раздув ноздри, стало напряженно прислушиваться.
— Так, так! — вполголоса молвил Анри. — По-видимому, дело серьезнее, чем я думал: наверно, где-нибудь бродят волки, они ведь всегда следуют за войсками и пожирают трупы.
Лошадь заржала, опустила голову, затем быстрым, как молния, движением метнулась в западном направлении. Но Анри успел схватить ее за уздечку и остановить. Не разбирая поводьев, он вцепился в гриву лошади и вскочил в седло. Будучи отличным наездником, он быстро усмирил и сдержал коня.
Однако минуту спустя он услышал то, что раньше чутким слухом уловила лошадь, и с некоторым изумлением человек ощутил, что ему передается тот ужас, который овладел животным.
Немолчный ропот, подобный шуму ветра, низкий и в то же время пронзительный, доносился, казалось, и с севера, и с юга. Налетающие временами порывы холодного ветра, словно насыщенные влагой, вместе с доносившимся рокотом создавали впечатление, будто огромные волны разбиваются о каменистый берег.
“Что же это? — спрашивал себя Анри. — Ветер? Нет, ведь именно ветер доносит до меня этот гул, и я явственно различаю оба шума. Быть может, это поступь огромной армии? Нет, — он приник ухом к земле, — я бы расслышал ритмичную поступь, звон оружия, голоса. Может быть, это гул пожара? Опять же нет, ведь на горизонте ничто не светится, а небо, напротив, темнеет”.
Все нарастая, шум превратился в непрестанный грозный рокот, словно где-то вдали по булыжной мостовой везли тысячи пушек.
Такое предположение и возникло у Анри, но тотчас же было им отвергнуто.
— Невозможно, — сказал он, — в этих местах нет мощеных дорог, а в армии не найдется и тысячи пушек.
Гул приближался. Анри пустил коня галопом и въехал на ближайший пригорок.
— Что я вижу! — вскричал он, взобравшись на самый верх.
То, что он увидел, лошадь почуяла раньше него; заставить ее скакать в этом направлении он смог, только разодрав ей шпорами бока, а когда она достигла вершины пригорка, то встала на дыбы так, что едва не опрокинулась вместе со всадником. И лошадь и всадник увидели, что на горизонте от края до края расстилается ровная тускло-белая полоса, движущаяся по равнине гигантским кольцом по направлению к морю.
Полоса эта ширилась на глазах у Анри, словно развертывался кусок ткани.
Молодой человек все еще не мог разобраться в этом странном явлении, как вдруг, снова устремив взгляд на место, недавно им покинутое, он увидел, что луг залит водой, а ручей без видимой причины вышел из берегов и затопляет заросли тростника, каких-нибудь четверть часа назад отчетливо видные на обоих берегах.
Вода медленно подступала к домику.
— Глупец я несчастный! — вскричал Анри. — Как я сразу не догадался! Это вода! Фламандцы открыли плотины!
Он бросился к домику и принялся колотить в дверь, крича:
— Откройте! Откройте!
Никто не отозвался.
— Откройте, Реми! — еще громче закричал молодой человек, от ужаса теряя самообладание. — Это я, Анри дю Бушаж! Откройте!
— О, вам незачем называть себя, граф, — ответил изнутри Реми, — я давно узнал вас, но предупреждаю: если вы взломаете дверь, то найдете за ней меня с пистолетом в каждой руке.
— Стало быть, ты не хочешь понять меня, безумец! — с отчаянием в голосе завопил Анри. — Вода! Вода! Вода!
— Не рассказывайте небылиц, граф, не выдумывайте никаких предлогов и бесчестных хитростей. Повторяю, вы войдете сюда только через мой труп.
— Ну, что ж, я перешагну через него, — вскричал Анри, — но войду. Во имя Неба, во имя Бога и ради спасения твоего и твоей госпожи, открой мне!
— Нет!
Молодой человек оглянулся вокруг и увидел увесистый камень, подобный тем, которые, как повествует Гомер, швырял в своих врагов Аякс Теламонид. Он схватил этот камень, высоко поднял его над головой и с размаху кинул в дверь — она разлетелась в щепы.
В ту же минуту у самых ушей Анри, не задев его, прожужжала пуля.
Анри бросился на слугу.
Тот выстрелил во второй раз, но пистолет дал осечку.
— Да разве ты не видишь, одержимый, что я безоружен! — вскричал Анри. — Перестань защищаться от человека, который не нападает. Ты только посмотри, что происходит вокруг!
Он потащил Реми к окну и ударом кулака высадил раму.
— Ну видишь ты теперь, видишь?
И он указал ему на бескрайнюю гладь, белевшую на горизонте и с глухим шумом, словно несметное войско, подбиравшуюся все ближе и ближе.
— Вода! — прошептал Реми.
— Да, вода, вода! — вскричал Анри. — Она все затопляет. Гляди, что творится: речка вышла из берегов! Еще пять минут — и отсюда уже нельзя будет выбраться!
— Сударыня! — крикнул Реми. — Сударыня!
— Не кричи, Реми, соберись с духом. Седлай лошадей, живо! Живо!
“Он любит ее, — подумал Реми. — Он ее спасет”.
Реми бросился в конюшню. Анри взбежал на второй этаж.
На зов Реми дама открыла дверь.
Дю Бушаж взял ее на руки, словно ребенка. Но она, вообразив, что стала жертвой измены, отбивалась изо всех сил, цепляясь за дверь.
— Скажи же, скажи же ты ей, — закричал Анри, — что я хочу спасти ее!
Реми услышал возглас Анри в ту минуту, когда подходил к домику, ведя под уздцы обеих лошадей.
— Да, да! — кричал он. — Да, сударыня! Он вас спасает! Скорей! Скорей!
VI
БЕГСТВО
Не теряя времени на то, чтобы успокоить незнакомку, Анри вынес ее из домика и хотел было посадить впереди себя на своего коня. Но она с выражением неприязни выскользнула из его рук. Реми подхватил ее и усадил на приготовленную для нее лошадь.
— Что вы делаете, сударыня! — воскликнул Анри. — И как ошибочно толкуете вы мои сокровеннейшие побуждения! Я сейчас и не помышляю о блаженстве заключить вас в свои объятия и прижать к своей груди, хотя за такую милость я с радостью отдал бы жизнь. Сейчас нам надо мчаться быстрее, чем летит птица. Да вот, глядите: птицы и впрямь стремительно несутся прочь.
И действительно, в едва брезжившем рассвете можно было видеть, как целые стаи кроншнепов и голубей рассекают пространство в торопливом испуганном полете, и в ночи, когда обычно в воздух поднимаются только безмолвные летучие мыши, этот шумный перелет, подхлестываемый резкими порывами ветра, казался зловещим для слуха и завораживал взгляд.
Дама ничего не ответила. Она уже была в седле и сейчас, не оборачиваясь, пустила коня быстрым аллюром. Но лошади обоих — ее и Реми — были изнурены двумя днями почти непрерывной езды. Анри то и дело оборачивался и, видя, что они не поспевают за ним, всякий раз говорил:
— Глядите, сударыня, насколько моя лошадь опережает ваших, хоть я и сдерживаю ее. Ради всего святого, сударыня, я уже не прошу разрешения держать вас, усадив на своего коня, но тогда пересядьте на мою лошадь, а мне отдайте свою.
— Благодарю вас, сударь, — неизменно отвечала незнакомка все тем же спокойным голосом, в котором нельзя было уловить ни малейшего волнения.
— Сударыня, сударыня, — воскликнул вдруг Анри, бросив назад полный отчаяния взгляд. — Вода настигает нас! Слушайте! Слушайте!
Действительно, в эту минуту раздался ужасающий треск: плотина ближнего поселка не выдержала напора воды. Бревна настила, насыпь — все поддалось бешеному натиску, и вода уже хлынула в ближнюю дубовую рощу; было видно, как сотрясаются кроны деревьев, было слышно, как жалобно скрипят ветки, словно рой демонов быстро проносился в их пышной листве.
Вырванные с корнем деревья бились о колья, деревянные части разрушенных домов качались на воде, отдаленное ржанье и крики людей и лошадей, уносимых наводнением, сливались воедино и были так зловещи, что дрожь, сотрясавшая Анри, передалась и бесстрастному, окаменевшему сердцу незнакомки.
Она пришпорила коня, а тот и сам, чуя грозную опасность, делал отчаянные усилия, чтобы избегнуть гибели.
Между тем вода все надвигалась и надвигалась, и стало ясно — через каких-нибудь десять минут она захлестнет путников.
Анри поминутно останавливался, поджидал своих спутников и кричал им:
— Ради Бога, сударыня, скорей, вода гонится за нами, она уже совсем близко, вот она!
Действительно, вода уже настигала их, пенистая, бушующая, она словно перышко смела домик, где Реми нашел убежище для своей госпожи, как соломинку подхватила лодку, привязанную к иве на берегу реки, и, величественная, могучая, свиваясь и развиваясь, подобно неудержимо скользящей вперед исполинской змее, зловещей громадой надвигалась на Реми и незнакомку.
Анри закричал от ужаса и кинулся к воде, словно желал сразиться с ней.
— Неужто вы не видите, что погибли? — в отчаянии завопил он. — Сударыня, еще есть время, сядьте вместе со мной на мою лошадь!
— Нет, сударь! — ответила она.
— Еще минута, и будет поздно. Оглянитесь, оглянитесь!
Дама оглянулась — вода была уже в каких-нибудь пятидесяти шагах от них.
— Да свершится мой удел! — сказала она. — А вы, сударь, спасайтесь, бегите отсюда.
Лошадь Реми в полном изнеможении рухнула на передние ноги, и все усилия седока заставить ее подняться оказались напрасны.
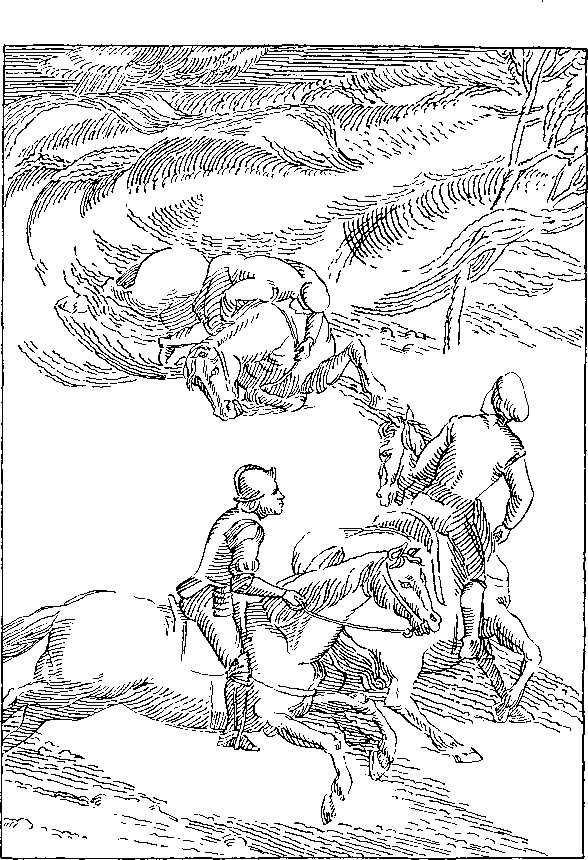
— Спасите мою госпожу! Спасите даже против ее воли! — закричал Реми.
В ту же минуту, пока он старался высвободить ноги из стремян, масса воды, словно каменная глыба, обрушилась на голову верного слуги.
Увидев это, его госпожа издала душераздирающий вопль и соскочила со своего коня, решив умереть вместе с Реми.
Но Анри, разгадавший ее намерение, тоже мгновенно спешился; правой рукой он обхватил ее стан, снова вскочил со своей ношей в седло и стрелой помчался вперед.
— Реми! Реми! — кричала дама, простирая к нему руки. — Реми!
Ей ответил чей-то крик. Это Реми вынырнул на поверхность и с той несокрушимой, хотя и безумной надеждой, которая до конца не оставляет погибающего, плыл, ухватившись за бревно.
Мимо Реми проплыла его лошадь, с отчаянием загребая передними ногами; вода уже покрывала лошадь его госпожи, а всего шагах в двадцати от воды Анри со своей спутницей уже мчались на обезумевшем от ужаса коне.
Реми уже не сожалел о своей жизни — ведь, умирая, он надеялся, что та, что была для него всем на свете, будет спасена.
— Прощайте, сударыня, прощайте! — крикнул он. — Я ухожу первый и передам тому, кто ждет нас обоих, что вы живете единственно ради…
Он не успел договорить: его настигла и погребла под собой огромная волна, разбившаяся уже у самых ног лошади Анри.
— Реми! Реми! — простонала дама. — Реми, я хочу умереть с тобой! Сударь, позвольте мне спешиться. Клянусь Богом животворящим, я так хочу!
Она произнесла эти слова так решительно, с такой неукротимой властностью, что молодой человек разжал руки и помог ей сойти, говоря:
— Хорошо, сударыня. Мы умрем здесь все трое. Благодарю вас за то, что вы даруете мне эту радость, на которую я не смел надеяться.
Пока он с трудом сдерживал лошадь, другая огромная волна настигла его, но самозабвенная любовь Анри была такова, что ему удалось, несмотря на ярость стихии, удержать подле себя молодую женщину, соскочившую с лошади.
Он крепко сжимал ее руку, волна за волной обрушивались на них, и несколько секунд они носились по бурным водам среди обломков.
Изумительно было хладнокровие молодого человека, столь юного и столь преданного. По пояс в воде, он одной рукой поддерживал Диану, а коленями пытался направлять лошадь, употребляя последние усилия, которые она старалась делать для своего спасения.
Это был момент напряженнейшей борьбы — дама, поддерживаемая правой рукой Анри, еще могла держать голову над водой, а левой рукой Анри отметал в сторону плавающие куски дерева или трупы: ведь от любого удара конь его мог быть раздавлен или пошел бы ко дну.
Вдруг у одного из мертвецов вырвался крик или, вернее, вздох:
— Прощайте, сударыня, прощайте!
— Клянусь Небом! — воскликнул молодой человек. — Это Реми! Что ж, я и тебя спасу!
И, не думая о том, как губительна всякая излишняя тяжесть, он схватил Реми за рукав, притянул его к левому бедру и дал ему глотнуть воздуха.
Но тут лошадь, вконец обессиленная тройным бременем, погрузилась в волны по шею, затем — по глаза и спустя мгновение ушла под воду.
— Гибель неминуема! — прошептал Анри. — Господи, прими мою жизнь, она была чиста. А вы, сударыня, — прибавил он, — примите мою душу, она принадлежала вам!
В эту минуту он почувствовал, что Реми выскользнул из-под его руки. Уверенный, что отныне всякая борьба бесполезна, молодой человек даже не попытался удержать его.
Единственной его заботой теперь было поддерживать незнакомку над водой, чтобы она, во всяком случае, погибла последней и чтобы он мог сказать самому себе в свой последний миг, что он сделал все возможное, чтобы отнять ее у смерти.
Он уже сосредоточился на мысли о смерти, как вдруг рядом с ним раздался радостный возглас.
Он обернулся и увидел, что Реми добрался до какой-то лодки.
Это была лодка, находившаяся вблизи домика, которую, как мы уже видели, подняла вода. Вода же и увлекла ее, а Реми, собравшийся с силами благодаря помощи, полученной от Анри, увидел, что она плывет совсем рядом с ними, отделился от Анри и своей госпожи и, задыхаясь, в два рывка очутился возле нее.
Весла были привязаны к лодке, на дне лежал багор.
Реми протянул молодому человеку багор; тот схватил его и, по-прежнему поддерживая одной рукой даму, увлек ее за собой. Затем он приподнял ее и передал Реми и наконец, схватившись за борт, сам вскочил в лодку.
Первые проблески зари осветили необъятную, залитую водой равнину и лодку, подобно жалкой скорлупе плывшую в этом усеянном обломками океане.
Левее лодки, шагах в двухстах от нее, виднелся невысокий холм; со всех сторон окруженный водой, он казался островком. Анри взялся за весла и стал грести, направляя лодку к холму, куда вдобавок их несло течение.
Реми орудовал багром. Стоя на носу, он отталкивал доски и бревна, о которые лодка могла разбиться. Благодаря силе Анри и ловкости Реми лодка вскоре причалила к холму.
Реми выпрыгнул и, схватив цепь, притянул лодку к себе.
Анри подошел к незнакомке, чтобы перенести ее на руках, но она жестом отстранила его и сама выпрыгнула из лодки на берег.
Анри печально вздохнул. У него мелькнула мысль снова броситься в пучину и умереть на глазах у возлюбленной. Но необоримое чувство приковывало его к жизни, пока он видел эту женщину. Ведь он так долго и так тщетно жаждал ее присутствия!
Он вытащил лодку на берег и, бледный как смерть, уселся неподалеку от Реми и незнакомки. С его одежды лилась вода, но он страдал больше, чем если бы истекал кровью.
Они избежали непосредственной опасности — наводнения: как бы высоко ни поднялась вода, верхушку холма она залить не могла. Теперь они могли созерцать бушующую вокруг них стихию: только Божий гнев грознее ее ярости. Анри не отрывал взгляда от катившихся мимо него волн, уносивших трупы французских солдат, их оружие, лошадей.
Реми ощущал сильную боль в плече: какое-то бревно ударило его в ту минуту, когда лошадь под ним погрузилась в пучину.
Спутница его была невредима и страдала только от холода. Анри отвратил от нее все бедствия, какие в силах был отвратить. Молодая женщина первая встала на ноги и сообщила своим спутникам, что на западе сквозь туман поблескивают огни. Можно не сомневаться в том, что огни эти горели на какой-то недоступной наводнению возвышенности. Насколько можно было судить в холодных сумерках утра, огни эти горели на расстоянии одного лье от путников.
Реми прошел по гребню холма в направлении огней и, вернувшись, сообщил, что, по его предположению, футах в тысяче от места, где они сделали привал, начинается нечто вроде насыпи, прямиком ведущей к этим огням. О насыпи или, во всяком случае, о дороге Реми подумал потому, что он увидел двойной ряд деревьев, прямой и ровный.
Анри тоже высказал свои соображения, вполне совпадающие с догадками Реми. Однако в тех условиях, в каких они находились, ничего нельзя было утверждать с достоверностью. Стремительный бег вод, низвергавшихся по склону равнины, заставил путников сделать большой крюк влево. К этому добавился беспорядочный бег их коней, так что теперь они никак не могли определить, где находятся.
Правда, наступил день, но небо было облачным, клубился туман; в ясную погоду они увидели бы колокольню Мехельна, ибо от него их отделяли каких-нибудь два лье.
— Ну как, ваше сиятельство, — спросил Реми, — что вы думаете об этих огнях?
— Вы, по-видимому, полагаете, что они сулят нам радушный прием. Я же усматриваю в них угрозу, по-моему, их следует остерегаться.
— Почему?
— Реми, — сказал Анри понижая голос, — поглядите на эти трупы, плывущие мимо нас: это сплошь французы, ни одного фламандца. Фламандцы открыли плотины, чтобы уничтожить либо остатки французской армии, если она была разбита, либо плоды ее торжества, если она победила. Какие у нас основания считать, что огни зажжены друзьями, а не врагами и что они не просто хитрость для привлечения беглецов?
— Однако, — возразил Реми, — мы не можем оставаться здесь: голод и холод убьют мою госпожу.
— Вы правы, — ответил Анри, — оставайтесь с ней, а я доберусь до насыпи и вернусь сказать вам, что я там нашел.
— Нет, сударь, — сказала дама, — вы не пойдете один навстречу опасности: вместе мы спаслись, вместе и умрем. Дайте мне руку, Реми. Я готова.
В каждом слове этой странной женщины звучала властность, противоборствовать которой было немыслимо. Анри молча поклонился и первым двинулся в путь.
Наводнение несколько стихло. Насыпь, доходившая почти до холма, образовывала нечто вроде бухточки, где вода казалась стоячей. Трое путников сели в лодку и снова поплыли среди обломков и трупов. Через четверть часа они причалили к насыпи.
Они привязали лодку к дереву и, пройдя по насыпи около часа, добрались до фламандского поселка, посреди которого на площадке, обсаженной липами, под сенью французского знамени, вокруг ярко пылавшего костра, расположились две-три сотни солдат.
Внезапно часовой, стоявший шагах в ста от бивака, раздул фитиль своего мушкета и крикнул:
— Кто идет?
— Франция, — ответил дю Бушаж. — Теперь сударыня, вы спасены, — прибавил он, обращаясь к незнакомке. — Я узнаю штандарт Онисского дворянского корпуса, в котором у меня есть друзья.
Услыхав возглас часового и ответ графа, навстречу прибывшим бросились несколько офицеров. Скитальцев, появившихся на биваке, приняли вдвойне радушно: во-первых, потому, что они уцелели среди неописуемых бедствий, во-вторых, потому, что оказались соотечественниками.
Анри назвал себя и своего брата и рассказал, каким чудесным образом они спаслись от гибели, казалось, неминуемой.
Реми и его госпожа молча уселись в сторонке. Анри подошел к ним и пригласил расположиться поближе к огню.
Оба были еще совершенно мокрые.
— Сударыня, — сказал Анри, — к вам здесь будут относиться так же почтительно, как в вашем собственном доме. Я позволил себе сказать, что вы моя родственница, соблаговолите простить меня.
Если бы Анри заметил взгляд, которым обменялись Реми и Диана, он счел бы себя вознагражденным за свое мужество и деликатность.
Онисские кавалеристы, оказавшие гостеприимство нашим скитальцам, отступили в полном порядке, когда после поражения началось повальное бегство и командиры бросили армию на произвол судьбы.
Нередко видишь, что там, где все попали в одинаковое положение, объединены одними и теми же чувствами и привычкой жить вместе, единство в помыслах приводит к решительности и быстроте в действиях.
Именно это и произошло в ту самую ночь с онисскими кавалеристами.
Видя, что начальники оставили их на произвол судьбы, а другие полки ищут самых различных путей для спасения, они переглянулись, сомкнули ряды, вместо того чтобы разбежаться в разные стороны, пустили коней в галоп и под водительством одного из своих старших офицеров, которого очень любили за храбрость и так же чтили за высокое происхождение, направились по дороге в Брюссель.
Подобно всем участникам этой ужасающей драмы, они видели, как наводнение становится все более грозным и разъяренные волны несут им гибель, но, на свое счастье, волей случая они попали в поселок, где мы их застали, — место, выгодно расположенное и для обороны от неприятеля, и для защиты от стихии.
Уверенные в свой безопасности мужчины этого поселка остались дома, отослав в город женщин, детей и стариков. Поэтому онисские воины, войдя в поселок, натолкнулись на сопротивление; но смерть, злобно завывая, гналась за ними по пятам, — они сражались с мужеством отчаяния, потеряли десять человек и обратили фламандцев в бегство.
Через час после этой победы к поселку со всех сторон подступила вода. Не затоплена была только насыпь, по которой затем пришли Анри и его спутники.
Таков был рассказ, услышанный дю Бушажем от расположившихся в поселке французов.
— А остальные воины? — спросил он.
— Глядите, — ответил офицер, — мимо вас плывут трупы; вот ответ на ваш вопрос.
— А… мой брат? — сдавленным голосом спросил дю Бушаж.
— Увы, граф, мы не можем сообщить вам ничего достоверного. Он сражался как лев. Известно лишь одно: в бою он остался жив, но мы не знаем, уцелел ли он во время наводнения.
Анри низко опустил голову и предался горьким размышлениям. Но затем он быстро спросил:
— А герцог?
Наклонившись к Анри, офицер вполголоса сказал:
— Граф, герцог бежал одним из первых. Он ехал на белом коне с черной звездой на лбу. Так вот, совсем недавно этот конь проплыл мимо нас среди обломков. Нога всадника запуталась в стремени и торчала из воды на уровне седла.
— Великий Боже! — вскричал дю Бушаж.
— Великий Боже! — прошептал Реми, который услышав вопрос Анри: “А герцог?” — встал, подошел ближе и, когда он услышал рассказ офицера, взгляд его мгновенно метнулся в сторону его бледной спутницы.
— А дальше? — спросил граф.
— Да, дальше? — пробормотал Реми.
— Сейчас скажу. Один из моих солдат отважился нырнуть в самый водоворот; вон там, в углу насыпи, смельчак поймал повод и приподнял мертвую лошадь. Тут-то мы и разглядели белую ботфорту с золотой шпорой, какие всегда носил герцог. Но в ту же минуту вода поднялась, словно опасаясь, что у нее хотят отнять добычу. Солдат выпустил повод, чтоб его не унесло, и все мигом исчезло. Мы даже не можем утешить себя тем, что обеспечили христианское погребение нашему принцу.
— Стало быть, он умер! Умер! Нет более наследника французского престола! Какое несчастье!
Реми обернулся к своей спутнице и с выражением совершенно непередаваемым произнес:
— Он умер, сударыня. Вы видите.
— Хвала Господу, избавившему меня от необходимости совершить преступление! — ответила она, в знак благодарности воздевая руки и поднимая глаза к небу.
— Да, но Господь лишает нас отмщения, — возразил Реми.
— Богу всегда принадлежит право помнить. Человек совершает отмщение лишь тогда, когда забывает Бог.
Анри с глубокой тревогой смотрел на этих странных людей, которых спас от гибели. Он видел, что они необычайно взволнованы, и тщетно старался по их жестам и выражению лица уяснить себе, чего они желают и что их тревожит.
Из раздумья его вывел голос офицера, обратившегося к нему с вопросом:
— А вы, граф, что намерены предпринять?
Анри вздрогнул.
— Я буду ждать, пока мимо меня не проплывет тело моего брата, — с отчаянием в голосе ответил он, — тогда я тоже постараюсь вытащить его из воды, чтобы похоронить по христианскому обычаю, и, поверьте мне, я уже не расстанусь с ним.
Реми услышал эти зловещие слова и бросил на Анри взгляд, полный ласковой укоризны.
Что касается дамы, то с той минуты, как офицер возвестил о смерти герцога, она стала глуха ко всему вокруг: она молилась.
Назад: XXVI ДВЕРЬ ОТВОРЯЕТСЯ
Дальше: VII ПРЕОБРАЖЕНИЕ

