Невероятная история
Однажды утром, едва только я успел проснуться, как в спальню ко мне вошел мой слуга и принес мне письмо с надписью: "Срочно". Он раскрыл занавески — день (по всей вероятности, по ошибке) был прекрасен, и сияющее солнце победоносно ворвалось в комнату. Я протер глаза, чтобы посмотреть, от кого пришло это письмо, весьма удивленный тем, что оно было лишь одно. Почерк был мне совершенно незнаком. Довольно долго повертев конверт перед глазами в попытке разгадать, кем же он был подписан, я наконец открыл его. Вот что оно содержало:
"Сударь!
Я прочел ‘Трех мушкетеров ", ибо я богат и у меня много свободного времени…"
"Вот счастливый человек!" — подумал я и продолжал чтение.
"Должен признать, что эта книга изрядно меня позабавила; однако, имея много свободного времени, я решил из любопытства выяснить, действительно ли Вы все взяли из "Мемуаров г-на де ла Фера ". Я живу в Каркасоне и потому в письме попросил одного из моих парижских друзей пойти в Библиотеку, взять эти мемуары и написать мне, действительно ли Вы заимствовали оттуда все подробности. Мой друг, человек серьезный, ответил мне, что Вы скопировали все слово в слово и что все вы, авторы, только этим и занимаетесь. Посему предупреждаю Вас, сударь, что я многим в Каркасоне рассказал об этом, и, если такое будет продолжаться, мы все откажемся от подписки на "Век".
Имею честь приветствовать Вас,
***"
Я позвонил.
— Если сегодня придут еще письма, держите их у себя, — сказал я слуге, — и не отдавайте их мне до тех пор, пока не увидите меня в очень веселом настроении.
— К рукописям это тоже относится, сударь?
— Почему вы спрашиваете?
— Да вот только что принесли тут одну…
— Только этого не хватало! Положите ее куда-нибудь, где она не может потеряться, но не называйте мне это место.
Он положил ее на камин, и это определенно убедило меня в том, что мой слуга весьма сообразителен.
Было пол-одиннадцатого; я взглянул в окно: как уже было сказано, день был великолепный, солнце, казалось, навсегда разогнало облака, и у прохожих вид был если не счастливый, то, по меньшей мере, довольный.
У меня, как и у всех, возникло желание подышать свежим воздухом не через окно; я оделся и вышел из дома.
Совершенно случайно, прогуливаясь то по одной, то по другой улице — случайно, подчеркиваю, — я оказался около Библиотеки.
Я поднялся в нее; навстречу мне вышел, как всегда, Парис, мило улыбаясь.
— Итак, — сказал я, — дайте-ка мне "Мемуары де ла Фера".
Секунду Парис смотрел на меня, как если бы ему надо было дать ответ сумасшедшему, а потом весьма хладнокровно заметил:
— Вы прекрасно понимаете, что таких мемуаров не существует, ведь это вы заявили, что они существуют!
Эта фраза, при всей ее краткости, показалась мне исполненной силы, и, чтобы поблагодарить Париса, я протянул ему письмо из Каркасона.
Кончив читать, он заметил:
— В утешение скажу вам, что вы не первый, кто просит "Мемуары де ла Фера"; по крайней мере, человек тридцать уже приходили только за этим; они должны вас возненавидеть за то, что вы заставили их напрасно побеспокоиться.
Мне нужно было найти одну повесть, и, поскольку я оказался в Библиотеке, а некоторые утверждают, что это то место, где можно отыскать уже готовые к изданию романы, я попросил посмотреть каталог.
Разумеется, ничего подобного там не было.
К вечеру, вернувшись домой, я обнаружил прямо на своем столе среди собственных бумаг рукопись, пришедшую утром. День все равно был потерян, и я открыл ее.
К ней была приложена записка. Право же, то был день анонимных писем; впрочем, это послание было еще более странное, чем утреннее.
Сударь!
К тому времени, когда Вы прочтете эти листки, написавший их человек исчезнет навеки. От меня останутся только эти страницы, и я дарю их Вам — делайте с ними что хотите…
Заглавие рукописи было — "Невероятная история".
Не знаю почему, возможно, из-за сгущающейся темноты, но уже первые прочитанные мною строчки меня потрясли. Вот что я прочел.
ИСТОРИЯ МЕРТВЕЦА,
РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ
Как-то в декабрьский вечер мы сидели втроем в мастерской художника; было сумрачно и холодно, монотонный дождь беспрестанно барабанил по стеклам.
Мастерская была огромная и слабо освещалась отблеском огня в печке, рядом с которой мы все расположились.
Хотя мы все были молоды и жизнерадостны, обстановка этого грустного вечера, вопреки нашему желанию, сказывалась на тоне нашей беседы, и веселые речи быстро исчерпались.
Красивое пламя голубого пунша, все время поддерживаемое одним из нас, бросало причудливые отсветы на все окружающее; огромные эскизы, изображения распятого Христа, вакханки, Мадонны, казалось, двигались и плясали на стенах, словно гигантские трупы, накладываясь друг на друга на общем зеленоватом фоне. Огромная комната, заполненная творениями художника, воплощением его грез, такая сияющая при свете дня, в этот вечер, окутанная тьмой, выглядела так странно!
Каждый раз, когда в заполненную пылающей жидкостью чашу опускался серебряный ковш, на стенах вырисовывались невиданных цветов фигуры с незнакомыми очертаниями: от древних пророков с белыми бородами до карикатур, подобных тем, что заполняют стены мастерских, — это было похоже на войско демонов, являющихся нам во сне или толпящихся на полотнах Гойи. Безмолвие, мгла и холод, царившие за окном, только усиливали причудливость обстановки в комнате.
Стоит добавить, что при этих коротких вспышках света каждый из нас видел зеленовато-серые лица других, с застывшими и сверкающими, как карбункулы, глазами, бледными губами и впалыми щеками; но самым ужасным был вид гипсовой маски, слепок с лица нашего недавно умершего друга: она висела на стене, рядом с окном, и на три четверти освещалась вспышками горящего пунша, что придавало ей чрезвычайно насмешливое выражение.
Все люди, так же как и мы, обычно поддаются воздействию на них больших темных комнат — из тех, что описаны Гофманом и изображены Рембрандтом; каждый хоть раз в своей жизни ощущал беспричинный страх, непроизвольное волнение, охватывающее его при виде таинственных очертаний предметов в бледных лучах луны или в тусклом свете лампы; всякий, кто бывал в таких мрачных огромных помещениях в компании друзей, рассказывающих невероятные истории, помнит невольный ужас, испытанный им; покончить с этим очень легко — стоит только зажечь свет или изменить тему беседы, но никто не спешит это делать, ведь наши бедные сердца нуждаются в сильных переживаниях, будь то истинных или надуманных.
Итак, как мы сказали, в этот вечер нас было трое. Наша беседа не текла в каком-то определенном направлении, а перескакивала с предмета на предмет, отражая мысли двадцатилетних: то легкие, как дым наших сигарет, то веселые, как пламя пунша, то сумрачные, как усмешка гипсовой маски.
В конце концов мы умолкли. Сигары, повторяя движение наших голов и рук, казались тремя порхающими в темноте пятнами света.
Было очевидно, что первый, кто нарушит молчание и скажет что угодно, даже шутку, заставит испуганно вздрогнуть двух других, настолько каждый из нас был погружен в свои тревожные грезы.
— Анри, — обращаясь к художнику, заговорил тот, кто готовил пунш, — ты читал Гофмана?
— Еще бы! — ответил Анри.
— И что ты о нем думаешь?
— Мне его произведения кажутся просто восхитительными, но восхитительнее всего то, что он явно верит всему, о чем пишет. И если я читаю его вечером, то очень часто ложусь спать, не закрывая книгу и не осмеливаясь оглянуться по сторонам.
— Ты так любишь фантастику?
— Очень.
— А ты? — спросил он, обращаясь ко мне.
— Я тоже.
— Что ж, в таком случае я расскажу вам невероятную историю, приключившуюся со мной.
— Иначе этот вечер и не мог кончиться! Рассказывай!
— Это произошло именно с тобой? — уточнил я.
— Да.
— Рассказывай, сегодня я расположен поверить всему!
— Тем более что ручаюсь вам: именно я герой этой истории.
— Ну, тогда начинай, мы слушаем!
Он опустил ковш в чашу. Пламя понемногу стало гаснуть; мы оказались в полной тьме, и только наши ноги освещал отблеск огня в печи.
Наш товарищ начал свой рассказ.
— Однажды вечером, примерно год тому назад, погода была совсем как сегодня, такая же дождливая, холодная и сумрачная. У меня было много больных, и, покончив с последним визитом, вместо того чтобы, как обычно, заглянуть к Итальянцам, я приказал отвезти меня домой. Жил я на одной из самых пустынных улиц Сен-Жерменского предместья. Я очень устал и сразу же лег спать. Потушив лампу, какое-то время я развлекался, разглядывая тени, пляшущие на кроватном пологе от огонька моей сигары, потом глаза мои закрылись и я заснул.
Я проспал примерно час, когда почувствовал, что чья-то рука настойчиво меня трясет. Пробуждение было внезапным, как у человека, намеревавшегося спать долго, и я с удивлением посмотрел на ночного посетителя. Это был мой слуга.
"Сударь, — сказал он, — поднимайтесь поскорее! Вас зовут к умирающей молодой женщине".
"Где она живет?" — спросил я.
"Почти напротив; тот, кто пришел за вами, вас проводит".
Я встал, поспешно оделся, считая что позднее время и обстоятельства извиняют небрежность моего костюма, взял ланцет и пошел следом за провожатым.
Дождь лил сплошной стеной.
К счастью, нам надо было всего лишь перейти улицу. Особа, нуждавшаяся в моей помощи, жила в большом аристократическом особняке. Я пересек широкий двор, поднялся на несколько ступенек крыльца, прошел через вестибюль, где моего прихода уже ожидали слуги; меня проводили на следующий этаж, и вскоре я оказался в комнате больной. Это было большое помещение, обставленное резной мебелью черного дерева. Ввела меня туда только одна женщина: никто более за нами не последовал. Я прошел прямо к большой кровати со стойками, затянутой старинным роскошным шелком, и на подушке увидел восхитительную головку Мадонны, не снившуюся и Рафаэлю. Золотые волосы, словно поток Пактола, обрамляли лицо с ангельскими очертаниями; полуоткрытый рот позволял увидеть двойной ряд жемчужных зубов, глаза были полузакрыты, шея поражала белизной и чистотой линий; распахнутая рубашка позволяла увидеть красивейшую грудь, способную ввести в искушение святого Антония; когда же я взял ее руку, то вспомнил белизну рук Юноны, какой наделил ее Гомер. В этой женщине воплощался тип христианского ангела и языческой богини; все в ней говорило о чистоте души и пылкости натуры. Она могла бы позировать для образа как Девы Марии, так и сладострастной вакханки, могла бы свести с ума стоика и превратить атеиста в верующего; приблизившись к ней, я уловил исходящий от нее сквозь жар лихорадки таинственный женский аромат, сотканный из всех ароматов цветов.
Я застыл, забыв о том, что привело меня сюда, глядя на нее как на призрачное видение, не находя ничего подобного ни в своей памяти, ни в своих грезах, как вдруг она повернула голову ко мне, раскрыла свои огромные синие глаза и пролепетала:
"Я очень страдаю".
Однако ничего серьезного у нее не было. Одно кровопускание, и она будет спасена. Я взял ланцет, но, прикоснувшись к этой белой прекрасной руке, почувствовал, как моя рука дрогнула. Но все же долг врача во мне возобладал; я вскрыл ее вену, и чистая коралловая кровь потекла потоком. Больная лишилась чувств.
Я не хотел отходить от нее и продолжал стоять рядом, испытывая тайное блаженство от того, что жизнь этой женщины была в моих руках; я остановил ей кровь, постепенно она открыла глаза, поднесла к груди оставшуюся свободной руку, повернулась ко мне и посмотрела на меня одним из тех взглядов, что либо губит, либо спасает.
"Спасибо, мне лучше", — прошептала она.
Все вокруг нее так было напоено наслаждением, любовью и страстью, что я застыл на месте как пригвожденный, согласовывая каждый удар собственного сердца с биением ее сердца; прислушиваясь к ее еще слегка лихорадочному дыханию и говоря себе, что если и есть на земле что-то от Небес, то это, должно быть, любовь такой женщины.
Она заснула.
Я стоял на ступеньках перед ее кроватью, почти коленопреклоненно, как священник перед алтарем. Мягкий свет алебастровой лампы, висящей под потолком, падал на все окружающие предметы. Я был с ней один. Женщина, проводившая меня сюда, вышла сказать всем, что госпоже стало лучше и она ни в ком не нуждается. В самом деле, красавица в своем спокойствии и прелести походила на ангела, уснувшего со словами молитвы на устах. Я же просто сходил с ума.
Однако находиться в ее комнате всю ночь я не мог и потому в свою очередь вышел, стараясь не шуметь, чтобы не потревожить ее сон. Я оставил все необходимые распоряжения и дал обещание вернуться на следующий день утром.
Когда я вернулся к себе, воспоминания о ней не давали мне заснуть. Я думал о том, что любовь этой женщины должна быть нескончаемым восторгом, в котором соединены мечты и страсть, что сама она должна быть целомудренной, как святая, и страстной, как куртизанка. Я полагал, что она должна таить от всего мира сокровища своей красоты, а своему любовнику отдаваться обнаженной и всем своим существом. Эти мысли воспламеняли меня всю ночь, и под утро я был влюблен до сумасшествия.
Однако с наступлением дня после безумных ночных мечтаний ко мне пришли раздумья; я говорил себе, что, вероятнее всего, от этой женщины меня отделяет непроходимая пропасть, что она слишком красива, чтобы не иметь любовника; что, наверно, она слишком его любит и не сумеет забыть; не зная этого человека, я уже ненавидел его, ведь Бог одарил его в этом мире таким блаженством, что он сможет безропотно переносить вечные страдания.
Я с нетерпением ждал минуты, когда можно будет ее навестить; часы ожидания тянулись как столетие.
Наконец, наступило назначенное время, и я пошел к ней.
Меня провели в будуар, с изысканным вкусом обставленный мебелью неистового рококо и ошеломляющего стиля помпадур; она сидела одна и читала. Широкое платье черного бархата скрывало все ее тело, не позволяя увидеть, словно у дев Перуджино, ничего, кроме головы и кистей рук; рука, надрезанная мною при кровопускании, была кокетливо подвязана шарфом; ее маленькие ножки, казалось не созданные для того, чтобы ступать по нашей земле, были протянуты поближе к огню; эта женщина была настолько прекрасна, что казалось, будто Бог даровал ее нашему миру, чтобы дать представление об облике своих ангелов.
Она подала мне руку и усадила рядом с собой.
"Вы слишком рано поднялись, сударыня, — заметил я, — это неосторожно с вашей стороны".
"Нет, во мне достаточно сил, — улыбнулась она мне, — я прекрасно спала и к тому же не чувствую себя больной".
"Тем не менее, вы говорили, что страдаете".
"Больше от мыслей, чем от телесных недугов", — произнесла она со вздохом.
"У вас какое-то горе, сударыня?"
"Да, и очень глубокое. К счастью, Бог тоже врачеватель, и он нашел универсальное лечение — забвение".
"Но бывают страдания, которые убивают", — заметил я.
"Да, но ведь смерть и забвение — это почти одно и то же. И то и другое — могила: одно для тела, второе для души, вот и все".
"Сударыня, но какое же горе может быть у вас? Вы слишком недосягаемы для него; страдания должны проходить, не задевая ваших ног, как облака под стопами Господа; это на нас обрушиваются ураганы, ваш же удел — безмятежность".
"Вы заблуждаетесь, — отвечала она, — и это доказывает, что вся ваша наука останавливается здесь, у сердца".
"Ну, что ж, — сказал я ей, — попытайтесь забыть, сударыня; порою Бог допускает, чтобы радость сменила горе, а улыбка — слезы, но если сердце того, кто страдает, слишком опустошено и не может само по себе наполниться чувствами, если раны так глубоки, что не затягиваются сами, на пути того, кого Господь хочет утешить, является душа, способная к пониманию; вдвоем терзания не так страшны, и наступает время, когда сердце оживает и рана зарубцовывается".
"Каким же бальзамом вы, доктор, считаете возможным залечить такую рану?"
"Это зависит от больного, сударыня. Одним я прописал бы веру, другим — любовь".
"Вы правы, — промолвила она, — ведь для души вера и любовь — две сестры милосердия".
Наступило довольно долгое молчание; я не мог отвести восхищенного взгляда от ее дивного лица, на которое бросал нежные блики утренний свет, пробивающийся сквозь шелковые занавески; ее прекрасные золотые волосы не падали вниз, как накануне, а, приглаженные на висках, были закреплены сзади.
С самого начала ее беседа со мной приняла грустный оборот, но сейчас эта женщина в тройном сиянии — красоты, страсти и страдания — казалась мне еще более лучезарной, чем когда я увидел ее в первый раз. Господь дополнил этот облик ореолом мученичества, и тому, кому она отдаст свою душу, предстояло двойное назначение, вдвойне священное, — заставить ее забыть прошлое и поверить в будущее.
Поэтому, находясь рядом с ней, я не испытывал состояния безумного возбуждения, как накануне, когда она металась в лихорадке, но проникся ее смирением. Если бы в эту минуту она мне вверила себя, я упал бы к ее ногам, сжал бы ее руки в своих и плакал бы вместе с нею как с сестрой, почитая ангела и утешая женщину.
Однако мне было неведомо, ни в чем заключалось ее горе, которое следовало забыть, ни кто нанес ей эту еще кровоточащую рану, и оставалось только строить догадки; между врачом и больной уже установилась близость, достаточная, чтобы женщина призналась в своей боли, но все же еще не такая, чтобы она открыла ее причину. Среди того, что окружало ее, я не мог найти разгадку — вчера никто не стоял обеспокоенный у ее изголовья, сегодня никто не наведывался узнать, как она себя чувствует. Боль была причинена в прошлом, и теперь я видел только ее отражение.
"Доктор, — спросила она внезапно, очнувшись от задумчивости, — скоро я смогу танцевать?"
"Да, сударыня", — ответил я, несколько удивленный таким переходом от одной мысли к другой.
"Дело в том, что все давно ждут, когда я дам бал, — пояснила она, — ведь вы придете на него, не правда ли? У вас, должно быть, сложилось дурное мнение о моей печали, которая заставляет меня грезить днем, но не мешает мне танцевать вечером. Но, видите ли, бывают такие горести, которые необходимо прятать в глубине сердца, скрывая от всего света; бывают такие терзания, которые необходимо маскировать улыбкой, никому не давая возможность догадаться о них; я должна таить свои страдания в себе одной, как иные таят свою радость. Завистники, видя меня красивой, считают, что я счастлива; мне не хочется выводить их из заблуждения — именно с этой целью я буду танцевать, рискуя на другой день плакать, но плакать в одиночестве".
Она протянула мне руку, глядя на меня с таким чистосердечием и с такой печалью, какие невозможно описать.
"Мы расстаемся ненадолго, не правда ли?" — спросила она.
Я поднес ее руку к губам и вышел.
К себе я вернулся в полном смятении.
Из моей квартиры были видны ее окна; вглядываясь в них, я простоял у своего окна до вечера. Весь день за ними царили тишина и темнота. Эта женщина заставила меня забыть обо всем, я не спал, не ел, вечером у меня начался жар, на следующий день утром — горячечный бред, а к концу того же дня я умер.
— Умер? — воскликнули мы оба.
— Умер, — подтвердил рассказчик самым убедительным тоном, — умер, как Фабиан, чья маска висит на стене.
— А дальше? — спросил я.
Дождь продолжал барабанить по стеклу. Мы поворошили дрова в печи, и красноватое яркое пламя немного осветило мастерскую, до этого погруженную во тьму.
Он продолжал:
— Я не ощущал ничего, лишь в какое-то мгновение меня пронзил холод: несомненно это было в ту минуту, когда меня опустили в могилу.
Не знаю, сколько времени длилось небытие, но неожиданно я смутно услышал, как меня окликают по имени. Я весь дрожал от холода и не был в состоянии ответить. Через несколько мгновений голос снова позвал меня; я попытался что-то произнести, пошевелил губами и наткнулся ими на саван, окутывавший меня с головы до ног. И все-таки я смог слабо прошептать:
"Кто меня зовет?"
"Я", — был ответ.
"Кто ты?"
"Я".
Голос слабел, словно теряясь на холодном ветру, а возможно, это просто был шелест листьев.
Однако я в третий раз расслышал, как прозвучало мое имя, но на этот раз звук, казалось, перелетал с ветки на ветку, так что все кладбище ему глухо вторило; я услышал шелест крыльев, будто при звуках моего имени поднялась в воздух стая ночных птиц.
Мои руки, словно приводимые в движение таинственной пружиной, потянулись к лицу; я острожно раздвинул закрывавший меня саван и попытался что-нибудь разглядеть. У меня было ощущение, что я очнулся после долгого сна; было очень холодно.
Я всегда буду помнить жуткий страх, охвативший меня: на деревьях не было листьев, и они со своими скрюченными иссушенными ветвями казались громадными скелетами. Слабый лунный свет прорывался сквозь черные облака, освещая уходящие вдаль ряды белых могил, похожих на лестницу, ведущую в небо; неясные ночные голоса, пробудившие меня, были полны таинственности и внушали ужас.
Я повернул голову, пытаясь отыскать глазами того, кто звал меня. Он сидел у моей могилы, следя за моими движениями, руки его подпирали голову, усмешка кривила губы, взгляд был жуткий.
Меня охватил отчаянный страх.
"Кто вы такой? — спросил я, собирая все свои силы. — Почему вы разбудили меня?"
"Чтобы оказать тебе услугу", — ответил он.
"Где я?"
"На кладбище".
"Кто вы такой?"
"Друг".
"Оставьте меня в моем сне!"
"Послушай, — проговорил он, — ты помнишь свою земную жизнь?"
"Нет".
"Ты ни о чем не жалеешь?"
"Нет".
"Сколько времени ты спишь?"
"Не знаю".
"Я тебе скажу. Ты умер два дня назад, и твои последние слова были обращены к женщине, а не к Богу. Так что тело твое принадлежит Сатане, если он захочет его взять, понимаешь?"
"Да".
"Ты хочешь жить?"
"Вы Сатана?"
"Сатана или нет — это не важно. Ты хочешь жить?"
"В одиночестве?"
"Нет, ты ее увидишь".
"Когда?"
"Сегодня вечером".
"Где?"
"У нее дома".
"Согласен, — сказал я, пытаясь подняться, — говори: каковы твои условия?"
"Я не ставлю никаких условий, — сказал Сатана, — ты считаешь, что я не способен время от времени творить добро? Сегодня вечером она дает бал, и я тебя поведу туда".
"Тогда пойдем!"
"Пойдем!"
Сатана протянул мне руку, и я поднялся.
Описать вам, что я при этом испытывал, невозможно; единственное, что я могу передать словами, — это ощущение ужасного холода, пронизывающего все мои члены.
"Теперь иди за мной! — распорядился Сатана. — Сам понимаешь, я не заставлю тебя выходить отсюда через главные ворота, сторож тебя не пропустит, мой дорогой; тому, кто здесь оказался, уже не выйти! Поэтому иди за мной; сначала мы зайдем к тебе домой, чтобы ты переоделся, на бал ведь не пойдешь в таком наряде, тем более что это не бал-маскарад. Давай-ка завернись поплотнее в саван, ночь прохладна — ты можешь замерзнуть".
Он захохотал так, как смеется Сатана; я продолжал идти рядом с ним.
"Уверен, — не замолкал он, — что, даже оказывая тебе услугу, я все еще тебе не нравлюсь. Все вы, люди, не умеете ценить друзей. Я не то чтобы порицаю неблагодарность — ведь я сам придумал этот порок, и он один из самых распространенных, — но просто мне бы хотелось, чтобы ты не был таким грустным. Это единственное, в чем должна выражаться твоя признательность".
Бледный и холодный, как мраморная статуя, я шел за ним, словно приведенный в движение скрытой пружиной;
в тишине было слышно, как мои зубы стучат от ледяного озноба, а кости скрипят при каждом шаге.
"Мы скоро дойдем?" — спросил я с усилием.
"Какой ты нетерпеливый! — заметил Сатана. — Верно, она очень хороша собой?"
"Как ангел".
"Ох, дорогой! — засмеялся он. — Следует признать, что в твоих словах явно не хватает деликатности: при мне ты говоришь об ангелах, а ведь я был одним из них; кстати сказать, ни один ангел для тебя не сделал ничего подобного тому, что делаю сейчас я! Впрочем, я тебя готов извинить, ибо человеку, умершему два дня назад, можно что-то простить. А кроме того, как я тебе уже говорил, сегодня вечером мне очень весело. То, что произошло на земле теперь, меня весьма позабавило. Я полагал, что с некоторого времени люди стали вырождаться, становиться более добропорядочными, но нет, они все те же, такие же, какими я их сделал. Знаешь, дорогой мой, редко бывает такой удачный день: со вчерашнего вечера только в Европе произошло шестьсот двадцать два самоубийства (причем среди совершивших его значительно больше молодых людей, чем стариков, а это особенно значимая потеря, ибо они умерли, не оставив потомства), две тысячи двести сорок три убийства, причем, повторяю, только в Европе, другие части света я не считаю — я в этом отношении подобен богатым капиталистам и не могу точно оценить свое состояние. Еще за этот день произошло два миллиона шестьсот двадцать три тысячи девятьсот семьдесят пять новых адюльтеров (впрочем, с учетом сезона балов это не так удивительно), тысяча двести судей оказались продажными — обычно их бывает больше. Но вот что меня больше всего порадовало: двадцать семь юных девушек, старшей из которых не было и восемнадцати, умерли с богохульственными словами на устах. Посчитай, дорогой мой, только из одной Европы за день я получил около двух миллионов шестисот двадцати восьми тысяч душ. А я не считаю фальшивомонетчиков, насильников и тех, кто занимается кровосмешением, — это мелочи. Итак, прикинь: в среднем около трех миллионов пропащих душ в день; это значит, что вскоре весь мир будет мой. Я буду вынужден купить рай у Бога, чтобы расширить ад".
"Понимаю твою веселость!" — пробормотал я, ускоряя шаг.
"Ты сказал это, — заметил Сатана, — мрачно и с сомнением. Ты испугался меня, столкнувшись со мной лицом к лицу? Я такой отталкивающий? Предлагаю тебе подумать, что стало бы с этим миром, если бы не я? Представь себе людей, наделенных только чувствами, которые сошли с Небес, и не испытывающих страстей, которые посылаю я. Да мир зачахнет от хандры, дружок! Кто придумал золото? Я! Игру? Тоже я. А любовь? Опять я! А предпринимательство? Я! Я! Просто не могу понять людей, питающих ко мне такую неприязнь! К примеру, ваши поэты твердят о чистой любви и не понимают, что, воспевая любовь-целительницу, они тем самым внушают стремление испытать губительную страсть; благодаря мне вас влекут к себе не женщины, подобные Непорочной Деве, а грешницы, подобные Еве. Вот ты, только что извлеченный мной из могилы, все еще хладный труп, все еще бледный мертвец, разве ты ищешь чистую любовь той, к которой я тебя веду? Да ничего подобного, ты жаждешь ночи, исполненной сладострастия! Видишь, грех пересиливает смерть, и если бы у людей был выбор, они предпочли бы вечную страсть вечному блаженству; разве то, что они готовы им рискнуть ради нескольких лет, насыщенных страстью, не доказывает это?"
"Мы скоро придем?" — спросил я, так как горизонт уже светлел, а мы почти не продвинулись.
"Ты все такой же нетерпеливый, — заметил Сатана, — я по мере сил своих сокращаю дорогу. Пойми, я не могу пройти через ворота: там висит большой крест, а крест для меня как таможня. Я часто подхожу к воротам с тем, что запрещено проносить, и меня останавливают, требуя, чтобы я осенил себя крестом, а я вполне способен на преступление, но не на святотатство; к тому же, как я тебе уже говорил, тебя там не пропустят. Если ты думаешь, что можно умереть и быть похороненным, а потом в один прекрасный день просто воскреснуть, то ты заблуждаешься, мой дорогой; если бы не я, тебе бы пришлось ждать всеобщего воскрешения, а это, поверь, будет не скоро! Иди за мной и успокойся: я обещал привести тебя на бал, и ты туда попадешь. Я всегда исполняю свои обещания, и мою подпись знают".
В иронии моего жуткого спутника было что-то роковое, и я цепенел от ужаса. Сейчас, когда я все это рассказываю вам, его слова все еще звучат в моих ушах.
Через какое-то время мы подошли к стене, перед которой, словно составляя лестницу, громоздились надгробия. Сатана поставил ногу на первое из них, а затем, вопреки своему обыкновению, пошел по священным камням и взобрался на гребень стены.
Я хотел пойти тем же путем, но мне было очень страшно.
Он протянул мне руку и сказал:
"Ничего опасного в этом нет, можешь ставить сюда ногу, это могилы людей знакомых".
Когда я оказался рядом с ним, он спросил:
"Хочешь, я покажу тебе, что делается в Париже?"
"Нет, пойдем!"
"Что ж, пойдем, раз ты так спешишь".
Мы соскочили со стены на землю.
Под взглядом Сатаны луна скрылась, словно молоденькая девушка, прячущаяся от наглых глаз. Ночь была свежа, все двери заперты, все окна затемнены; можно было подумать, что уже очень давно никто не ступал по земле, на которой мы очутились: все вокруг выглядело зловещим. Казалось, что, даже когда настанет день, никто не откроет двери, не высунет голову в окно, не нарушит тишину; у меня создавалось впечатление, что я иду по городу, вымершему столетие назад и покрытому листьями, по ненаселенной местности, используемой как кладбище.
Мы шли, не слыша ни звука, не встретив даже тени; долгая дорога вела через этот пугающий своим безмолвием и спокойствием город; наконец мы подошли к моему дому.
"Узнаешь?" — спросил Сатана.
"Да, — ответил я глухо, — войдем!"
"Подожди, я сейчас открою! Ведь и кражи со взломом придумал я: у меня есть вторые ключи от всех дверей, за исключением дверей рая, разумеется".
Мы вошли в дом.
Внутри царила та же тишина, что и снаружи. Это было ужасно.
Мне казалось, что я сплю. Я перестал дышать. Представьте себя вернувшимся в комнату, где вы умерли два дня назад; все ваши вещи на тех же местах, что и во время вашей болезни, но отмеченные мрачной печатью смерти и собранные так, чтобы никогда ваша рука не должна была их больше коснуться! И только большие часы рядом с кроватью, служившей мне смертным одром, были единственным жившим своей жизнью предметом, увиденным мной с той минуты, как я покинул кладбище. Они продолжали отсчитывать часы моего небытия, как некогда отсчитывали часы моей жизни.
Я подошел к камину, зажег свечу, чтобы убедиться в реальности происходящего, ибо все, что меня окружало, виделось в бледном фантастическом свете сквозь какую-то пелену моего внутреннего видения. Все оказалось настоящим; это была моя комната, я увидел портрет матери, которая по-прежнему улыбалась мне, открыл книги, которые я читал накануне смерти; только на кровати не было простыней, и все было опечатано.
Что касается Сатаны, то он уселся в глубине комнаты и принялся внимательно изучать "Жития святых".
Проходя мимо большого зеркала, я увидел себя в моем странном одеянии, обернутого саваном, бледного, с тусклыми глазами. Я усомнился в том, что неведомая могущественная власть возвратила мне жизнь, и поднес руку к сердцу.
Сердце не билось.
Я тронул лоб рукой, он был холодный, так же как и грудь; пульс не прослушивался, как и сердце; тем не менее я узнал все, что покинул, — значит, во мне жили только глаза и способность мыслить.
Ужаснее всего было то, что я был не в силах отвести глаз от зеркала и продолжал рассматривать свое изображение — мрачное, оцепеневшее, мертвое. Каждый раз, когда я шевелил губами, в зеркале отражалась безобразная усмешка трупа. Я не в состоянии был ни сдвинуться с места, ни закричать.
Послышалось мрачное шипение, которое в старых часах предшествует их бою, и прозвучало два удара; потом все стихло.
Через несколько мгновений раздался звон колоколов в одной из соседних церквей, потом в другой, в третьей.
Я увидел в углу зеркала Сатану, задремавшего над "Житиями святых".
Мне удалось отвернуться от зеркала, но напротив стояло еще одно, и у меня при бледном свете единственной свечи, озаряющей просторную комнату, возникло впечатление, что я тысячекратно отражаюсь и там и здесь.
Страх достиг предела, и я закричал.
Сатана проснулся.
"Посмотри, однако, — сказал он, показывая мне книгу, — с помощью чего пытаются привить людям добродетель! Это настолько скучно, что даже я заснул, я, бодрствующий шесть тысячелетий. Ты еще не готов?"
"Готов, — ответил я машинально, — вполне".
"Поторопись! — заметил Сатана. — Срывай печати, возьми одежду и, самое главное, золото, побольше золота; шкафы оставь открытыми, и завтра правосудие приговорит за взлом печатей несколько бедолаг — это будет моя небольшая прибыль".
Я стал одеваться. Время от времени я прикасался рукой ко лбу и груди: они оставались ледяными.
Уже готовый к выходу, я обернулся к Сатане.
"Мы пойдем к ней?" — спросил я.
"Через пять минут".
"А что будет завтра?"
"Завтра ты вернешься к обычной жизни, я ничего не делаю наполовину".
"Ты не ставишь никаких условий?"
"Никаких!"
"Пойдем же!" — произнес я.
"Следуй за мной!"
Мы спустились вниз.
Через несколько мгновений мы оказались рядом с домом, куда меня привели четыре дня назад.
Мы поднялись.
Я узнал крыльцо, вестибюль, прихожую. Люди толпились во всех проходах, ведущих в залу. Праздник слепил огнями, цветами, драгоценностями и женщинами.
Все танцевали.
При виде этого веселья я почувствовал себя воскресшим.
Я наклонился к Сатане, не покидавшему меня, и спросил его шепотом:
"Где она?"
"В своем будуаре".
Я подождал конца кадрили и пересек залу; в освещенных свечами зеркалах отразилось мое бледное, мрачное изображение, моя застывшая улыбка; но сейчас я был не один, вокруг меня толпились люди. Это был бал, а не кладбище, и ждала меня не могила, а любовь.
Мной овладело упоение; я забыл, откуда появился, и думал только о той, ради которой пришел.
Я увидел ее, подойдя к дверям будуара; она была прекраснее самой красоты, целомудреннее самой веры. Я замер в восхищении: ее ослепительно белое платье оставляло обнаженными руки и плечи. Скорее в своем воображении, чем в реальности, я увидел чуть заметный след на руке, оставленный ланцетом во время кровопускания. Когда я вошел, ее окружали какие-то молодые люди, они что-то оживленно говорили ей, но она едва слушала; неспешно подняв свои прекрасные глаза, наполненные чувственной истомой, она заметила меня, чуть помедлила, узнавая, очаровательно улыбнулась, оставила всех и направилась ко мне.
"Видите, какая я сильная?" — сказала она.
Заиграл оркестр.
"И чтобы вам это доказать, — продолжала она, беря меня под руку, — мы с вами сейчас будем танцевать вальс".
Она бросила какую-то фразу проходившему мимо нее человеку^ обернулся: рядом со мной стоял Сатана.
"Ты сдержал свое слово, — сказал я ему тихо, — спасибо, но я хочу эту женщину, сегодня же ночью".
"Она будет твоей, — ответил Сатана, — однако вытри лицо, у тебя червь на щеке".
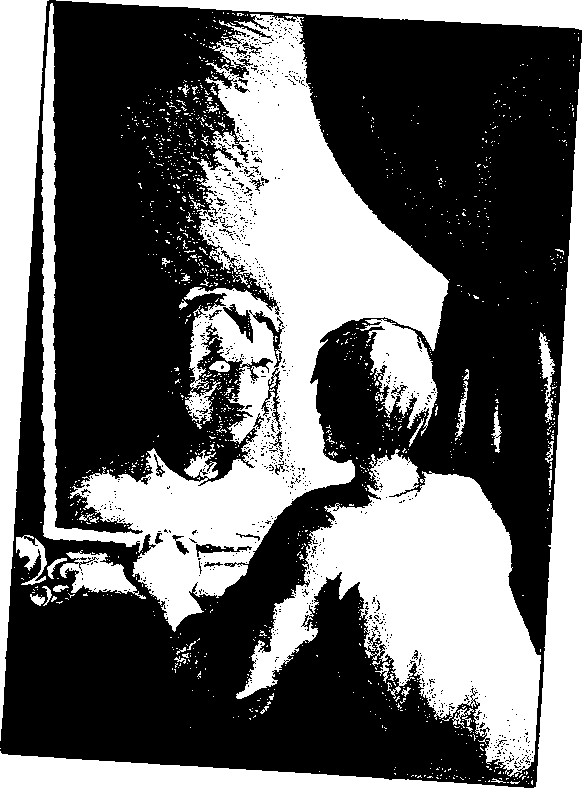
Мой спутник исчез, а я почувствовал, что холод еще сильнее сковал меня. Словно для того, чтобы вернуться к жизни, я сжал руку той, к которой пришел из глубины могилы, и увлек ее в залу.
Это был головокружительный вальс, когда все вокруг исчезает и видишь только свою партнершу и чувствуешь кольцо ее рук, когда ваши дыхания смешиваются, а груди соприкасаются. Я танцевал, не сводя с нее глаз, а ее улыбающийся взор казалось говорил мне: "Если бы ты знал, какие сокровища любви и страсти я могу подарить своему любовнику. Если бы ты знал, какое наслаждение сулят мои ласки, сколько огня в моих поцелуях! Тому, кто полюбит меня, я отдам всю красоту своего тела, все помыслы своей души — ведь я молода, притягательна, красива!"
Мы отдались танцу и кружились в его сладострастном стремительном вихре.
Это длилось долго; когда музыка смолкла, мы продолжали танцевать одни.
Она упала в мои объятия, грудь ее вздымалась, она приникла ко мне своим по-змеиному гибким станом, и ее огромные глаза яснее, чем губы, говорили мне: "Я люблю тебя!"
Я увлек ее в будуар, где мы оказались одни; комнаты опустели.
Она опустилась на козетку, полузакрыв глаза от усталости, словно в истоме любви.
Я склонился над ней и прошептал:
"Если бы вы знали, как я вас люблю!"
"Я знаю, — послышалось в ответ, — и я тоже вас люблю".
От этого можно было обезуметь.
"Я отдам жизнь за час любви и душу за ночь", — произнес я.
"Послушай, — сказала она, открывая дверь, скрытую стенным ковром, — сейчас мы останемся вдвоем, жди меня!"
Она слегка подтолкнула меня, и я оказался один в ее спальне, освещенной алебастровой лампой.
Воздух вокруг был напоен таинственным чувственным ароматом — описать его невозможно. Мне было холодно, я сел у огня, глядя в зеркало на свое по-прежнему бледное лицо. Я слышал стук экипажей, удаляющихся один за другим; наконец отъехал последний и наступила мрачная и торжественная тишина. Мной снова постепенно овладевал страх, я не осмеливался оглянуться, холод словно сковал меня. Я удивлялся, что она не идет, считал минуты — все было безмолвно. Я прижал локти к коленям и закрыл руками голову.
Я вспомнил о своей матери, понимая, что в эту минуту она оплакивает своего умершего сына; я был в ее жизни всем, но сам я подумал о ней только сейчас. Передо мной, как радостный сон, встали дни моего детства. Я думал о том, что всегда, когда нужно было перевязать рану, утишить боль, я прибегал к помощи матери. А сейчас, когда мне предстояла ночь любви, ее ждала бессонная ночь, одинокая, безмолвная, наполненная мыслями обо мне, среди предметов, каждый из которых напоминал обо мне. Думать об этом было невыносимо: я почувствовал угрызения совести, слезы подступили к моим глазам. Я поднялся, взглянул в зеркало и за своим изображением увидел бледную белую тень, пристально глядевшую на меня.
Я обернулся: это была моя прекрасная возлюбленная.
Хорошо, что сердце мое не билось, иначе от переполнявшего его чувства оно бы разорвалось.
Все и в комнате, и за окном было погружено в безмолвие.
Она притянула меня к себе, и я тут же забыл обо всем. Невозможно рассказать об этой ночи с ее неизъяснимыми, неведомыми наслаждениями, граничащими со страданием. В своих любовных мечтах я не представлял ничего подобного этой женщине, заключенной в мои объятия, пылкой, как Мессалина, целомудренной, как Мадонна, гибкой, как тигрица; ее поцелуи обжигали губы, а слова обжигали сердце. В ней была такая притягательная сила, что временами мне становилось страшно.
Постепенно свет лампы начал бледнеть: начинало светать.
"Послушай, — сказала она мне, — наступает день, ты должен уйти, тебе здесь нельзя оставаться; но вечером, как только спустится ночь, я жду тебя, слышишь?"
Последний раз я ощутил ее губы, она судорожно сжала мои руки, и я ушел.
За стенами дома царило все то же спокойствие.
Я шел как безумный, едва веря в то, что я жив, даже не подумав о том, чтобы пойти к матери или вернуться к себе, — настолько эта женщина захватила мое сердце.
После первой ночи любви, проведенной с возлюбленной, остается только одна мечта — следующая ночь.
Холодный, пасмурный, мрачный день вступил в свои права. Без смысла и цели я бродил по пустынному, безлюдному полю, ожидая вечер.
Наконец, он наступил.
Я помчался к ее дому.
В ту минуту, когда я готов был переступить порог, я увидел спускающегося с крыльца бледного, сгорбленного старика.
"Вы к кому, сударь?" — обратился ко мне консьерж.
"К госпоже де П."
"К госпоже де П.? — переспросил он, с удивлением посмотрев на меня, и добавил, показывая на старика: — Здесь живет этот господин, а госпожа де П. умерла два месяца тому назад".
Я вскрикнул и лишился чувств.
— А дальше? — спросил я, как только рассказчик замолчал.
— Дальше? — он улыбнулся, польщенный нашим интересом, и сказал со значением: — Потом я проснулся, ведь это же был сон.
Назад: Кюре Шамбар
Дальше: Александр Дюма Сборник "Пракседа"

