Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 32. Сальватор. Часть. 1,2
Назад: XVIII ЧТО ГОСПОДИН ЖАКАЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ ГОСПОДИНУ ЖЕРАРУ ВМЕСТО ОРДЕНА ПОЧЕТНОГО ЛЕГИОНА
Дальше: XXXII ДУШЕВНЫЕ НЕВЗГОДЫ, ОТЯГОЩЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ТРУДНОСТЯМИ
XXIV
«ПРЕКРАСНАЯ ТЕРЕЗА»
Читатели понимают, что события, о которых мы сейчас рассказали, преувеличенные бретонской поэтикой и приукрашенные парижской шутливостью, создали Пьеру Эрбелю репутацию отважного и вместе с тем осторожного человека. Благодаря этому он скоро оказался первым среди своих товарищей, а те были тем более ему признательны за товарищеские отношения, так как ни для кого из них не было секретом, что он принадлежит к одному из знатнейших родов не только Бретани, но и Франции.
В течение нескольких мирных лет, последовавших за признанием Англией американской независимости, Пьер Эрбель не терял времени даром и в качестве сначала помощника капитана, а потом и капитана торгового судна совершил путешествие в Мексиканский залив, дважды побывал в Индии: один раз на Цейлоне, другой — в Калькутте.
И когда война вспыхнула с небывалым ожесточением в 1794 и 1795 годах, Пьер Эрбель попросил Конвент назначить его капитаном, и это было сделано без каких-либо затруднений, принимая во внимание его прошлые заслуги.
Более того, поскольку Пьер Эрбель был известен своим бескорыстием и чисто национальной ненавистью к англичанам, ему доверили вооружить корвет или бриг по своему усмотрению. С этой целью Эрбелю открыли кредит на пятьсот тысяч франков, а в брестском арсенале было приказано выдать капитану Пьеру Эрбелю любое оружие, какое он сочтет необходимым для вооружения своего корабля.
На верфях Сен-Мало находился тогда прекрасный бриг водоизмещением в пятьсот или шестьсот тонн; за его строительством капитан Эрбель следил с неизменным интересом, приговаривая:
— Вот бы иметь такой корабль в собственном своем распоряжении: в мирное время — с двенадцатью матросами на борту, чтобы торговать кошенилью и индиго, а в военное время — со ста пятьюдесятью матросами, чтобы охотиться за англичанами! Тогда мне сам черт не брат!
Когда Пьер Эрбель получил задание и кредит в пятьсот тысяч франков, а также разрешение вооружиться на брестском рейде, он стал все чаще наведываться на верфи, где, словно подводный цветок, распускалась «Прекрасная Тереза».
Пьер Эрбель дал изящному бригу имя любимой девушки.
Торговался капитан недолго: от имени правительства он купил бриг у строителей и мог, следовательно, руководить окончанием работ — иными словами, установкой мачт и оснасткой.
Ни один отец не наряжал с такой любовью единственную дочь перед первым причастием, как Пьер Эрбель — свое судно.
Он самолично проверял длину и толщину мачт и рей, сам купил на нантском рынке холст для парусов; он глаз не спускал с мастеров, ковавших и скреплявших медные части брига, приказал выкрасить в темно-зеленый цвет подводную часть судна, чтобы на определенном расстоянии корабль сливался с волнами. Капитан приказал пробить по дюжине орудийных портов с каждого борта и два на корме. Когда подготовительные работы были закончены, он подсчитал водоизмещение судна, затем вес будущего вооружения, заменил его балластом и отправился испытывать бриг вдоль бретонского берега, как пробует крылья морская птица. Так он обогнул мыс Сийон, прошел между островом Ба и Роскофом, обогнул мыс Сен-Ренан и вошел в брестскую гавань, притащив у себя на хвосте три-четыре английских корабля и напоминая юную красавицу, за которой увиваются три-четыре воздыхателя.
Да, захватить «Прекрасную Терезу» было заманчиво. Однако «Прекрасная Тереза» была пока непорочной девицей и явилась в Брест в надежде подыскать то, что помогло бы ей сохранить невинность.
Надо сказать, капитан ничего не пожалел для этой цели. Бриг принял на нижнюю палубу двадцать четыре двенадцатифунтовые пушки, которые строго поглядывали с левого и правого борта; кроме того, две двадцатичетырехфунтовые пушки размещались в кормовой части на тот случай, если, имея дело с более сильным противником, пришлось бы удирать, но перед тем пустить пару стрел, подобно парфянам, наводившим когда-то ужас на врагов.
Но когда было необходимо выдать «Прекрасную Терезу» за добропорядочное торговое судно, занимающееся только коммерцией, и ничем другим; ни один корабль не имел столь невинного вида.
Тогда ее двадцать четыре двенадцатифунтовые пушки отступали, ее две двадцатичетырехфунтовые пушки втягивали бронзовые шеи на нижнюю палубу, мирный флаг безобидно развевался на гафеле, а холщовое полотнище того же цвета, что и подводная часть судна, раскидывалось по всей линии бортовых люков, превращавшихся всего-навсего в отверстия для подачи свежего воздуха.
Сто пятьдесят членов экипажа ложились на нижней палубе, а восемь-десять моряков (их было достаточно для того, чтобы бриг мог выполнить любой маневр) лениво растягивались наверху или, дабы насладиться еще более свежим воздухом, поднимались на марсы, а то — матросы бывают такими капризными! — развлекались тем, что садились верхом на реи грот-брамселя или фор-брамселя, а оттуда рассказывали товарищам о том, что происходит на восемь-десять льё кругом вплоть до линии горизонта, сопровождающего корабль, у которого под килем океан, а над мачтами небо.
Вот так мирно и шла себе «Прекрасная Тереза» со скоростью шесть узлов прекрасным сентябрьским утром 1798 года между островом Бурбон и островками Амстердам и Сен-Поль, то есть в этом огромном водном пространстве, тянущемся от Зондского пролива до Тристан-да-Кунья, которым обычно проходят все суда: возвращаясь в Европу, они вынуждены обогнуть мыс Доброй Надежды.
Возможно, нам заметят, что шесть узлов — скорость небольшая. Мы бы ответили так: дул легкий бриз, и торопиться было некуда, вот почему «Прекрасная Тереза» шла не под всеми парусами, а подняла лишь большие марсели, фок и большой кливер.
Что касается других парусов, таких, как бизань, бом-кливер, малый кливер, грот, малые марсели, брамсели, бом-брамсели и лисели, то их, похоже, сохраняли до лучших времен.
Вдруг откуда-то с неба донесся голос:
— Эй, там, внизу!
— Эге-гей! — не отрываясь от игры, отозвался боцман, бившийся в карты с рулевым. — В чем дело?
— Вижу парус!
— С какой стороны?
— С подветренной.
— Эй, там! — продолжая игру, крикнул боцман. — Предупреди капитана!
— И правда парус! Парус! — загомонили матросы, стоявшие кто на палубе, кто на релинге, кто на вантах.
Замаячившее вдалеке судно подняло волной, и его заметили все моряки, хотя, будь среди них пассажир, он принял бы корабль за большую морскую чайку, качающуюся на гребнях волн.
Заслышав крик «Парус!», молодой человек лет двадцати шести — двадцати восьми выскочил на палубу.
— Парус? — переспросил он.
Сидевшие матросы поднялись; те кто был в шапках, сняли их.
— Да, капитан, парус! — в один голос отозвались матросы.
— Кто наверху? — спросил он.
— Парижанин, — отозвались несколько человек.
— Эй, наверху! Ты зрение еще не потерял, Парижанин? — спросил капитан. — Или, может, прислать тебе мою подзорную трубу?
— Не стоит! — отказался Парижанин. — Отсюда я способен разглядеть часы на Тюильри.
— Значит, ты можешь нам сказать, что там за посудина?
— Это большой бриг, позубастей нашего, идет бейдевинд в нашу сторону.
— Под какими парусами?
— У него подняты грот-брамсели, марсели, фок, большой кливер и бизань.
— Он нас заметил?
— Вероятно, да, потому что он спустил грот и поднимает грот-брамсели.
— Свидетельство того, что он хочет с нами поговорить, — заметил кто-то рядом с капитаном.
Капитан обернулся, чтобы посмотреть, кто позволяет себе вмешиваться в интересный разговор, столь его занимавший в эти минуты. Он узнал одного из своих любимцев, Пьера Берто, сына того самого Берто, который десятью годами раньше принял его как беглеца в бомонской гавани.
— A-а, это ты, Пьер? — улыбнулся капитан и хлопнул матроса по плечу.
— Да, капитан, это я, — отвечал молодой человек, рассмеявшись в ответ и показав при этом два ряда великолепных зубов.
— Ты полагаешь, он хочет с нами поговорить?
— Да, черт возьми, так я думаю.
— Ну что ж, мой мальчик… Ступай предупреди командира батареи, что впереди показался подозрительный корабль: пусть приготовится.
Пьер нырнул в люк и исчез.
Капитан снова задрал голову.
— Эй, Парижанин! — крикнул он.
— Да, капитан?
— Как выглядит это судно?
— Похоже на военный корабль, капитан, хотя с такого расстояния невозможно разглядеть флаг; готов поспорить, что это goddam.
— Слышите, друзья? Есть ли среди вас желающие вернуться на понтоны?
Пятеро или шестеро матросов, отведавшие английского гостеприимства, в один голос ответили:
— Только не я! Не я, тысяча чертей! Не я!
— В таком случае сначала посмотрим, на нас ли он направил свои пушки, а когда убедимся в его недобрых намерениях, покажем ему, на что мы способны. Поднять на «Прекрасной Терезе» все паруса! Покажем англичанину, что умеют делать сыновья Сен-Мало!
Не успел капитан договорить, как его судно, которое, как мы сказали, шло только под марселями, фоком и большим кливером, оделось в брамсели, потом подняло грот, а вместе с ним бом-кливер и бизань.
Бриз наполнил все паруса, и «Тереза» рассекла волны, как под рукой сильного пахаря взрезает землю лемех.
Наступила минутная тишина; сто шестьдесят человек экипажа застыли словно изваяния; слышны были лишь посвист ветра в парусах да гудение тросов.
В этой тишине Пьер Берто снова подошел к капитану.
— Готово? — спросил Эрбель.
— Так точно, капитан!
— Орудийные порты по-прежнему прикрыты?
— Вы отлично знаете, что их расчехлят только по вашему личному приказанию.
— Хорошо. Когда придет время, я отдам этот приказ.
Попробуем пояснить эти последние слова, довольно невразумительные, может быть, для наших читателей.
Капитан Пьер Эрбель был не только оригиналом, о чем свидетельствует выбор им рода занятий, но еще и обладал веселым характером. На первый взгляд, не считая несколько необычной оснастки, заметной лишь опытному моряку, «Прекрасная Тереза» имела столь же мирный вид, насколько привлекательным было ее имя.
Помимо того, что ее короткие мачты были стройнее обыкновенного — это делало ее похожей на корабли, выходящие с верфей Нью-Йорка или Бостона, и позволяло думать, будто в трюмах она везла не индиго или кошениль, а то, что на жаргоне работорговцев зовется «черным деревом», — в остальном она ничем не выдавала своих высокомерных повадок и неуживчивого характера.
Более того: ее пушки, тщательно спрятанные в твиндеке, без разрешения хозяина и носа не посмели бы высунуть в орудийные порты. Да и сами порты были накрыты широким и длинным куском парусины, выкрашенным в тот же цвет, что и подводная часть судна. Правда, во время сражения парусина поднималась, словно театральная декорация, по первому свистку, открывая взору ярко-красную линию орудийных портов, в которые пушки, торопясь глотнуть свежего воздуха, сладострастно вытягивали свои бронзовые шеи. И так как одному капитану Пьеру Эрбелю пришла в голову эта забавная мысль, англичанин мог быть уверен, что имеет дело с человеком, который сам не станет просить пощады, но и другого не помилует.
Итак, Эрбель и его экипаж стали ждать, как поведет себя английское судно.
Англичане подняли все паруса вплоть до лиселей; похоже было, что они натянули всё до последнего лоскута, имевшегося у них на борту.
— Ну, теперь можно о нем забыть, — заметил капитан Эрбель. — Берусь довести его отсюда в Сен-Мало, так что ему не удастся сократить между нами расстояние ни на дюйм. Догонит он нас, только когда нам заблагорассудится его подождать.
— А почему бы не подождать его прямо сейчас, капитан, — предложили трое или четверо нетерпеливых матросов.
— Это ваше дело, ребята. Если вы меня хорошенько попросите, я не смогу вам отказать.
— Смерть англичанину! Да здравствует Франция! — единодушно прокричали матросы.
— Ну что ж, ребята, англичанин пойдет на десерт, — предложил капитан Эрбель. — А пока давайте обедать. Учитывая, что случай у нас торжественный, каждый получит двойную порцию вина и по стаканчику рома. Слышишь, кок?
Четверть часа спустя все сидели за столом и ели с таким аппетитом, словно для большинства из них эта трапеза должна была оказаться последней, как для царя Леонида.
Обед был превосходный. Он напомнил Парижанину счастливейшие часы его детства, и от имени всех собравшихся, а также с разрешения капитана он попросил своего товарища, матроса Пьера Берто, по прозвищу Монтобан, спеть одну из любимых песен моряков, которую он так хорошо исполнял; как среди людей сухопутных песня «Дело пойдет», эта моряцкая песня была чем-то средним между «Марсельезой» и «Карманьолой».
Пьер Берто, по прозвищу Монтобан, не заставил себя упрашивать и звонким, словно труба, голосом завел задорную и вместе с тем грозную песню, ни слов, ни мотива которой мы, к сожалению, не знаем.
Для большей правдивости прибавим, что, как бы восторженно ни принимал экипаж в целом, а Парижанин в частности это необычайное пение, все испытывали такое нетерпение и так расшумелись, что капитану Пьеру Эрбелю пришлось призвать своих людей к тишине, чтобы виртуоз смог допеть восьмой куплет.
Как помнят читатели, Пьер Берто был любимцем капитана, и тот не хотел, чтобы матроса грубо перебивали.
Благодаря вмешательству капитана, Пьер Берто допел не только восьмой, но и девятый, а за ним и десятый куплет.
На этом песня кончалась.
— Это все, капитан, — доложил певец.
— Точно все? — спросил Пьер Эрбель.
— Абсолютно все!
— Да ты не стесняйся: если остались еще куплеты — у нас есть время, — сказал капитан.
— Нет, это вся песня.
Капитан огляделся по сторонам.
— А где Парижанин? — громко спросил он. — Эй, Парижанин!
— Я здесь, капитан, на своем посту: сижу на рее брам-стеньги.
И действительно, как только песня кончилась, Парижанин с обезьяньим проворством снова занял место, которое называл своим постом.
— На чем мы остановились перед обедом, Парижанин? — спросил капитан.
— Как я имел честь вам докладывать, капитан, бриг очень похож на военное судно, от него за милю разит goddam’oM.
— Что ты еще видишь?
— Ничего. Он от нас на прежнем расстоянии. Но если бы у меня была подзорная труба…
Капитан вложил собственную трубу юнге в руки и, дав ему пинка для скорости, напутствовал такими словами:
— Отнеси-ка это Парижанину, Щелкунчик!
Тот бросился вверх по вантам.
Если Парижанин поднимался с проворством обезьяны, то Щелкунчик, надо отдать ему должное, взлетел вверх как белка. Он добрался до впередсмотрящего и передал ему требуемый инструмент.
— Вы мне позволите побыть рядом с вами, господин Парижанин? — спросил юнга.
— А разве капитан запретил? — поинтересовался Парижанин.
— Нет, — сказал мальчик.
— Что не запрещено, то разрешено: оставайся.
Мальчик сел на конце реи, как грум садится на крупе позади наездника.
— Ну что, теперь лучше видно? — спросил капитан.
— Да, теперь я будто смотрю на него сверху.
— У него один или два ряда зубов?
— Один, но до чего ж сильна челюсть, клянусь честью!
— И сколько зубов?
— Тридцать шесть.
— Дьявол! На десяток больше, чем у нас.
Как помнят читатели, у «Прекрасной Терезы» имелось на вооружении двадцать четыре пушки, да еще две на корме, итого — двадцать шесть штук. Но те, что располагались на корме, капитан называл своим сюрпризом, учитывая, что они были вдвое большего калибра, чем остальные орудия.
И когда, к примеру, с брига, вооруженного двадцатичетырехфунтовыми орудиями, внимательно осматривали «Прекрасную Терезу» с левого и с правого борта и видели, что у нее лишь восемнадцатифунтовые пушки, бриг доверчиво пускался за ней в погоню. «Прекрасная Тереза» уходила от преследования; так как капитан был опытным артиллеристом, он подпускал неприятельский бриг на расстояние выстрела его носовых пушек, а потом затевал то, что он называл игрой в кегли.
Пьер Берто был отменным канониром, только ему поручалось наводить две тридцатишестифунтовые пушки. Пока он наводил одну, другую в это время заряжали, и капитан Эрбель находил особенное удовольствие, наблюдая за тем, как из установленных на юте орудий ядра беспрерывно летели одно за другим в паруса или борт вражеского судна, в зависимости от его собственного приказания: «Выше, Пьер!» или «Давай-ка пониже, Пьер!»
— Вы слышите? — спросил капитан матросов.
— Что, капитан?
— Что сказал Парижанин.
— А что он сказал?
— У англичанина на десять зубов больше, чем у нас.
— А два наших клыка, капитан? По-вашему, они ничего не стоят? — возразил Пьер Берто.
— Значит, вы полагаете, ребята, что нам нечего бояться?
— Нет, — подтвердил Пьер Берто. — Мы их прихлопнем вот так.
Он прищелкнул большим и средним пальцами.
— Давайте сначала узнаем, с кем имеем дело, — предложил капитан.
Он снова обратился к Парижанину.
— Эй, наверху! Ты знаешь все посудины этих собак-ере-тиков, словно каждую сам крестил. Можешь мне сказать, что это за бриг?
Парижанин поднес трубу к глазам, осмотрел бриг со вниманием, свидетельствовавшим о том, как горячо ему хотелось оправдать доверие капитана, и, сложив, наконец, трубу, словно ему нечего больше было высматривать, произнес:
— Капитан, это «Калипсо».
— Браво! — сказал Пьер Эрбель. — Ну что ж, ребята, пойдемте утешим ее после отъезда Улисса.
Экипаж, восприняв эти слова буквально, не слишком хорошо понял, что хотел сказать капитан; однако матросы сообразили, что это одна из обычных странных шуток Пьера Эрбеля, какие он любит отпускать перед стычкой.
Слова капитана были встречены таким громким криком «ура», что, прозвучи он на римском форуме, пролетающий над ним ворон упал бы замертво от страха.
Другой капитан долго бы думал, прежде чем напасть на корабль, вооруженный в полтора раза лучше его собственного; но превосходство вражеского корабля вызывало у капитана Эрбеля удовлетворение, знакомое каждому смельчаку, встречающему достойного противника.
Как только отзвучали крики одобрения, капитан с довольным видом посмотрел на загорелые лица матросов, не сводивших с него горящих глаз и показывавших в улыбке белоснежные зубы.
— Спрашиваю в последний раз: вы твердо решились? — громко спросил он.
— Да, да, — единодушно отозвались матросы.
— Вы готовы биться до последнего?
— Да! — донеслось со всех сторон.
— И даже больше! — прибавил Парижанин со своих выбленок.
— В таком случае, ребята, вперед! Поднимите трехцветный флаг и внимательно следите за тем, как поведет себя «Калипсо».
Приказание капитана было исполнено. Военный вымпел развернулся подобно радуге, и все взгляды направились в сторону неприятельского брига.
Едва французский флаг был водружен, как, словно приняв вызов, англичане подняли свой флаг, да еще сопроводили это пушечным выстрелом.
«Прекрасная Тереза» пока не трогала чехол, скрывавший батарею, сохраняя скромный и безобидный вид, более подобавший простому торговому судну.
— Мы посмотрели, теперь давайте послушаем, — сказал Пьер Эрбель.
Матросы «Прекрасной Терезы» стали прислушиваться, и, хотя их еще отделяло от «Калипсо» немалое расстояние, ветер донес до их слуха барабанный бой.
— Отлично! Их нельзя обвинить в том, что они скрывают свои намерения, — промолвил Пьер Эрбель. — Ну, ребята, покажем метру Джону Булю, на что мы способны: пусть знает, что если зубов у нас и не полон рот, как у него, то кусаться мы все-таки умеем.
Едва он успел отдать этот приказ, как чехол, скрывавший батарею «Прекрасной Терезы», исчез как по волшебству и с борта «Калипсо» могли теперь в свою очередь насчитать с каждой стороны «Прекрасной Терезы» по дюжине орудийных портов, а в каждом из них — по восемнадцатифунтовой пушке.
Затем Щелкунчик, который был на судне не только юнгой, но еще и флейтистом, соскользнул с марса на марс и оказался на палубе в одно время с уже поднявшим палочки барабанщиком и приготовился по знаку капитана извлечь первый звук из своего мелодичного инструмента.
Капитан подал долгожданный знак.
На «Прекрасной Терезе» заиграли «По местам стоять, к бою готовиться!»; барабанная дробь прокатилась по палубе, проникла в задний люк и снова вырвалась на свободу через передний под аккомпанемент Щелкунчика, умудрявшегося играть сигнал к бою в виде вариации на тему народной песни «Счастливого пути, господин дю Моле!».
Первые же звуки обоих инструментов произвели поистине магическое действие.
В одно мгновение каждый матрос занял положенное ему в подобных обстоятельствах место, вооружившись тем, что ему полагалось.
Марсовые с карабинами в руках бросились по местам; те, что были вооружены мушкетами, выстроились на баке и шкафуте; тромблоны были устроены на подставках, а пушки выкатили. Запасы гранат были приготовлены на каждом шагу, откуда только можно было обрушить огонь на палубу неприятельского судна. Наконец главный старшина приказал подобрать все шкоты, приготовить запалы и абордажные крючья.
Вот что происходило на палубе.
Но под палубой или, иначе говоря, в утробе судна поднялась ничуть не меньшая суета.
Пороховые погреба были открыты, фонари в отсеках зажжены, запасной штурвал установлен, перегородки разобраны.
Образовалась группа отчаянных: это были самые высокие и мускулистые матросы «Прекрасной Терезы». Каждый выбрал оружие по себе: один — топорик, другой — гарпун, третий — копье.
Они напоминали великанов, вооруженных давно уже исчезнувшим из обихода оружием, которое употреблялось во дни титанов, но неведомо было с легендарных времен Антея, Энкелада и Гериона.
Капитан Эрбель, сунув руки в карманы бархатной куртки, в которой он весьма напоминал мирного буржуа из Сен-Мало, гуляющего на молу в воскресный день, обошел судно, удовлетворенно подмигивая то тому, то другому; при этом он щедро раздавал табак, отламывая от скрученных в трубку табачных листьев, торчавших у него из кармана, будто голова ужа.
Окончив осмотр, он сказал:
— Ребята! Вы знаете, что на днях я собираюсь жениться.
— Нет, капитан, — возразили матросы, — нам об этом ничего не известно.
— Ну, будем считать, что я поставил вас в известность.
— Спасибо, капитан, — поблагодарили матросы. — А когда свадьба?
— Пока не знаю точно. Зато одно я знаю твердо.
— Что, капитан?
— Если уж я женюсь, то подарю госпоже Эрбель мальчика.
— Надеемся, что так и будет, — засмеялись матросы.
— Обещаю вам, братцы: кто спрыгнет на палубу «Калипсо» вторым, станет крестным отцом моего сына.
— А первый что получит? — не утерпел Парижанин.
— Первому я раскрою топором череп, — пригрозил капитан. — Пока я здесь, я не потерплю, чтобы кто-то лез впереди меня! Итак, договорились, ребята: возьмите на гитовы грот и бизань, убирайте бом-кливер, иначе англичанин никогда нас не догонит и мы так и не поговорим.
— Отлично! — обрадовался Парижанин. — Я вижу, капитан не прочь сыграть в кегли. Займи свое место, Пьер Берто!
Тот взглянул на капитана, желая понять, следует ли ему считать приглашение Парижанина приказом.
Эрбель кивнул.
— Скажите, капитан… — начал Пьер Берто.
— В чем дело, Пьер? — спросил капитан.
— Вы ничего не имеете против Луизы, правда ведь?
— Нет, мальчик мой, а почему ты об этом спрашиваешь?
— Я надеюсь, что, когда мы вернемся, она станет не только моей женой, но и крестной матерью вашего сына.
— Хвастун! — хмыкнул капитан.
В один миг указанные капитаном паруса были подтянуты, а Пьер Берто, стоя на своем посту, любовно поглаживал две свои тридцатишестифунтовые пушки, словно паша — своих султанш.
XXV
СРАЖЕНИЕ
Так как с этой минуты французский бриг замедлил ход, а англичане двигались с прежней скоростью, расстояние между преследуемым и преследовавшим кораблями постепенно стало сокращаться.
Капитан находился на своем мостике; можно было подумать, что он вымеряет расстояние на глаз.
Однако, как ни торопился он начать, по выражению Пьера Берто, свою игру в кегли, огонь все же открыл не он. Несомненно, у капитана неприятельского брига чувство расстояния было не столь развито, как у капитана «Прекрасной Терезы»: он приказал убрать некоторые паруса, так что «Калипсо» повернулась боком. В то же мгновение над ее орудийными портами показались белые дымки и, прежде чем раздались звуки выстрелов, ядра зашлепали по воде в нескольких кабельтовых от «Прекрасной Терезы».
— Похоже, наши английские друзья просто не знают, куда девать лишние ядра и порох, — заметил капитан Эрбель. — Мы будем более экономными, чем они, правда, Пьер?
— Вы же знаете, капитан, — отозвался канонир, — как вы скажете, так и будет. Прикажите начать, а уж мы начнем!
— Подпустите его еще на несколько саженей, нам торопиться некуда.
— Да, — произнес Парижанин. — Сегодня ночь будет лунная… Скажите, капитан, должно быть, красивое зрелище: сражение при луне! Вы бы угостили нас им, ведь такое не каждый день увидишь!
— Знаешь, это мысль! — промолвил капитан. — Скажи, Парижанин, тебе этого в самом деле хочется?
— Слово чести, я был бы вам весьма признателен.
— Ну что же, никогда не следует забывать о своих друзьях.
Он вынул часы.
— Пять часов вечера, ребята, — сказал он. — Мы поиграем с «Калипсо» до одиннадцати, а в пять минут двенадцатого возьмем ее на абордаж. В четверть двенадцатого она будет взята, и в половине двенадцатого каждый из вас уже будет лежать в койке: «Прекрасная Тереза» — девушка воспитанная и ложится не поздно даже в те дни, когда у нее бал.
— Тем более, — заметил Парижанин, — что к половине двенадцатого у всех танцоров ноги будут отваливаться.
— Капитан, — обратился к Эрбелю Пьер Берто, — у меня руки чешутся…
— Ну что ж, пальни по англичанам пару раз, — отозвался тот, — но предупреждаю: эти два ядра запишешь на свой счет, а не на мой.
— Будь что будет, — махнул рукой Пьер Берто.
— Погоди немного, Пьер, пусть Парижанин нам расскажет, что они там делают.
— Сейчас доложу, — сказал Парижанин, вскарабкавшись на малый марс: на сей раз суда находились друг от друга так близко, что ему не нужно было подниматься на рею брамселя.
— Сестрица Анна, не видать ли кого вдали? — спросил капитан.
— Вижу лишь, как зеленеет море, — подхватил Парижанин, — да реет флаг его британского величества.
— А что между морем и флагом? — уточнил капитан.
— Каждый на своем боевом посту: пушкари — у батареи, матросы — на шкафуте и юте, а капитан подносит рупор к губам.
— Как жаль, Парижанин, что слух у тебя не такой же острый, как зрение! — промолвил Пьер Эрбель. — Не то ты бы пересказал нам слова капитана.
— Да вы прислушайтесь, капитан, — сказал Парижанин, — и сами все узнаете.
Не успел он договорить, как из носовой части вражеского судна полыхнули две вспышки, раздался оглушительный грохот, и два ядра упали в кильватерную струю «Прекрасной Терезы».
— А-а! — оживился капитан Эрбель. — Похоже на кадриль для четверых. А ну, Пьер, давай! Пускай кавалер подаст даме ручку. Стреляй из двух, Пьер, стреляй сразу из двух!
Как только капитан произнес эти слова, Пьер Берто на мгновение склонился над орудием, потом снова поднялся и тоже поднес запал.
Раздался выстрел.
Капитан пристально всматривался вдаль, словно пытаясь разглядеть летящее ядро.
Ядро ударило в носовую часть.
Почти тотчас послышался второй выстрел и второе ядро полетело вслед за первым, будто пытаясь его догнать.
— Так-то лучше! — обрадованно закричал Пьер Берто, видя, как у англичан оторвался огромный кусок борта в носовой части. — Что вы на это скажете, капитан?
— Скажу, что ты понапрасну теряешь время, дружище Пьер.
— Как это теряю время?
— Да попади ты ему в корпус хоть двадцать раз, ты задашь работу плотнику, и только. Дай ему как следует, черт возьми! Целься в рангоут, переломай ему ноги, перебей крылья: дерево и холст ему сейчас дороже, чем плоть.
Во время их разговора «Калипсо» по-прежнему приближалась к «Прекрасной Терезе»; она полыхнула из двух своих носовых пушек: одно из ядер упало на расстоянии пистолетного выстрела от кормы брига, другое же рикошетом ударило «Прекрасной Терезе» в борт, но не сильно, и плюхнулось в воду.
— Знаете, капитан, — заговорил Пьер Берто, растянувшись на одной из двух пушек, — по-моему, мы на приличном расстоянии от англичан. Хорошо бы не подпускать их ближе, уж вы мне поверьте.
— А что для этого необходимо?
— Поднять на «Прекрасной Терезе» все паруса. Ах, если бы я мог стоять у руля и в то же время стрелять из пушек, я бы, капитан, так повел судно, что, будь между двумя кораблями натянута паутинка, она осталась бы цела.
— Развернуть грот и бизань, переложить бом-кливер! — крикнул капитан Эрбель, в то время как Пьер Берто взялся за запал и выстрелил.
На сей раз ядро угодило в рею.
— Вот это настоящий удар! — похвалил капитан Эрбель. — Ну, Пьер, получишь десять луидоров на то, чтобы прогулять их с товарищами в первой же гавани, если попадешь в фок-мачту или в грот-мачту между верхним и нижним марселем.
— Ура капитану! — закричали матросы.
— А можно стрелять цепными ядрами? — спросил Пьер.
— Да стреляй чем хочешь, черт подери! — махнул рукой капитан.
Пьер Берто потребовал у боцмана необходимые снаряды; тот приказал поднести кучу зарядных картузов, состоявших из двух ядер, связанных между собой цепью.
Зарядив обе пушки, Пьер Берто прицелился и выстрелил.
Ядро прошло сквозь фок и грот в полуфуте от мачты.
— Ну-ну, намерение похвальное, — бросил капитан Эрбель.
Весь экипаж мало-помалу переместился в конец палубы, к юту.
Часть матросов, чтобы лучше видеть происходящее, вскарабкалась на ванты. Марсовые сидели неподвижно, словно в передней ложе на благотворительном спектакле.
Пьер Берто зарядил обе пушки новыми картузами.
— Э-гей, капитан! — крикнул Парижанин.
— Что там нового, гражданин Муфтар?
— Они, капитан, перетаскивают одну пушку с кормы на нос, а две — с носа на корму.
— И что ты сам об этом думаешь, Парижанин?
— Наверное, им надоело получать от нас по лбу, а самим в ответ щекотать нам пятки, и потому они решили угостить нас тридцатишестифунтовой пушкой.
— Слышишь, Пьер?
— Да, капитан.
— Пьер, десять луидоров!
— Капитан, я и без того постарался бы изо всех сил. Судите сами: «Огонь!»
И, отдав себе этот приказ, Пьер поднес фитиль к пороху; прогремел выстрел — в парусах зазияла огромная дыра.
Почти в тот же миг «Калипсо» ответила таким же грохотом, и ядро, отломив кусок реи большого марселя, разорвало висевшего на вантах матроса пополам.
— Слушай, Пьер, — закричал Парижанин, — неужели ты позволишь, чтобы нас всех вот так перебили?
— Тысяча чертей! — выругался Пьер. — Похоже, у них и впрямь есть тридцатишестифунтовая пушка. Погоди, погоди, Парижанин, сейчас ты кое-что увидишь!
На этот раз Пьер Берто прицелился особенно старательно, потом торопливо поднялся и поднес фитиль, так что все это заняло считанные секунды.
Послышался оглушительный треск. Грот-мачта покачнулась, словно не зная, куда упасть — вперед или назад, наконец накренилась вперед и, надломившись над марсом, рухнула на палубу, накрыв ее парусом: цепь ядра разрезала мачту пополам.
— Пьер! — радостно прокричал капитан. — Я слышал, есть такая книга «Опасные связи». Ты ее, случайно, не читал? Ты выиграл десять луидоров, друг мой!
— Стало быть, выпьем за здоровье капитана! — зашумели матросы.
— А теперь, — продолжал капитан, — «Калипсо» наша, и досталась она нам почти даром, но надо дождаться появления луны, верно, Парижанин?
— Я думаю, осторожность не помешает, — отвечал тот. — Уже смеркается, а в той работе, которая нам еще предстоит, не мешало бы видеть, куда ставишь ногу.
— Раз уж вы вели себя примерно, — прибавил капитан, — обещаю вам фейерверк.
Сумерки сгустились: темнело с невероятной быстротой, что характерно для тропических широт.
Зная, что до восхода луны ночь будет очень темной, капитан Эрбель приказал поднять фонари на брам-стеньги, чтобы англичане не подумали, будто их противник решил скрыться в темноте.
Приказание было исполнено.
Англичанин, в знак того, что он тоже не считает эту партию завершенной, водрузил сигнальные огни.
Похоже, обе стороны с одинаковым нетерпением ждали появления луны.
Оба судна вышли из ветра, словно ложась в дрейф; в темноте они напоминали две грозные тучи, плывущие по волнам, — тучи, в недрах которых кроются гром и молния.
В одиннадцать часов появилась луна.
В то же мгновение нежный свет озарил все вокруг и посеребрил море.
Капитан Эрбель вынул часы.
— Ребята! — сказал он. — Как я вам сказал, в четверть двенадцатого мы должны захватить «Калипсо», а в половине двенадцатого — уже лежать в своих койках. Времени у нас мало. Не будем обращать внимания на неприятеля, он волен поступать как знает. Нам же предстоит следующее… Пьер Берто перетащил свою упряжку вперед?
— Так точно, капитан, — доложил Пьер Берто.
— Заряжено картечью?
— Да, капитан.
— Мы пойдем прямо на англичанина. Пьер Берто отсалютует из обеих своих султанш; мы пошлем привет из всех пушек левого борта, потом быстро развернемся, подойдем вплотную, забросим наши крюки и выстрелим из пушек правого борта — превосходно! Так как англичане лишились своей стеньги и проворны теперь не больше, чем человек с переломанной ногой, они в нас успеют выстрелить лишь из пушек правого борта; восемнадцать двадцатичетырехфунтовых орудий против двадцати четырех восемнадцатифунтовых и двух тридцатишестифунтовых — считайте сами, и вы увидите, что у нас чистый перевес в восемь выстрелов. А теперь вперед — остальное за мной. Вперед, ребята! Да здравствует Франция!
Громкий крик «Да здравствует Франция!» вырвался, казалось, из самой глубины моря и возвестил англичанам, что бой сейчас вспыхнет с новой силой.
В ту же минуту «Прекрасная Тереза» развернулась, чтобы воспользоваться попутным ветром.
Сначала даже могло показаться, что она удаляется от «Калипсо», но, как только она почувствовала, что ветер дует ей в корму, она устремилась на неприятеля и налетела на него, будто морской орел на свою жертву.
Надобно отметить, что матросы капитана Эрбеля слепо повиновались любому его приказанию.
Если бы он повелел идти прямо в Мальстрем — эту легендарную бездну из скандинавских сказаний, заглатывающую трехпалубные корабли не хуже Сатурна, пожиравшего детей, — штурман направил бы корабль прямо в Мальстрем.
Все приказания были исполнены с безупречной точностью.
Пьер Берто послал два снаряда картечи почти в одно время с тем, как англичане выстрелили в «Прекрасную Терезу» из пушек своего левого борта. Потом прогрохотали в ответ и пушки левого борта «Терезы». И прежде чем тяжело пострадавшая «Калипсо» успела развернуться правым бортом и перезарядить пушки, бушприт «Прекрасной Терезы», облепленный людьми, словно виноградная лоза — ягодами, врезался в ванты грот-мачты, а капитан, стараясь перекричать треск рвущихся снастей, приказал:
— Огонь, ребята! Последний залп! Срежьте ему мачты как у понтона, а потом мы возьмем его, словно крепость, приступом!
Двенадцать заряженных картечью пушек будто взвыли от радости в ответ на это приказание.
Зловещая вспышка осветила «Калипсо»; густое облако дыма опустилось на ее палубу; послышались треск дерева, жалобные крики; потом снова раздался голос Эрбеля, будто повелевающий бурей:
— На абордаж, ребята!
Первым на вражескую палубу, как всегда, прыгнул капитан Эрбель.
Но не успел он еще как следует встать на ноги, как у него над ухом кто-то сказал:
— А все-таки крестником вашего первенца буду я, капитан.
Эти слова принадлежали Пьеру Берто.
В ту же минуту с бушприта по реям, вантам, канатам посыпались, как зерна из колоса, сен-малоские матросы, к ним присоединялись их товарищи; за какие-нибудь пять секунд они, словно град в летнюю грозу, покрыли палубу «Калипсо».
Невозможно передать, что потом происходило на палубе «Калипсо»: все смешалось, началась рукопашная схватка, все кричали, будто на шабаше демонов, но, ко всеобщему изумлению, капитана Эрбеля не было ни видно и ни слышно.
Однако спустя несколько минут он выбрался из люка. Он держал в руке факел, и в его свете стало видно, что лицо капитана выпачкано порохом и кровью.
— Все на борт «Прекрасной Терезы», ребята! — крикнул он. — Англичанин сейчас взлетит на воздух!
Его слова произвели магическое действие: крики стихли, драка прекратилась.
Вдруг из глубины вражеского судна донесся истошный крик:
— Пожар!
Матросы «Прекрасной Терезы» бросились с неприятельского брига с тем же проворством, с каким они совсем недавно его осаждали; французы цеплялись за снасти, прыгали с борта одного судна на другое, в то время как капитан, Пьер Берто и еще несколько силачей (вы познакомились с ними при описании самого начала сражения), вооруженных невиданным дотоле оружием, прикрывали отступление.
Оно произошло так скоро, что англичане еще не успели прийти в себя; пока два человека с топорами в руках высвобождали бушприт из снастей, в которых он запутался, раздался крик:
— Брасоньте левый борт вперед! Ставьте стаксели! Убирайте грот и бизань! Все на правый борт!
Эти приказания, отдававшиеся властным голосом, которому невозможно было не подчиниться, были исполнены с такой стремительностью, что, вопреки командам английского капитана, сцепить два корабля было уже невозможно, и «Прекрасная Тереза», словно догадываясь о надвигавшейся на нее опасности, отделилась от вант неприятельского судна, обрубая крючья, отсекая тросы и мечтая об одном: как можно скорее убежать от огня.
Тем не менее, капитан Эрбель не смог помешать тому, что вражеский бриг, из последних сил развернувшись левым бортом, грохнул из пушек в порыве гнева или из жажды мести. Но матросы были так рады вырваться из опасного положения, в котором они оставили своего врага, что почти не обратили внимания на смерть трех или четырех товарищей и крики пяти или шести раненых.
— А теперь, ребята, — сказал капитан, — вот и обещанный фейерверк. Внимание!
Из всех люков английского брига повалил густой дым, в то время как над орудийными портами и жерлами пушек поднимался дымок совсем другого рода.
До слуха французов донесся голос английского капитана, усиленный рупором:
— Шлюпки на воду!
Приказание было немедленно исполнено, и вокруг фрегата закачались на волнах четыре шлюпки.
— Кормовую и шкафутную шлюпки — солдатам морской пехоты! — крикнул капитан. — Две бортовые шлюпки — матросам. Грузите сначала раненых!
Солдаты и офицеры «Прекрасной Терезы» переглядывались. Они были потрясены дисциплиной англичан. Маневр, проводившийся на борту «Калипсо» с такой четкостью, словно судно проводило учения в портсмутской гавани или заливе Солуэй, на борту французского корабля был бы, по всей вероятности, невозможен.
Сначала в шлюпки спустили раненых; их было довольно много, и было решено разместить их поровну в каждой шлюпке; потом солдаты морской пехоты в безупречном порядке заняли отведенные им две шлюпки. Наконец настала очередь матросов.
Капитан стоял на мостике и невозмутимо отдавал приказания, словно забыв, что у него под ногами мина.
С этой минуты французы перестали видеть происходящее. Дым повалил изо всех щелей и окутал вражеский корабль покрывалом, сквозь которое невозможно было что-либо разглядеть.
Время от времени языки пламени взвивались вдоль мачт; потом несколько пушек, оставшиеся заряженными (разрядить их не было времени), выстрелили сами по себе; затем стало видно, как из огня вышла одна шлюпка, другая, третья; вдруг раздался оглушительный взрыв — судно изрыгнуло пламя, словно кратер вулкана, в воздух взметнулись горящие обломки, прочертив в ночном небе светящиеся полосы, похожие на гигантские ракеты.
Это был финал фейерверка, обещанного капитаном Эрбелем.
Обломки корабля рухнули в море; все погасло, и снова наступила темнота. Ничего не осталось от великана, еще недавно корчившегося в огне, лишь три шлюпки бороздили море, удаляясь от места гибели судна, насколько позволяли весла.
Капитан Эрбель не стал их преследовать. А когда одна из шлюпок оказалась на расстоянии пушечного выстрела от левого борта «Прекрасной Терезы», матросы и капитан приподняли шляпы, приветствуя храбрецов, которые, избегнув смертельной опасности от пожара, отправлялись навстречу другой, пока незаметной и еще не очень близкой, но все-таки неотвратимой: непогоде и голоду.
Четвертая шлюпка, в которой сидели капитан и остальная часть экипажа, взлетела на воздух вместе с бригом.
Эрбель и его люди провожали взглядами три шлюпки до тех пор, пока они окончательно не исчезли в беспросветной темноте.
Капитан достал из кармана часы и сказал:
— Итак, ребята, уже полночь. Впрочем, в дни праздников разрешается ложиться позднее обычного.
Теперь, если нас спросят, почему капитан Эрбель не захватил три четверти экипажа «Калипсо» в плен, а дал им уйти, мы ответим, что «Прекрасная Тереза», имевшая сто двадцать человек на борту, не могла взять еще сотню.
Если же наш ответ не удовлетворит кого-нибудь из наших читателей и они захотят узнать, почему капитан Эрбель не потопил шлюпки неприятеля тремя пушечными выстрелами, мы ответим…
Нет, мы промолчим.
XXVI
ЖЕНИТЬБА КОРСАРА
В течение десяти лет, последовавших за событиями, о которых мы рассказали, желая, по своему обыкновению, не словами, а фактами дать представление о характере наших героев, капитан Эрбель, чей образ действий уже знаком нашим читателям, шел, не сворачивая с раз избранного пути.
Нам будет довольно сделать краткий обзор побед бесстрашного моряка по газетам того времени:
«Святой Себастьян» — португальское судно, направлявшееся с Суматры на остров Иль-де-Франс с трехмиллионным грузом; доля Эрбеля составила четыреста тысяч ливров.
«Шарлотта» — голландский корабль водоизмещением в триста шестьдесят тонн, имевший на борту двенадцать пушек и семьдесят человек экипажа. «Шарлотта» была продана за шестьсот тысяч ливров.
«Орел» — английская шхуна водоизмещением в сто шестьдесят тонн, проданная за сто пятьдесят тысяч ливров.
«Святой Иаков» и «Карл III» — испанские корабли, проданные за шестьсот тысяч ливров.
«Аргос» — русское судно в шестьсот тонн.
«Геракл» — английский бриг в шестьсот тонн.
«Славный» — английский кутгер, и так далее.
К этому списку, опубликованному в официальных газетах того времени, мы могли бы прибавить еще тридцать или сорок наименований, однако в наши намерения отнюдь не входило давать полную биографию капитана Эрбеля: мы лишь хотим дать читателям представление о его характере.
Вернувшись в Сен-Мало зимой 1800 года вместе с верным Пьером Берто, он получил от своих земляков все возможные свидетельства симпатии. Кроме того, его ожидало письмо от первого консула, приглашавшего его немедленно прибыть в Париж.
Бонапарт прежде всего поздравил храброго бретонца с его необычайными походами, а затем предложил ему чин капитана и командование фрегатом республиканского флота.
Однако Пьер Эрбель покачал в ответ головой.
— Чего же вы хотите? — удивился первый консул.
— Мне неловко вам в этом признаться, — отвечал Эрбель.
— Вы, значит, честолюбивы?
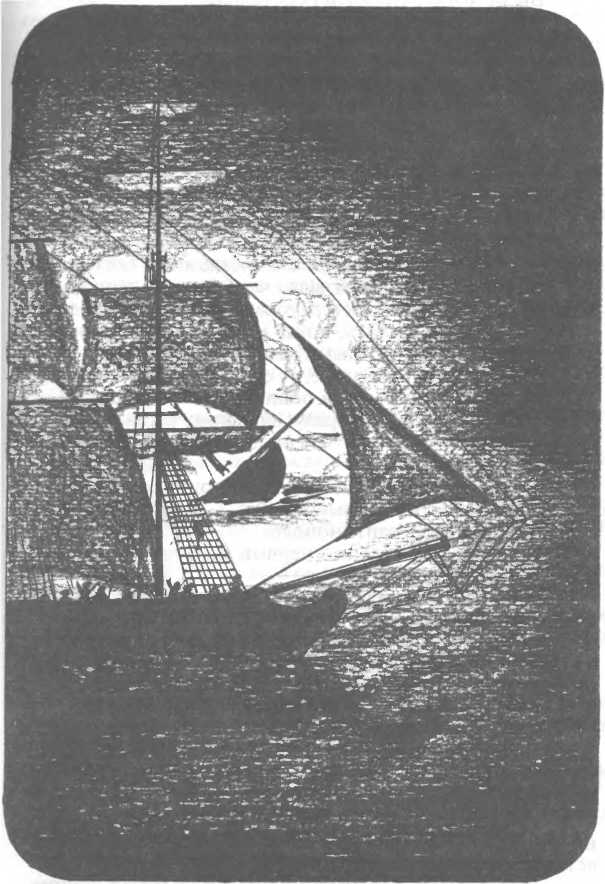
— Напротив, я считаю, что ваше предложение слишком лестно для меня.
— Вы не хотите служить Республике?
— Отчего же не послужить? Однако я хочу это делать по-своему.
— Как же?
— Оставаясь корсаром… Вы позволите сказать вам правду?
— Говорите.
— Пока я приказываю, я отличный моряк; как только мне придется исполнять чью-то волю, я не буду стоить и последнего из своих матросов.
— Но ведь всегда приходится кому-то повиноваться.
— Клянусь честью, — ответил капитан, — до сих пор, гражданин консул, я повиновался разве лишь Богу, да и то только если он мне приказывал через своего первого адъютанта, его высочество ветер, убрать паруса и идти без них; и мне не раз доводилось, когда меня обуревал демон непокорности, с опущенными парусами, кливером и бизанью, подчинять себе море. А если бы я был капитаном фрегата, то должен был бы повиноваться не только Богу, но и вице-адмиралу, адмиралу, морскому министру, да откуда мне знать, кому еще? На одного слугу будет слишком много хозяев.
— Ну, я вижу, вы не забыли, что принадлежите к роду Куртене, — заметил первый консул, — и что ваши предки царствовали в Константинополе.
— Вы правы, гражданин первый консул, я этого не забыл.
— Однако я не в силах назначить вас императором Константинопольским, хотя мне чуть было не удалось совершить обратное тому, что сделал Бодуэн, то есть вернуться из Иерусалима через Константинополь, вместо того чтобы отправиться через Константинополь в Иерусалим.
— Нет, гражданин, но вы можете сделать другое.
— Да, я могу установить майорат для вашего старшего сына, женить вас на дочери одного из моих генералов, если вы хотите союза со славой, или на дочери одного из моих поставщиков, если вас интересуют деньги.
— Гражданин первый консул! У меня три миллиона, что ничуть не хуже майората, а что касается женитьбы, у меня есть на примете невеста.
— Вы женитесь на какой-нибудь пфальцской принцессе или немецкой маркграфине?
— Я женюсь на бедной девушке по имени Тереза; я люблю ее уже восемь лет, а она семь лет верно меня ждет.
— Дьявольщина! — вскричал Бонапарт. — Не везет же мне: там — Сен-Жан-д’Акр, а здесь — вы!.. Что же вы намерены делать, капитан?
— А вот что, гражданин: для начала женюсь, так как мне не терпится это сделать, и, если бы не вы, даю слово, я не двинулся бы до свадьбы из Сен-Мало.
— Ну, а после женитьбы?
— Буду наслаждаться мирной жизнью, проедая свои три миллиона и приговаривая, как пастух Вергилия:
О Melibce! Deus nobis Иже otia fecit.
— Гражданин капитан! Я не слишком силен в латыни.
— Да, особенно когда речь о мирной жизни, верно? Но я не прошу у вас тридцатилетнего мира. Нет, год-другой насладиться семейным счастьем, и хватит. А потом, клянусь честью, с первым же пушечным выстрелом я… что ж, моя «Прекрасная Тереза» еще цела!
— Значит, я ничего не могу для вас сделать?
— По правде сказать, я думаю…
— И никак ничего не придумаете?
— Нет, но если мне что-нибудь придет в голову, я вам напишу, слово Эрбеля!
— Неужели я даже не смогу быть крестным вашего первенца?
— Вам не повезло, гражданин консул: я уже дал слово другому.
— Кому же?
— Пьеру Берто по прозвищу Монтобан, нашему боцману.
— А этот плут не может уступить мне свою очередь, капитан?
— Да что вы! Он не уступил бы ее даже китайскому императору. Да и ничего не скажешь: он завоевал это право шпагой.
— Каким образом?
— Он был вторым на палубе «Калипсо» и, между нами, храбрецами, говоря, генерал, даже первым, если уж быть точным… Словом, я просто закрыл на это глаза.
— Ну, капитан, раз уж мне с вами так не везет, вы, может быть, позволите мне о вас иногда справляться?
— Стоит вам начать войну, гражданин первый консул, и вы обо мне услышите, это я вам обещаю.
— Итак, с должника нужно брать хотя бы то, что он может отдать: до встречи в случае войны!
— До свидания, гражданин первый консул!
Пьер Эрбель пошел было к двери, но снова вернулся.
— Нет, я не могу вам обещать и свидания, — поправился он.
— Это почему?
— Потому что вы сухопутный генерал, а я моряк. Значит, маловероятно, что мы встретимся, если вы будете воевать в Италии или Германии, а я — в Атлантическом или Индийском океане; итак, удачи вам в ваших кампаниях, гражданин первый консул.
— А вам удачных плаваний, гражданин капитан.
На том капитан и первый консул расстались, а встретились вновь лишь пятнадцать лет спустя в Рошфоре.
Через три дня после того, как Пьер Эрбель покинул Тюильри, он с распростертыми объятиями вошел в скромный дом Терезы Бреа, находившийся в деревне Планкоэт, что на Аргеноне, в пяти льё от Сен-Мало.
Тереза радостно вскрикнула и бросилась Пьеру на грудь.
Она не видела его три года. Она слышала, что он вернулся в Сен-Мало и в тот же день уехал в Париж.
Другая впала бы в отчаяние и стала бы гадать, какое неотложное дело могло заставить ее возлюбленного отказаться от встречи с ней. Но Тереза твердо верила в слово Пьера; она преклонила колени перед планкоэтской Божьей Матерью, даже не думая о причине его неожиданного отъезда.
И как мы видели, Пьер приехал в Париж за час до назначенной аудиенции, а покинул столицу час спустя: его отсутствие длилось всего шесть дней. Правда, Терезе они показались шестью столетиями.
Когда она увидела своего любимого, она метнулась ему навстречу, а из ее губ или, вернее, из самого сердца вырвался радостный крик.
Пьер расцеловал ее в мокрые от слез щеки и спросил:
— Когда свадьба, Тереза?
— Когда хочешь, — отвечала та. — Я уже семь лет как готова, а о нашей помолвке объявлено уже три года назад.
— Значит, нам осталось только предупредить мэра и кюре?
— Ну, конечно!
— Идем предупредим их, Тереза! Я не согласен с теми, кто говорит: «Он ждал шесть лет, подождет еще». Нет, я, наоборот, считаю так: я ждал шесть лет и полагаю, что этого вполне достаточно, — больше ждать я не хочу!
Тереза придерживалась, разумеется, того же мнения, что и ее жених. Не успел он договорить, как она накинула на плечи шаль и приготовилась выйти.
Пьер Эрбель взял ее за руку.
Как бы ни торопились мэр и кюре, необходимо было подождать три дня. За это время капитан едва не лишился рассудка.
На третий день, когда мэр ему сказал; «Именем закона объявляю вас мужем и женой», Пьер Эрбель заметил:
— Какое счастье! Если бы пришлось еще ждать, я бы сегодня же ночью пришел к ней.
Девять месяцев спустя — день в день — Тереза родила крепкого мальчонку, которого, по уговору, крестил Пьер Берто по прозвищу Монтобан. Записали мальчика в книге актов гражданского состояния Сен-Мало под именем Пьера Эрбеля де Куртене, будущего виконта. Он был Пьером дважды: по имени родного отца и крестного.
Мы уже рассказывали, как, уступая моде той поры, молодой человек латинизировал свое имя и вместо несколько вульгарного имени апостола-отступника избрал более аристократичное — Петрус.
Однако наберитесь терпения, дорогие читатели; мы еще не закончили рассказ о его «отце-корсаре», как называл брата генерал Эрбель.
Медовый месяц капитана Эрбеля длился ровно столько, сколько существовал Амьенский мир. Мы ошибаемся: он затянулся на несколько дней дольше.
Десять историков против одного вам скажут, если, конечно, вы пожелаете к ним обратиться, как был нарушен договор 1802 года; зато только я могу вам поведать, чем закончился медовый месяц нашего достойного капитана.
Пока длился мир, все шло хорошо в семье Эрбелей. Муж обожал свою жену, нежную и тихую, будто ангел; он обожал-сына и уверял — не без основания, может быть, — что это самый красивый малыш не только в Сен-Мало, но и во всей Бретани, а то и во всей Франции. Короче говоря, это был счастливейший смертный, и если бы не война, это состояние покоя длилось бы, несомненно, месяцы, годы, длилось бы, может быть, вечно, и ни одно облачко не омрачило бы его ясного небосвода.
Но со стороны Англии стала надвигаться буря. Английское правительство заключило мир вынужденный; для этого понадобилось, чтобы вступление императора Павла I в союз с Пруссией, Данией и Швецией опрокинуло кабинет министров Питта и спикер Аддингтон был назначен первым лордом казначейства. К несчастью, мир просуществовал недолго. Убийство Павла I пошатнуло это ненадежное здание. Англичане обвинили Францию в том, что она слишком медленно освобождает Рим, Неаполь и остров Эльбу. Франция обвинила Англию в том, что та вообще не уходит из Мальты и Египта.
Бонапарт, решив встретить грядущие события во всеоружии, готовил экспедицию в Сан-Доминго. Политический барометр предвещал неизбежную войну.
С того дня как эта намечавшаяся экспедиция привела все французские гавани в лихорадочное возбуждение, предшествующее обычно морским войнам, капитан Эрбель потерял покой и сон. Тихое семейное счастье не могло заглушить его жажду к приключениям: для него семейная жизнь была цветущим островком в океане, где моряк может ненадолго передохнуть, но и только. Настоящим призванием капитана была морская служба: море не давало ему покоя, тянуло его к себе, словно ревнивая любовница, и манило помимо его воли. Веселое лицо его стало печальным, он не пропускал ни одного рыбацкого судна, чтобы не расспросить экипаж, когда возобновятся военные действия. Дни напролет он просиживал на самом высоком утесе, всматриваясь в даль, где море сливалось с небом.
Тереза, на все смотревшая его глазами, вскоре заметила, как он переменился, и долго не могла понять, чему приписать его странное состояние. Мрачное настроение, угрюмое молчание были настолько несвойственны ее мужу, что она не на шутку испугалась, но ни о чем его не спрашивала.
Она понимала, что рано или поздно он заговорит сам. И вот однажды ночью ее разбудили порывистые движения и громкие крики капитана.
Ему привиделось во сне сражение, и он закричал во все горло:
— Вперед! Бей англичан! Ребята, на абордаж! Да здравствует Республика!
Бой был нелегкий. Но через некоторое время он, видимо, закончился, как и для Сида, сам собою: некому стало сражаться.
Капитан, приподнявшийся было на постели, рухнул на подушку с криком:
— Спускай флаг, английская собака! Победа! Победа!
И он снова уснул мирным сном победителя.
Так несчастная Тереза узнала правду.
Сон ее как рукой сняло, и она прошептала:
— Сам того не зная, он только что объяснил мне, почему на него находит тоска. Бедный Пьер! Из любви ко мне он сидит здесь как привязанный, чувствует себя пленником в этом доме и бьется головой о решетку, словно лев в клетке… Увы, теперь я понимаю: эта тихая жизнь не для тебя, бедный мой Пьер! Тебе нужен простор, вольный воздух, бескрайнее небо над головой, море под ногами; тебе нужны великие бури и великие сражения, гнев человеческий и Божий! А я ничего не видела, не понимала, ни о чем не догадывалась: я тебя любила! Прости меня, дорогой мой Пьер!
Тереза в смертной тоске стала ждать утра, а когда рассвело, сказала как можно тверже:
— Пьер, ты здесь скучаешь!
— Я? — отозвался он.
— Да.
— Даже и не думай об этом!
— Пьер, ты никогда не лгал. Будь со мной честным и искренним, как подобает моряку.
Пьер пробормотал что-то невнятное.
— Безделье для тебя губительно, друг мой, — продолжала Тереза.
— Твоя любовь меня восхищает, — отвечал Пьер.
— Тебе пора в путь, Пьер; мы на пороге войны.
— Да, так все говорят.
— А ты, любимый мой, уже начал военные действия.
— Что ты имеешь в виду? — удивленно спросил Пьер.
Тереза рассказала, что было ночью.
— Вполне возможно, — согласился он. — Всю ночь мне снился ожесточенный бой.
— По тому, с какой страстью ты воевал, пусть во сне, я поняла, что время нашей безмятежной жизни прошло, а настоящая жизнь для тебя там, где опасность и слава, и я приняла очень важное решение, мой друг.
— Какое же?
— Помочь тебе как можно раньше выйти в море.
— Ты ангел мой, дорогая Тереза?
— О! Пьер! Провидение возложило на нас разные задачи, милый; я ждала тебя семь лет и была счастлива этим ожиданием. Ты вернулся, и два года я была самой счастливой женщиной на свете. Скоро ты снова уйдешь, Пьер, и я опять буду ждать твоего возвращения. Но теперь со мной будет наш сын, и ждать мне будет легче. Мой материнский долг — многому научить нашего дорогого сына. Я буду рассказывать ему про тебя, про твои битвы, слух о которых дойдет и до нас. Каждый день мы будем подниматься на скалу в надежде увидеть твой корабль, белеющий на горизонте. Так, дорогой, мы оба исполним долг перед Всевышним. Ты, мужчина, будешь защищать свою родину; я, женщина, стану воспитывать нашего сына, и Всевышний нас благословит.
Пьер обыкновенно не показывал своих нежных чувств, но, когда услышал ее слова, ему показалось, что над головой у его жены засветился нимб, как у планкоэтской Девы Марии; Пьер упал к ее ногам.
— Ты обещаешь, что не будешь без меня скучать, жена? — спросил он.
— Не скучать, Пьер, — отвечала Тереза, — значило бы не любить тебя! Я буду скучать, но как вспомню, что тебе хорошо, твое счастье заставит меня позабыть о моей печали.
Пьер бросился в объятия жены, потом выскочил из дома и побежал по улицам Сен-Мало, скликая всех прежних матросов по именам, а своему другу Пьеру Берто поручил собрать всех, кого он встретит по дороге или застанет дома.
Спустя неделю «Прекрасная Тереза» была полностью отремонтирована и свежевыкрашена; на борту был тот же хорошо известный экипаж, усиленный двадцатью новичками, а также двадцать четыре восемнадцатифунтовые карронады и две тридцатишестифунтовые пушки; она вышла из гавани Сен-Мало, чтобы вновь увидеть просторы Индийского океана, на которых корсар Пьер Эрбель завоевал громкую славу, соперничая со своим другом и земляком Сюркуфом.
Вышла «Прекрасная Тереза» 6 мая 1802 года, а уже 8-го числа того же месяца захватила после десятичасовой схватки невольничье судно с шестнадцатью двенадцатифунтовыми карронадами на борту.
Пятнадцатого она захватила португальское судно с восемнадцатью пушками и экипажем с семью десятками человек.
Двадцать пятого она завладела трехмачтовым торговым судном, шедшим под голландским флагом с пятью тысячами тюков рису и пятьюстами бочками сахару.
Пятнадцатого июня, в ночь, похожую на ту, когда капитан Эрбель расправился с «Калипсо», «Прекрасная Тереза» вывела из строя английский трехмачтовый корабль; руководил операцией Пьер Берто, на короткое время произведенный в ранг помощника капитана.
Наконец в начале июля, после восемнадцати боев, пятнадцать из которых закончились захватом неприятельских кораблей, «Прекрасная Тереза» бросила якорь в гавани острова Иль-де-Франс, которую покинула с разнообразными трофеями лишь в 1805 году, то есть после Аустерлицкого сражения.
Тереза сдержала данное мужу слово: каждый день она поднималась на скалу вместе с сыном, которому уже пошел четвертый год. И когда «Прекрасная Тереза» подошла к берегу ближе, Пьер Эрбель различил на скале женщину с ребенком, махавших ему руками.
Тереза узнала бриг своего мужа задолго до того, как он ее заметил.
МАЛЬМЕЗОН
Наступил 1815 год.
Было 6 июля; на горизонте еще дымилось поле битвы при Ватерлоо.
Двадцать первого июня в шесть часов утра Наполеон вернулся в Елисейский дворец, а 22-го подписал следующую декларацию:
Французы!
Начиная войну за национальную независимость, я рассчитывал на объединение всех усилий, воли каждого, на содействие всех национальных органов власти. Я имел основание надеяться на успех, а потому пренебрег всеми заявлениями держав против меня. По-видимому, обстоятельства изменились: я приношу себя в жертву ненависти врагов Франции. Да окажутся они искренни в своих заявлениях, утверждая, что всегда ненавидели только меня! Моя политическая жизнь кончена, и я провозглашаю своего сына, под именем Наполеона Второго, императором французов. Нынешние министры сформируют временный правительственный совет. Интересы сына заставляют меня обратиться к Палатам с предложением безотлагательно организовать законное регентство. Призываю всех объединиться во имя общественного спасения и национальной независимости.
Дано в Елисейском дворце, 22 июня 1815 года.
Наполеон".
Через четыре дня после подписания этой декларации, то есть 26 июня, Наполеон — почти сразу после отречения — получил такое постановление:
"Правительственная комиссия постановляет:
Статья 1. Морской министр отдаст распоряжение о снаряжении двух фрегатов в гавани Рошфора для доставки Наполеона Бонапарта в Соединенные Штаты.
Статья 2. Ему будет предоставлен по желанию вплоть до его отплытия достаточный эскорт под командованием генерал-лейтенанта Беккера, которому приказано обеспечить его безопасность.
Статья 3. Главный управляющий почтами отдаст все необходимые распоряжения почтовым службам.
Статья 4. Морской министр обеспечит возвращение фрегатов немедленно после прибытия на место.
Статья 5. Фрегаты будут безотлучно находиться на рошфорском рейде до прибытия охранных свидетельств.
Статья 6. Исполнение настоящего постановления поручается морскому министру, военному министру и министру финансов.
Подписано: герцог Отрантский; граф Гренье;
граф Карно; барон Кинетт;
Коленкур, герцог Виченцский".
На следующий день герцог Отрантский на основании нового правительственного решения разрешил императору принять под соответствующую расписку: сервиз столового серебра на двенадцать персон; фарфоровый сервиз, именуемый сервизом главной квартиры; шесть комплектов столового белья (на двенадцать персон каждый) из камчатой ткани; шесть таких же комплектов из ткани попроще; две дюжины первосортных простынь; две дюжины простынь сортом похуже; шесть дюжин полотенец; две почтовые кареты; три полных набора седел и конской сбруи; три набора седел и конской сбруи для стремянного; четыреста томов из библиотеки замка Рамбуйе; различные географические карты; наконец, сто тысяч франков на дорожные расходы.
Это было предназначенное в дорогу последнее имущество императора.
В тот же день около четырех часов пополудни генерал граф Беккер, отвечавший за безопасность того, кого теперь называли просто Наполеоном Бонапартом, получил от маршала и военного министра князя Экмюльского письмо. И хотя тот еще называл бывшего повелителя "императором" и "величеством", это, как увидят читатели, ни к чему его не обязывало, ведь всем известно, что такое сила привычки.
"Господин генерал!
Имею честь передать Вам прилагаемое распоряжение, которое правительственная комиссия поручает Вам довести до сведения императора Наполеона, известив Его Величество, что обстоятельства изменились и Его Величеству необходимо отправиться на остров Экс.
Это постановление было принято как в его личных интересах, так и в интересах государства, которое должно быть ему дорого.
Если император не примет к сведению это постановление, Вам надлежит установить более жесткое наблюдение как для того, чтобы Его Величество не мог выйти из Мальмезона, так и чтобы предупредить возможное покушение на его жизнь. Прикажите выставить охрану на всех улицах, прилегающих к Мальмезону. Я немедленно извещу главного инспектора жандармерии и начальника гарнизона Парижа, чтобы они предоставили в Ваше распоряжение жандармерию и войска, которые могут Вам понадобиться.
Повторяю, господин генерал, что это постановление было принято исключительно в интересах государства и личной безопасности императора. Его скорейшее исполнение необходимо, от этого зависит судьба Его Величества и его близких.
Мне нет нужды говорить Вам, господин генерал, что все эти меры должны быть приняты при сохранении строжайшей тайны.
Маршал, военный министр, князь Экмюльский".
Час спустя все тот же генерал Беккер получил от герцога Отрантского другое письмо, переданное ему военным министром:
"Господин граф!
Комиссия отзывает инструкции, которые она передала Вам час тому назад. Необходимо исполнить постановление в том виде, как оно было принято вчера; в соответствии с ним Наполеон Бонапарт останется на рейде острова Экс до прибытия всех бумаг.
Очень важно во имя блага государства — а это не может ему быть безразлично, — чтобы он оставался там до тех пор, пока окончательно не решится судьба его самого, а также его семьи. Будут приняты все меры к тому, чтобы эти переговоры закончились к его удовлетворению.
Затронута честь Франции, а пока нужно принять все меры предосторожности для личной безопасности Наполеона, а также для того, чтобы он не покидал места, отведенного ему для временного проживания.
Герцог Отрантский".
Начиная с 25-го император по приглашению правительственной комиссии покинул Елисейский дворец и удалился в Мальмезон, еще полный воспоминаний о Жозефине.
Несмотря на письмо герцога Отрантского и неотступные просьбы временного правительства, Наполеон никак не мог решиться на отъезд.
Двадцать восьмого июня он продиктовал графу Беккеру письмо. Само собою разумелось, что, хотя граф писал под диктовку императора, он нес за это письмо личную ответственность. Адресовано оно было военному министру.
"Монсеньер!
Ознакомившись с постановлением правительства об отъезде Его Величества в Рошфор, император поручил передать Вашей светлости: он отказывается от этого путешествия, принимая во внимание, что дороги небезопасны; Его Величество считает, что ему не будет обеспечена достаточная личная безопасность.
Кроме того, прибыв к этому месту назначения, император считал бы себя пленником, поскольку его отъезд с острова Экс зависит от времени прибытия бумаг для его отправления в Америку, в которых ему, несомненно, будет отказано.
Рассмотрев данный вопрос с вышеизложенных позиций, император решил принять свой арест в Мальмезоне, а в ожидании, пока его судьбу решит герцог Веллингтон, которому правительство может сообщить это решение, Наполеон останется в Мальмезоне, убежденный в том, что против него не будет предпринято ничего такого, что недостойно народа и правительства.
Граф Беккер".
Как видят читатели, Наполеона больше не называют "величеством", зато князя Экмюльского по-прежнему величают "светлостью".
Подобный ответ должен был привести к крайним мерам. В течение дня прибыла депеша; сначала подумали было, что в ней говорится об отъезде императора. Наполеон распечатал ее и прочитал следующее:
"Приказ военного министра генералу Беккеру.
Париж, 28 июня 1815 года.
Господин генерал!
Вам предписывается во главе гвардейской части, находящейся в Рюэе под вашим командованием, сжечь и полностью разрушить мост у Шату.
Приказываю также войскам, находящимся в Курбевуа, разрушить Безонский мост.
Для выполнения этой операции я посылаю туда одного из моих адъютантов.
Завтра я отправлю войска в Сен-Жермен, а пока займите эту дорогу.
Офицеру, доставившему Вам это письмо, поручено передать мне отчет о выполнении данного приказа".
Генерал Беккер ждал, что скажет император.
Тот, не теряя хладнокровия, передал ему письмо.
— Каков будет приказ вашего величества? — спросил граф Беккер.
— Исполняйте полученное распоряжение, — ответил император.
Генерал Беккер отдал необходимые приказания в ту же минуту.
Вечером генерала отозвали в Париж; он уехал в восемь часов.
Наполеон не пожелал ложиться отдыхать до возвращения генерала. Он хотел знать, что произойдет между генералом и военным министром.
В одиннадцать часов генерал вернулся.
Император приказал немедленно пригласить его.
— Что нового в Париже? — едва завидев генерала, спросил император.
— Происходят странные вещи, сир; вы не поверите, ваше величество…
— Ошибаетесь, генерал: с тысяча восемьсот четырнадцатого года я излечился от неверия. Рассказывайте, чему вы были свидетелем.
— Свидетелем! Да, сир, можно подумать, что ваше величество обладает даром ясновидения. Прибыв в особняк министра, я столкнулся с выходившим от князя человеком, на которого я вначале не обратил внимания.
— Что это был за человек? — нетерпеливо спросил Наполеон.
— Князь позаботился сообщить мне это, — продолжал генерал. — "Вы узнали человека, который только что от меня вышел?" — спросил он. "Не обратил на него внимания", — признался я. "Это господин де Витроль, уполномоченный Людовика Восемнадцатого".
Наполеон не смог сдержать едва заметной дрожи.
Генерал Беккер продолжал:
— "Ну что же, дорогой генерал, — сказал мне военный министр, — это господин де Витроль, уполномоченный Людовика Восемнадцатого, явившийся от имени его величества (Людовик XVIII снова стал "величеством") передать мне предложения, которые я нашел вполне приемлемыми для страны. Таким образом, если мои предложения будут одобрены, завтра я поднимусь на трибуну и обрисую наше положение, чтобы дать почувствовать необходимость принятия проектов, которые я считаю полезными для интересов нации".
— Стало быть, интересы нации заключаются отныне в возвращении Бурбонов… — пробормотал Наполеон. — И вы ничего на это не ответили, генерал?
— Напротив, сир. "Господин маршал! — сказал я. — Не скрою, я удивлен, видя, что вы принимаете решение, которое определяет судьбу Империи в пользу второй реставрации: поостерегитесь взваливать на себя такую ответственность. Возможно, существуют другие средства отбросить неприятеля, а мнение Палаты не кажется мне после ее голосования в пользу Наполеона Второго благоприятным для возвращения Бурбонов".
— И что он ответил? — с живостью спросил император.
— Ничего, сир. Он вернулся в свой кабинет и передал мне новый приказ об отъезде.
Действительно, генерал привез бумагу, в которой говорилось, что, если Наполеон не уедет в двадцать четыре часа, никто не отвечает за его личную безопасность.
Но император словно и не слышал приказа.
Казалось, его ничто не должно было удивлять, он только не мог понять одного: вопрос о возвращении Бурбонов обсуждал с г-ном де Витролем тот же самый князь Экмюльский, который вел переговоры о возвращении его, Наполеона, — тот же человек, который прислал к нему на остров Эльбу г-на Флёри де Шабулона, чтобы привлечь его внимание к положению дел и передать, что Франция для него открыта и ждет его!
Когда стало известно о высадке, бывший начальник штаба Наполеона оказался настолько скомпрометирован, что попросил прибежища у г-на Паскье, главного хирурга Дома инвалидов: он знавал его еще по армии и мог положиться на его преданность.
Наполеон заблуждался: еще существовало нечто, способное его удивить.
Он отдал приказание о своем отъезде на следующий день.
Но пока шла подготовка к отъезду императора, произошло событие, последствия которого могли привести к серьезным изменениям обстановки.
Одним из тех, кто с болью следил за тем, как Наполеон нерешительно борется с Божьей десницей сначала в Елисейском дворце, а потом в Мальмезоне, оказался наш старый знакомый, г-н Сарранти, в настоящее время искупающий за решеткой свою непреклонную верность императору, за которую он вскоре и вовсе может поплатиться головой.
Со времени возвращения Наполеона он неустанно и почтительно напоминал своему бывшему генералу, что в такой стране, как Франция, ничто никогда не потеряно. Маршалы были забывчивы, министры неблагодарны, сенат гнусен. Но армия и народ сохранили ему верность.
Необходимо все отринуть от себя подальше, повторял г-н Сарранти, и призвать на этот великий бой народ и армию.
Итак, 29 июня утром произошло событие, как будто подтвердившее правоту сурового и несгибаемого советчика.
К шести часам утра все изгнанники Мальмезона — жившие в этом замке уже являлись изгнанниками! — были разбужены громкими криками: "Да здравствует император! Долой Бурбонов! Долой предателей!"
Все спрашивали друг друга, что означали эти крики, почти забытые с тех пор, как под окнами Елисейского дворца два полка гвардейских стрелков, добровольцы из числа ремесленников Сент-Антуанского предместья, прошли через сад, громко требуя, чтобы император возглавил их и повел на врага.
Господин Сарранти, казалось, один был в курсе происходящего. Он был одет и стоял в передней, прилегавшей к спальне императора.
Он вошел раньше, чем император успел его позвать и справиться о причине шума.
Сарранти прежде всего взглянул на кровать: она была пуста. Император находился в смежной со спальней библиотеке. Он сидел у окна, положив ноги на подоконник, и читал Монтеня.
Заслышав шаги, он спросил, не оборачиваясь:
— В чем дело?
— Сир, вы слышите? — раздался знакомый голос.
— Что именно?
— Крики "Да здравствует император! Долой Бурбонов! Долой предателей!".
Император печально улыбнулся.
— Ну и что же, дорогой Сарранти? — спросил он.
— Сир! Это дивизия Брейера возвращается из Вандеи, она стоит у ворот замка.
— Что же дальше? — продолжал император в том же тоне с прежней невозмутимостью или, точнее, с прежним равнодушием.
— Что дальше, сир?.. Эти храбрецы не хотят идти дальше. Они заявили, что будут ждать, пока им вернут их императора, а если их командиры не согласятся быть их представителями перед вами, они сами придут за вашим величеством и сделают вас своим командующим.
— А дальше? — снова спросил Наполеон.
Сарранти подавил вздох. Он знал императора: это уже было не просто равнодушие, а отчаяние.
— Так вот, государь, — продолжал настаивать г-н Сарранти, — генерал Брейер здесь, он просит позволения войти и положить к стопам вашего величества волю своих солдат.
— Пусть войдет! — приказал император, поднимаясь и откладывая раскрытую книгу на окно, словно собираясь скоро вернуться к прерванному интересному чтению.
Вошел генерал Брейер.
— Сир! — заговорил он, почтительно склоняясь перед Наполеоном. — Я и моя дивизия пришли за приказаниями вашего величества.
— Вы опоздали, генерал.
— В том не наша вина, сир. Надеясь прибыть вовремя для защиты Парижа, мы проходили по десять, двенадцать и даже пятнадцать льё в день.
— Генерал! — проговорил Наполеон. — Я отрекся от власти.
— Как император, сир, но не как генерал.
— Я предложил им свою шпагу, но они от нее отказались, — заметил Наполеон, сверкнув глазами.
— Они от нее отказались!.. Кто, сир?.. Простите, что я задаю вопросы вашему величеству.
— Люсьен, мой брат.
— Сир, ваш брат принц Люсьен не забыл, что первого брюмера он был председателем Совета пятисот.
— Сир! — вмешался Сарранти. — Обратите внимание, что голос этих десяти тысяч человек, стоящих под вашими окнами и кричащих: "Да здравствует император!" — это выражение воли народа, последняя попытка Франции. Более того — это последняя милость фортуны… Сир, во имя Франции, во имя вашей славы…
— Франция неблагодарна, — прошептал Наполеон.
— Не надо богохульствовать, сир! Мать не может быть неблагодарной.
— Мой сын в Вене.
— Ваше величество дорогу туда знает.
— Моя слава умерла на равнинах Ватерлоо.
— Сир! Вспомните ваши собственные слова, сказанные в Италии в тысяча семьсот девяносто шестом году: "Республика как солнце. Только слепец или безумец станет отрицать его свет!"
— Сир! Только подумайте: у меня здесь десять тысяч солдат, готовых в огонь и воду, они еще не были в бою, — прибавил генерал Брейер.
Император на минуту задумался.
— Позовите моего брата Жерома, — попросил он.
И вот самый младший брат императора, единственный из всех, кто сохранил ему верность, тот, кто, будучи вычеркнут из списка монархов, сражался как солдат, вошел, еще бледный и не совсем оправившийся после двух ранений, полученных в Катр-Бра и на ферме Гумон, а также после тягот отступления, когда он прикрывал отход войска.
Император протянул ему руку, потом вдруг и без предисловий сказал:
— Жером! Что ты передал под командование маршала Сульта?
— Первый, второй и шестой корпуса, сир.
— Реорганизованными?..
— Полностью.
— Сколько человек?
— Тридцать восемь или сорок тысяч.
— А вы говорите, что у вас, генерал… — обратился Наполеон к Брейеру.
— Десять тысяч.
— А у маршала Груши — сорок две тысячи свежих солдат, — прибавил Жером.
— Искусители! — пробормотал Наполеон.
— Сир! Сир! — вскричал Сарранти, умоляюще сложив руки на груди. — Вы стоите на пути своего спасения… Вперед! Вперед!
— Хорошо, спасибо, Жером. Держись поблизости: ты, возможно, мне понадобишься… Генерал, ждите моих приказаний в Рюэе. Ты, Сарранти, садись за этот стол и пиши.
Бывший король и генерал вышли с поклоном, унося в душе надежду.
Господин Сарранти остался с императором наедине.
Он уже сидел с пером в руке.
— Пишите, — приказал Наполеон.
Потом, задумавшись, продиктовал:
— "В правительственную комиссию".
— Сир! — воскликнул Сарранти и бросил перо. — Я не стану писать к этим людям.
— Не будешь писать к этим людям?
— Нет, сир.
— Почему?
— Все эти люди — смертельные враги вашего величества.
— Они всем обязаны мне.
— Это лишний довод, сир. Есть такие великие благодеяния, что за них можно заплатить только неблагодарностью.
— Пиши, я тебе говорю.
Господин Сарранти встал, поклонился и положил перо на стол.
— Что еще? — спросил император.
— Сир! Уже прошли времена, когда побежденные приказывали себя убить своим рабам. Написать в правительственную комиссию — все равно что вонзить вам нож в грудь.
Император не отвечал.
— Сир! Сир! — взмолился Сарранти. — Надо браться за шпагу, а не за перо. Необходимо воззвать к нации, а не к людям, которые, повторяю, являются вашими врагами. Пусть они узнают, что вы разбили неприятеля в тот самый момент, когда они будут думать, что вы направляетесь в Рошфор.
Император знал своего земляка, он знал: его не переубедить, даже приказ императора не помог бы.
— Хорошо! — сказал он. — Пришлите ко мне генерала Беккера!
Сарранти вышел. Явился генерал Беккер.
— Генерал! — начал Наполеон. — Должен вам сказать, что я отложил свой отъезд на несколько часов, чтобы послать вас в Париж: вам надлежит передать правительству новые предложения.
— Новые предложения, сир? — удивился генерал.
— Да, — подтвердил император. — Я требую передать мне командование армией от имени Наполеона Второго.
— Сир! Имею честь вам заметить, что подобное послание уместнее было бы передать с офицером императорской свиты, нежели с членом Палаты и правительственным уполномоченным, чьи обязанности ограничиваются сопровождением вашего величества!
— Генерал! — продолжал император. — Я верю в вашу преданность, потому и поручаю это дело именно вам, а не кому-нибудь другому.
— Сир! Если моя преданность может быть полезна вашему величеству, — отозвался генерал, — я готов повиноваться без колебаний. Однако я бы хотел иметь письменные инструкции.
— Садитесь и пишите, генерал.
Генерал сел на то же место, где только что сидел Сарранти, и взял отложенное им перо.
Император стал диктовать, и генерал записал:
"В правительственную комиссию.
Господа!
Положение во Франции, пожелания патриотов и крики солдат требуют моего присутствия для спасения отечества.
Я требую пост командующего не как император, а как генерал.
Восемьдесят тысяч человек собираются под Парижем: это на тридцать тысяч больше того, что я хоть раз имел в своем подчинении во время кампании 1814 года, однако я три месяца сражался с огромными армиями России, Австрии и Пруссии, и Франция вышла бы победительницей из борьбы, если бы не капитулировал Париж; кроме того, это на сорок пять тысяч человек больше, чем было у меня, когда я покорил Альпы и завоевал Италию.
Даю слово солдата, что, отбросив неприятеля, я отправлюсь в Соединенные Штаты, чтобы завершить там свою судьбу.
Наполеон".
Генерал Беккер не позволил себе ни единого замечания. Как солдат, он понимал, что все это было возможно. Он уехал.
Наполеона снедало беспокойство. Впервые, может быть, мускулы его лица выдавали волнение его души.
Его гениальная мысль работала не переставая. Он представлял себе, что уже все исправил, все восстановил и диктовал мир, если не славный, то во всяком случае почетный, исполняя данное слово. Он покидал Францию не как беглец, а как спаситель.
Два часа он вынашивал эту соблазнительную мечту!
Он не спускал глаз с аллеи, по которой должен был возвратиться генерал, прислушивался к малейшему шуму. Временами его взгляд охотно останавливался на шпаге, брошенной поперек кресла. Он понял наконец, где его настоящий скипетр.
Значит, все еще было поправимо: приход Блюхера, отсутствие Груши! Его великая мечта 1814 года о сражении, которое под стенами Парижа похоронит неприятельскую армию, могла осуществиться! Несомненно, люди, к которым он обращался, поймут его правильно. Как и он, на одну чашу весов они положат честь Франции, а на другую — ее унижение; они не станут колебаться.
Перед глазами само обольщенного Наполеона мелькнуло что-то вроде молнии: это солнечный луч отразился от окна кареты.
Экипаж остановился, из него вышел человек: это был генерал Беккер.
Наполеон провел рукой по лицу, другую руку прижал к груди. Возможно, ему было бы лучше превратиться в ту минуту в мраморное изваяние?
Вошел генерал.
— Что? — поспешил спросить император.
Генерал с поклоном подал бумагу.
— Ваше величество! — начал он. — Вы, очевидно, по выражению моего лица уже догадались, что мне не удалось выполнить ваше поручение.
Император медленно развернул бумагу и прочел:
"Временное правительство не может принять предложения генерала Бонапарта и дает ему лишь один совет:
уехать незамедлительно, учитывая, что пруссаки наступают на Версаль.
Герцог Отрантский".
Император прочел эти строки, и ни один мускул на лице не выдал его волнения. Прекрасно владея собой, он сказал:
— Прикажите готовиться к отъезду, генерал, а когда ваши приказания будут выполнены, предупредите меня.
В тот же день в пять часов пополудни император покидал Мальмезон.
У подножки своей кареты он увидел Сарранти: тот подал ему руку, помогая подняться в экипаж.
— Кстати, — спросил Наполеон, опираясь на его надежную руку, — предупредил ли кто-нибудь генерала Брейера, что он может продолжать двигаться к Парижу?
— Нет, сир, — отвечал Сарранти, — и еще можно…
Наполеон покачал головой.
— Ах, сир, — прошептал корсиканец, — вы потеряли веру во Францию!
— Это так! — подтвердил Наполеон. — Но я не верю уже и в свой гений.
Он сел в карету, дверца за ним захлопнулась.
Лошади поскакали галопом.
Необходимо было прибыть в Версаль до пруссаков.
XXVIII
РОШФОР
Третьего июля, в тот же день как неприятель занял Париж, император прибыл в Рошфор.
Во все время пути Наполеон оставался печален, но спокоен.
Говорил он мало. Судя по нескольким вырвавшимся у него словам, он непрестанно возвращался мыслями к Франции, подобно тому, как стрелка компаса непрестанно показывает на север, но не сказал ни слова о жене и сыне.
Время от времени он брал щепоть табаку из табакерки генерала Беккера и вдруг заметил, что на крышке изображена Мария Луиза. Он решил, что ошибся, и склонился ниже.
Генерал все понял и протянул табакерку императору. Тот взял ее в руки, с минуту разглядывал, потом без слов вернул генералу.
Наполеон вышел у морской префектуры.
Последняя надежда — скажем больше: последняя уверенность — оставалась ему, что временное правительство передумает и отзовет его назад.
Через несколько часов после того, как он остановился в морской префектуре, прибыл курьер с письмом из правительственной комиссии, адресованным генералу Беккеру.
Император скользнул взглядом по печати, узнал ее и стал с нетерпением ждать, когда генерал распечатает письмо.
Генерал понял желание императора и поторопился. Наполеон обменялся взглядом с г-ном Сарранти, который доставил почту.
Во взгляде корсиканца ясно читалось: "Мне нужно с вами переговорить", но мысли Наполеона витали далеко. Хотя он понял, чего хочет его земляк, он думал только о депеше.
Генерал тем временем успел ее прочесть и, видя, что императору также не терпится узнать ее содержание, не говоря ни слова, подал бумагу императору.
Судите сами, была ли она из тех, что способны укрепить надежды изгнанника, который вот-вот станет пленником. Вот текст этой депеши:
"Господин генерал Беккер!
Правительственная комиссия передала Вам инструкции относительно отъезда из Франции Наполеона Бонапарта.
Я не сомневаюсь в Вашем усердии для успешного выполнения Вашей задачи. Дабы ее облегчить, насколько это в моих силах, я предписываю командующим в Ла-Рошели и Рошфоре оказать Вам всяческую поддержку и помощь в осуществлении мер, которые Вы сами сочтете приемлемыми для исполнения приказаний правительства.
Примите, и проч.
За военного министра государственный советник, первый секретарь барон Маршан".
Итак, если Наполеон Бонапарт замешкается с исполнением приказа, изгоняющего его из Франции, генерал Беккер мог отныне взять его за шиворот и вывести силой.
Наполеон уронил голову на грудь.
Прошло несколько минут. Император глубоко задумался.
Когда он снова поднял голову, генерала Беккера не было: он вышел, чтобы написать ответ комиссии. Один Сарранти продолжал стоять перед ним.
— Ну, что тебе еще от меня нужно? — нетерпеливо спросил император.
— В Мальмезоне я хотел спасти Францию, сир, а здесь — вас самого.
Император пожал плечами. Казалось, он полностью покорился судьбе: это последнее письмо уничтожило последние его надежды.
— Спасти меня, Сарранти? — переспросил он. — Мы вернемся к этому разговору в Соединенных Штатах.
— Хорошо, но так как вы никогда не доедете до Соединенных Штатов, сир, давайте поговорим об этом здесь, если не хотите опоздать.
— Почему я не доеду до Соединенных Штатов? Кто мне помешает это сделать?
— Английская эскадра, которая через два часа блокирует рошфорскую гавань.
— Кто тебе это сказал?
— Капитан брига, только что вернувшийся с рейда.
— Я могу поговорить с этим капитаном?
— Он ждет, когда ваше величество окажет ему эту честь.
— Где он?
— Здесь, сир.
Сарранти указал на дверь своей комнаты.
— Пусть войдет, — приказал император.
— Прежде я хотел бы узнать, угодно ли вашему величеству говорить с ним долго и без помех?
— А разве я уже не пленник? — с горечью спросил Наполеон.
— После только что полученного сообщения никто не удивится, если вы, ваше величество, запретесь.
— Закрой дверь на задвижку и пригласи своего капитана.
Сарранти повиновался.
Заперев дверь, он ввел того, о ком докладывал императору.
Это был человек лет сорока шести — сорока восьми, одетый как простой моряк без знаков различия, которые указывали бы на его звание.
— Где же твой капитан? — спросил император у Сарранти, приготовившегося выйти.
— Это я, сир, — доложил вновь прибывший.
— Почему же вы не в мундире офицера флота?
— Потому что я не офицер флота, сир.
— Кто же вы?
— Корсар.
Император бросил на незнакомца взгляд, не лишенный пренебрежения. Но, вглядевшись в его лицо, он сверкнул глазами и воскликнул:
— О, Я вас вижу не в первый раз.
— Совершенно верно, сир: в третий.
— А впервые это было?..
Император напряг память.
— Впервые… — подхватил моряк, желая помочь слабеющей памяти прославленного собеседника.
— Нет, я хочу вспомнить сам, — остановил его Наполеон. — Вы часть моих приятных воспоминаний, и мне радостно снова встретиться со старыми друзьями. В первый раз я видел вас в тысяча восьмисотом году: я хотел назначить вас капитаном, а вы отказались, верно?
— Так точно, сир, я всегда отдавал предпочтение свободе.
— Во второй раз мы встретились во время моего возвращения с острова Эльбы; я воззвал к патриотам Франции: вы предложили мне три миллиона, и я согласился.
— Иными словами, сир, в обмен на деньги, с которыми я не знал что делать, вы дали мне акции каналов и полномочия на вырубку леса.
— Наконец, в третий раз — сегодня. Как всегда, вы явились в трудную для меня минуту. Что же вам угодно, капитан Пьер Эрбель?
Капитан вздрогнул от радости. Император помнил все, даже его имя!
— Что мне угодно, сир? Я хочу попытаться вас спасти.
— Прежде всего, скажите, какая опасность мне угрожает.
— Вас могут захватить англичане.
— Значит, Сарранти сказал мне правду? Рошфорская гавань блокирована?
— Пока нет, сир. Но через час так и будет.
Император ненадолго задумался.
— С минуты на минуту мне должны доставить охранное свидетельство, — сказал он.
Эрбель покачал головой.
— Вы полагаете, я его не получу?
— Нет, сир.
— Каковы же, по-вашему, намерения монархов союзных держав?
— Захватить вас в плен, сир.
— Они же все были у меня в руках, но я их отпустил и вернул им троны!
— Возможно, вы допустили ошибку, сир.
— И вы пришли предупредить меня об опасности?
— Я предоставляю в распоряжение вашего величества свою жизнь, если только она может быть вам полезна.
Император посмотрел на человека, говорившего так просто, что не оставалось никаких сомнений в его искренности.
— Я считал вас республиканцем, — заметил Наполеон.
— А я и есть республиканец, сир.
— Почему же вы не видите во мне врага?
— Потому что я прежде всего патриот. О да, сир, я глубоко сожалею, что вы, подобно Вашингтону, не предоставили нации полную свободу. Но если вы не сделали Францию свободной, то во всяком случае сделали ее великой; вот почему я пришел вам сказать: "Будь вы счастливы и на вершине славы, сир, вы бы меня не увидели".
— Да, а когда я несчастен и лишен всего, вы, отдав мне свое состояние, пришли предложить и жизнь. Вашу руку, капитан Эрбель! За эту преданность я могу заплатить лишь признательностью.
— Вы ее принимаете, сир?
— Да, однако что вы намерены мне предложить?
— У меня к вам три предложения, сир. Угодно ли вам отправиться в Париж по Луаре? Армия Вандеи под командованием генерала Ламарка, а также армия Жиронды под командованием генерала Клозеля в вашем распоряжении. Нет ничего проще, как обвинить временное правительство в измене и двинуться против него во главе двадцати пяти тысяч солдат и ста тысяч фанатично преданных вам крестьян.
— Это было бы вторым возвращением с острова Эльба, а мне бы не хотелось начинать все сначала. Кроме того, я устал, сударь. Я хочу отдохнуть и посмотреть, чем мир меня заменит, когда самого меня здесь уже не будет. Перейдем ко второму вашему предложению.
— Ваше величество! Есть человек, за которого я ручаюсь головой, мой помощник Пьер Берто; его корвет стоит в устье Сёдра. Вы сядете на коня, переправитесь через солончаковые болота, потом на фелуке выйдете через пролив Момюсон, обойдете таким образом англичан и встретитесь в море с американским судном "Орел". Как видите, его название — добрый знак.
— Это бегство, сударь, словно я преступник, а я бы хотел покинуть Францию как император, сходящий с трона!.. Ваше третье предложение?
— Третий способ — наиболее рискованный, однако я за него отвечаю.
— Посмотрим.
— Два французских фрегата, "Ива" и "Медуза", стоящие на якоре под прикрытием батарей на острове Экс, предоставлены в распоряжение вашего величества французским правительством, не так ли?
— Да, сударь, однако если гавань блокирована?..
— Погодите, ваше величество… Я знаком с командирами этих фрегатов, это храбрые офицеры: капитан Филибер и капитан Поне.
— И что же?
— Выбирайте сами, на какой из этих двух фрегатов вы сядете. "Медуза", например, — самое быстроходное судно. Блокада состоит из двух кораблей: шестидесятичетырехпушечного "Беллерофона" и восьмидесятипушечного "Великолепного". Я на своем бриге буду отвлекать "Беллерофона"; капитан Филибер сядет со своей "Ивой" на хвост "Великолепному". Пройдет больше часа, прежде чем они нас потопят! За это время вы пройдете на "Медузе", и не как беглец, а как победитель, под огненной триумфальной аркой.
— Чтобы я себе упрекал в гибели двух кораблей вместе с экипажами, сударь?! Никогда!
Капитан Эрбель удивленно посмотрел на Наполеона.
— А Березина, сир? А Лейпциг? А Ватерлоо?
— Это было сделано ради Франции, а ради нее я имел право пролить кровь французов. Теперь же я сделал бы это для себя лично.
Наполеон покачал головой и еще тверже повторил:
— Никогда.
Тринадцатого числа того же месяца он обратился к принцу-регенту со знаменитым письмом, ставшим, увы, достоянием истории:
"Ваше Королевское Высочество!
Будучи мишенью заговоров, раздирающих мою страну, а также враждебности великих европейских держав, я завершил свою политическую карьеру и отправляюсь, как Фемистокл, к очагу британского народа. Я отдаю себя под покровительство его законов, коего настоятельно прошу у Вашего Королевского Высочества, как у наиболее могущественного, надежного и великодушного из моих недругов.
Наполеон".
На следующий день, 15 июля, император поднялся на борт "Беллерофона".
Пятнадцатого октября он высадился на острове Святой Елены.
Ступив на проклятый остров, он оперся на руку г-на Сарранти и шепнул ему на ухо:
— О! Почему я не принял предложение капитана Эрбеля!
XXIX
ВИДЕНИЕ
Конец истории капитана Эрбеля прост и много времени не займет.
Как и все, кто принимал участие в возвращении 1815 года, Пьер Эрбель претерпел гонения.
Его не расстреляли, как Нея или Лабедуайера, только потому, что он не давал клятву верности Бурбонам, и его преследователи не знали, какое обвинение против него выдвинуть. Но акции каналов, которые дал Пьеру Эрбелю император в обмен на его деньги, обесценились; полномочия на вырубку леса не были подтверждены; "Прекрасную Терезу" арестовали как контрабандистское судно и конфисковали; наконец банкир, у которого хранилось остальное состояние капитана, разорился из-за политических событий, был вынужден объявить себя несостоятельным и заплатил лишь десять процентов.
Из всего огромного состояния Эрбелю удалось спасти примерно пятьдесят тысяч франков и небольшую ферму.
Пьер Берто оказался более удачлив или ловок, чем он: наученный реакцией 1814 года, он не стал ждать реакции 1815 года и ушел на своем корвете, погрузив все свое добро.
Однако что сталось с ним и его экипажем? Никто так ничего с тех пор о нем и не слышал. Полагали, что корабль погиб со всем экипажем и имуществом во время какого-нибудь шторма. Если так случилось, значит, Пьер Берто умер как подобает моряку, и Тереза стала поминать его в молитвах, а Пьер Эрбель заказал по нему мессу; оба они рассказывали о Пьере Берто его крестнику как о замечательном человеке, который был бы мальчику вторым отцом, если бы когда-нибудь вернулся. Потом все успокоилось — так бывает с рекой: ее воды замутятся на время, когда в нее ворвется поток или обрушится лавина, а потом она снова неспешно понесет свои волны. Так прошло три года, и когда кто-нибудь заговаривал о Пьере Берто, Эрбель со вздохом отвечал: "Бедный Пьер!" Тереза смахивала слезу и начинала молиться, а их сын говорил: "Он был моим крестным, да, папа? Я очень люблю крестного!"
И этим все было сказано.
Впрочем, Пьер Эрбель перенес собственное разорение по-философски. Теперь его состояние не превышало того, что он унаследовал от отца.
Когда его брат вернулся во Францию, Пьер предложил продать ферму и разделить деньги.
Генерал Эрбель отказался, называя брата пиратом; позднее он получил немалую долю из миллиарда, ассигнованного на возмещение убытков, понесенных эмигрантами, но не предложил Пьеру половину. Пьер, разумеется, отказался бы, даже если бы и получил такое предложение, и оба брата продолжали любить друг друга каждый по-своему: капитан — от всего сердца, генерал — с долей рассудочности.
Что же касается мальчика, то читатели уже в общих чертах знают, как он воспитывался.
Он взрослел.
Его послали в Париж, в один из лучших столичных коллежей. Отец и мать всячески сокращали расходы, чтобы дать сыну все необходимое; из экономии они переехали из Сен-Мало на ферму, дававшую от тысячи двухсот до тысячи четырехсот франков дохода; на образование Петруса уходили все остальные не очень большие их деньги.
В 1820 году капитан Эрбель (ему в те времена было не больше пятидесяти лет, и он умирал от скуки, наблюдая за тем, как зарастает травой ферма) сообщил однажды жене, что один гаврский судовладелец предлагает ему отправиться в Вест-Индию.
Супруги решили, что Пьеру необходимо принять участие в этом предприятии и попытаться удвоить свое состояние.
Капитан вложил в это дело тридцать тысяч франков.
Однако счастливые дни миновали! В Мексиканском заливе трехмачтовое судно попало в страшный шторм и разбилось об Алакранские скалы, куда более коварные, чем античная Сцилла. Корабль затонул; капитан и самые выносливые пловцы выбрались на коралловые рифы, выступавшие из воды, уцепились за них, а на третий день несчастных моряков, умиравших от голода и разбитых усталостью, подобрал испанский корабль.
Эрбелю оставалось лишь вернуться домой. Капитан испанского судна, державший курс на Гавану, высадил его в этом порту, а там помог пересесть на корабль, готовившийся к отплытию во Францию.
Старый корсар вернулся домой опечаленный, с понурой головой, и никто не хотел верить, что потеря судна могла до такой степени огорчить человека, испытавшего на себе все превратности судьбы.
Нет, не это его огорчало, но истинную причину своей печали он открыть не смел.
В последнюю ночь, которую Эрбель провел, уцепившись за риф, когда силы покидали его, живот был пуст, а в голове шумело от оглушительного рева, когда море разбивалось вокруг него о рифы, с капитаном произошло то, что недоверчивый человек назвал бы бредом, а легковерный — видением.
Около полуночи — капитан лучше других умел определять время по звездам — луна спряталась в облаках и сразу сделалось темнее; потом капитану почудился шум крыльев над головой и голос, приказавший волнам: "Уймитесь!"
Голос принадлежал морским духам.
И, как бывает в фантасмагориях, когда издалека появляется силуэт сначала едва различимый, а потом он становится все больше и наконец достигает нормальных размеров, капитан увидел, как к нему подходит или, точнее, скользит по волнам женщина, закутанная в вуаль, и останавливается перед ним. По всему его телу пробежала дрожь: под вуалью он сейчас же узнал Терезу.
Но даже если бы у него и оставалось хоть малейшее сомнение, оно вскоре все равно рассеялось бы.
Приблизившись к нему, женщина подняла вуаль.
Капитан хотел было крикнуть или заговорить с тенью, но она приложила палец к бескровным губам, будто приказывая ему молчать, и прошептала (голос ее был едва слышен, и капитан понял, что имеет дело не с живым существом):
— Возвращайся скорее, Пьер! Я жду тебя, чтобы умереть!
И, будто внезапно лишившись магической власти, поддерживавшей ее на волнах, тень медленно погрузилась в воду, сначала по щиколотку, потом по колено, по пояс, по шею и наконец с головой: видение исчезло… Успокоившееся на время море снова вздыбилось, закоченевшего капитана снова обдало пронизывающими брызгами, и все стало как прежде.
Эрбель обратился с расспросами к товарищам, однако те, поглощенные своими страданиями и страхом, ничего не видели: все будто происходило для одного капитана.
Видение это придало ему сил. Он решил, что не имеет права умереть, не повидавшись с Терезой, раз она ждет его возвращения, чтобы самой умереть.
Как мы уже сказали, на следующий день несчастных обнаружило и подобрало испанское судно. И по мере того как они приближались к берегам Франции, видение это — уже не в глазах, а в памяти капитана — становилось все более отчетливым, ярким, осязаемым.
Наконец Эрбель высадился в Сен-Мало, где он отсутствовал два с лишним года.
Первый же знакомый, которого он встретил в гавани, от него отвернулся.
Он догнал того, кто, как ему показалось, его избегал.
— Так Тереза очень больна? — спросил капитан.
— Вы, стало быть, знаете? — обернулся к нему знакомый.
— Да, — кивнул Эрбель. — Скажите же, что с ней!
— Мужайтесь, капитан!
Эрбель побледнел.
— Вчера я слышал, что она умерла.
— Не может быть! — воскликнул капитан.
— Почему? — удивился его собеседник.
— Она сама недавно сказала, что дождется моего возвращения.
Знакомый капитана решил, что тот сошел с ума, но не успел расспросить его об этом новом несчастье: Пьер заметил другого своего знакомого, выехавшего на верховую прогулку, бросился к нему и попросил одолжить коня. Тот не стал возражать, видя, как Эрбель побледнел и изменился в лице. Капитан прыгнул в седло и пустил лошадь в галоп, а через двадцать минут уже отворял дверь в спальню жены.
Несчастная Тереза приподнялась на постели, словно чего-то ожидая. Петрус, с трудом сдерживая рыдания, стоял у ее изголовья. Вот уже целый час он думал, что мать бредит; она всем своим существом обратилась в сторону Сен-Мало и приговаривала:
— Сейчас твой отец сходит на берег… вот он о нас справляется… теперь садится на лошадь… подъезжает к дому…
И действительно, как только умирающая произнесла последние слова, послышался топот копыт, потом дверь распахнулась и на пороге появился капитан.
Души и тела супругов слились воедино, так что даже смерть не решалась их разлучить; слова были излишни, муж и жена просто соединились в последнем объятии.
Оно было долгим и мучительным, а когда капитан разжал руки, Тереза уже была мертва.
Ребенок занял в отцовском сердце место матери.
Потом могила потребовала отдать ей мертвое тело. Париж потребовал возвращения мальчика. Капитан остался один.
С этого времени Пьер Эрбель жил грустно и уединенно на своей ферме, предаваясь воспоминаниям о славном прошлом, о приключениях, страданиях, счастье.
Из всего его прошлого ему оставался только Петрус; мальчик мог у него просить чего угодно и немедленно получал все что хотел.
Избалованный ребенок в полном смысле этого слова, Петрус, в ком для капитана соединялись сын и мать, никогда не вел счет своему небольшому состоянию.
В течение трех лет — с 1824 по 1827 год — ему не о чем было просить отца: вместе с известностью к нему пришли и заказы, а с ними и деньги, которых ему вполне хватало на жизнь.
Но вдруг молодой человек влюбился в прекрасную аристократку Регину, и его потребности удвоились, потом утроились. Зато заказов, наоборот, стало меньше.
Сначала Петрус стал стесняться давать уроки и отказался от них. Потом ему показалось унизительным выставлять свои работы у торговцев картинами: любители могли прийти и к нему, торговцы картинами могли и сами зайти в его мастерскую.
Доходы прекратились, зато расходы выросли неимоверно.
Читатели видели, на какую широкую ногу жил теперь Петрус: карета, лошадь упряжная и верховая, ливрейный лакей, редкие цветы, вольер, мастерская, обставленная фландрской мебелью, украшенная китайскими вазами и богемским стеклом.
Петрус не забыл об источнике, в котором черпал когда-то, и решил к нему вернуться. Источник был неиссякаемый: отцовское сердце.
Петрус трижды за последние полгода обращался к отцу, причем просил все большие суммы: две тысячи, потом пять, потом десять. И безотказно получал все, о чем просил.
Наконец, мучимый угрызениями совести, краснея, но не в силах устоять перед подчинявшей его себе и неотразимой любовью, он в четвертый раз обратился к отцу.
На сей раз тот ответил не сразу; это объяснялось тем, что капитан сначала написал к генералу Эрбелю (результатом чего явилась уже знакомая читателю сцена), а затем сам привез ответ сыну.
Вы помните, какой урок успел преподать генерал своему племяннику, когда Пьер Эрбель вышиб дверь, спустив лакея с лестницы.
Вот с этого времени мы и продолжим наш рассказ, прерванный — и читатели нас за это извинят — ради того, чтобы дать представление о достойном и прекрасном человеке, который мог показаться нам совсем в другом свете, если бы мы взяли на веру лишь те существительные, которыми награждал его генерал Эрбель, а также эпитеты, которыми он эти существительные уснащал.
Но мы замечаем, что, несмотря на свое многословие в описании морального облика капитана Пьера Эрбеля, совершенно упустили из виду его внешность.
Поспешим исправить этот недостаток.
XXX
САНКЮЛОТ
Капитану Пьеру Эрбелю, по прозвищу Санкюлот было в те времена пятьдесят семь лет.
Это был человек невысокого роста, широкоплечий, мускулистый, с квадратной головой и курчавыми волосами, когда-то рыжеватыми, а теперь седеющими, — словом, бретонский геркулес.
Его брови, более темные, чем волосы, и не тронутые сединой, придавали его лицу грозный вид. Зато небесно-голубые чистые глаза и рот, открывавший в улыбке белоснежные зубы, наводили на мысль об изумительной доброте и бесконечной нежности.
Он мог быть резок и стремителен, каким мы видели его на борту судна, в Тюильри, в гостях у сына. Но под этой резкостью, под этой стремительностью скрывались самое чувствительное сердце, самая сострадательная душа на свете.
Он давно привык повелевать людьми в ситуациях, когда опасность не позволяла проявлять слабость, а потому и лицо у него было волевое и решительное. Лишившись "Прекрасной Терезы" и всего состояния, живя в деревне, он и там умел заставить себя слушать, и не только крестьян, живших с ним дверь в дверь, но и богатых землевладельцев, проживавших неподалеку.
Страдая от вынужденного безделья после объявления мира в Европе и не имея возможности сразиться с людьми, капитан объявил войну животным. Отдавая этому занятию всего себя, он стал страстным охотником и жалел об одном: что имеет дело не с крупными животными вроде слонов, носорогов, львов, тигров и леопардов, а воюет с такими жалкими противниками, как волки и кабаны.
Потеряв Терезу и находясь вдали от Петруса, капитан Эрбель почти три четверти года проводил в лесах и ландах, раскинувшихся на десять — двенадцать льё в округе, с ружьем на плече и в компании двух собак.
Иногда он не бывал дома неделю, полторы, две, давая о себе знать лишь повозками с дичью, которые он присылал в деревню, как правило, самым нуждающимся семьям. Таким образом, лишившись возможности раздавать нищим милостыню, он кормил их с помощью своего ружья.
Итак, капитан был в большей даже степени, чем Нимрод, настоящим охотником перед Богом.
Однако эта страстная охота имела иногда свои неудобства.
Читателям, вероятно, известно, что законный порядок вещей таков: самый заядлый охотник, как правило, в феврале вешает свое ружье над камином, и висит оно там по сентябрь. Не то было с ружьем нашего капитана: его леклер — он выбрал стволы, вышедшие из мастерской знаменитого оружейника, носящего это имя, — не отдыхал никогда, гремел без перерыва по всей округе и был хорошо знаком местным жителям.
Правду сказать, все сельские полицейские, лесники и жандармы департамента знали, в каких целях капитан охотится и на что идет его добыча, а потому, заслышав выстрел в одной стороне, уходили в другую. Но уж если капитан слишком бесцеремонно вторгался в чужие владения и уводил дичь из-под носа у хозяина земельных угодий, на которых охотился, тут уж полицейский решался составить протокол и препроводить нарушителя в суд.
Как бы строго ни относился суд в период Реставрации к нарушениям законов об охоте, но когда судьи узнавали, что это нарушение допустил Эрбель Санкюлот, они смягчали наказание и назначали минимальный штраф. Таким образом, за сотню франков штрафа в год капитан раздавал более двух тысяч франков милостыни, кормился сам, посылал восхитительные корзины с дичью своему сыну Петрусу, делившемуся этой добычей в особенности с теми из своих собратьев, кто писал натюрморты, — все это лишний раз доказывало, что браконьерство, как и добродетель, всегда вознаграждается.
Во всем остальном капитан оставался истинным сыном моря. Он не только не знал, как живут в городе, но и понятия не имел о светской жизни.
Одиночество, которое переживает моряк, затерянный в огромном океане; величественное зрелище, постоянно открывающееся его взору; легкость, с которой он каждую минуту рискует жизнью; беззаботность, с какой он ждет смерти; жизнь моряка, а потом охотника свели к минимуму его общение с людьми, и за исключением англичан, которых капитан, сам не зная почему, считал своими естественными врагами, ко всем остальным себе подобным — что может обсуждаться и что мы обсудим при первой же возможности — он испытывал симпатию и дружеские чувства.
Единственной трещиной в его гранитном или даже золотом сердце была незаживающая рана, причиненная смертью жены, несчастной Терезы, прелестной женщины, чистой души, воплощения безмолвной преданности.
И вот, переступив порог мастерской и обняв Петруса, он по-отцовски его оглядел, и у него из глаз скатились две крупные слезы. Протянув руку в сторону генерала, он сказал:
— Посмотри на него, брат: он вылитая мать!
— Возможно, ты и прав, — отозвался генерал, — но тебе бы следовало помнить, пират ты этакий, что я никогда не имел чести знать его уважаемую мать.
— Верно, — подтвердил капитан ласково, со слезой в голосе, как бывало обычно, когда он говорил о жене, — она умерла в тысяча восемьсот двадцать третьем, а мы с тобой еще были тогда в ссоре.
— Ах так?! — вскричал генерал. — Ты что же, думаешь, мы сейчас помирились?
Капитан улыбнулся.
— Мне кажется, — заметил он, — что когда два брата обнимаются, как мы, после тридцатитрехлетней разлуки…
— Это ни о чем не говорит, метр Пьер. Ах, ты думаешь, я помирюсь с таким бандитом, как ты! Я подаю ему руку — ладно! Я его обнимаю — пускай! Но мой внутренний голос говорит: "Я тебя не прощаю, санкюлот! Не прощаю я тебя, разбойник! Нет тебе прощения, корсар!"
Капитан с улыбкой наблюдал за братом, потому что знал: в глубине души тот нежно его любит.
Когда генерал перестал браниться, он продолжал:
— Ба! Да я же на тебя не сержусь за то, что ты воевал против Франции!
— Можно подумать, что Франция была когда-нибудь гражданкой Республикой или господином Бонапартом! Я воевал против тысяча семьсот девяносто третьего года и против тысяча восемьсот пятого, понятно, браконьер? А вовсе не против Франции!
— Не сердись, брат, — добродушно проговорил капитан. — Я всегда полагал, что это одно и то же.
— Отец всегда так думал и будет думать, — вмешался Петрус, — вы же, дядя, придерживались и будете придерживаться противоположного мнения. Не лучше ли сменить тему?
— Да, пожалуй, — согласился генерал. — Как долго ты почтишь нас своим присутствием?
— Увы, дорогой Куртене, у меня мало времени.
Сам Пьер Эрбель отказался от имени Куртене, но продолжал называть им брата, как старшего в семье.
— Как это "мало времени"? — в один голос переспросили генерал и Петрус.
— Я рассчитываю отправиться в обратный путь сегодня же, дорогие мои, — отвечал капитан.
— Сегодня, отец?
— Да ты совсем с ума сошел, старый пират! — подхватил генерал. — Хочешь уехать, не успев приехать?
— Это будет зависеть от моего разговора с Петрусом, — признался капитан.
— Да, и еще от какой-нибудь охоты с браконьерами департамента Ильи-Вилен, верно?
— Нет, брат, у меня там остался старый друг; он при смерти… Он сказал, что ему будет спокойнее, если я закрою ему глаза.
— Может, он тоже тебе являлся, как и Тереза? — скептически, как обычно, заметил генерал.
— Дядюшка!.. — остановил его Петрус.
— Да, я знаю, что мой брат-пират верит в Бога и в привидения. Однако тебе, старому морскому волку, очень повезло, что если Бог и существует, то он не видел, как ты разбойничал, иначе не было бы тебе спасения ни на этом, ни на том свете.
— Если так, брат, — ласково возразил капитан и покачал головой, — то моему несчастному другу Сюркуфу не повезло, и это лишняя причина, чтобы я к нему возвратился как можно скорее.
— A-а, так вот кто умирает: Сюркуф! — вскричал генерал.
— Увы, да, — подтвердил Пьер Эрбель.
— Клянусь честью, одним отъявленным разбойником будет меньше!
Пьер огорченно посмотрел на генерала.
— Что ты на меня так смотришь? — смутившись, спросил тот.
Капитан покачал головой и лишь вздохнул в ответ.
— Нет, ты скажи! — продолжал настаивать генерал. — Я не люблю людей, которые молчат, когда им велено говорить. О чем ты думаешь? Не можешь сказать?
— Я подумал, что, когда я умру, мой старший брат помянет меня только этими словами.
— Какими? Что я такого сказал?
— "Одним отъявленным разбойником будет меньше…"
— Отец! Отец! — прошептал Петрус.
Он повернулся к генералу и продолжал:
— Дядя! Вы недавно меня бранили и были совершенно правы. Если теперь побраню вас я, так уж ли я буду не прав? Отвечайте!
Генерал смущенно кашлянул, не находя, что ответить.
— Неужели твой Сюркуф так плох? Черт подери! Я отлично знаю, что в нем было немало хорошего и что он был храбрец под стать Жану Барту. Только надо было ему посвятить себя какой-нибудь другой цели!
— Он служил делу народа, брат, делу Франции!
— Дело народа! Дело Франции! Произнося слова "народ" и "Франция", проклятые санкюлоты считают, что этим все сказано! Спроси своего сына Петруса, этого господина аристократа, у которого свои ливрейные лакеи и гербы на карете, есть ли во Франции что-нибудь еще, кроме народа.
Петрус покраснел до ушей.
Капитан взглянул на сына ласково и вместе с тем будто вопрошая.
Петрус молчал.
— Он тебе обо всем этом расскажет, когда вы останетесь вдвоем, и ты, разумеется, опять скажешь, что он прав.
Капитан покачал головой.
— Он мой единственный сын, Куртене… И мальчик так похож на мать!..
Генерал снова не нашелся, что ответить, и кашлянул.
Помолчав немного, он все-таки спросил:
— Я хотел узнать, так ли плох твой друг Сюркуф, что ты даже не сможешь поужинать у меня сегодня вместе с Петрусом?
— Моему другу очень плохо, — с расстроенным видом подтвердил капитан.
— Тогда другое дело, — поднимаясь, сказал генерал. — Я тебя оставляю с сыном и первый тебе скажу: немало грязного белья вам предстоит перемыть в кругу семьи! Если останешься и захочешь со мной поужинать — добро пожаловать! Если уедешь и я тебя больше не увижу — счастливого пути!
— Боюсь, что мы не увидимся, брат, — вздохнул Пьер Эрбель.
— Тогда обними меня, старый негодяй!
Он распахнул объятия, и достойнейший капитан нежно и вместе с тем почтительно, как подобает младшему брату, припал к его груди.
Потом, словно боясь поддаться охватившей его нежности, что было бы противно его правилам и, главное, взглядам, генерал вырвался из объятий брата и бросил на прощанье Петрусу:
— Сегодня вечером или завтра я увижу вас у себя, не так ли, досточтимый племянник?
Генерал поспешил к лестнице и сбежал вниз с легкостью двадцатилетнего юноши, бормоча себе под нос:
— Вот чертов пират! Неужели я так никогда и не смогу сдержать слез при виде этого разбойника?!
XXXI
ОТЕЦ И СЫН
Едва за генералом захлопнулась дверь, как Пьер Эрбель снова протянул сыну руки. Не разжимая объятий, тот увлек отца к софе, усадил его и сел рядом сам.
Вспомнив слова, вырвавшиеся напоследок у старшего брата, капитан скользнул взглядом по роскошному убранству мастерской, по гобеленам с изображением царствующих особ, по старинным сундукам эпохи Возрождения, греческим пистолетам с серебряными приливами ствола, арабским ружьям с коралловыми инкрустациями, кинжалам в ножнах из золоченого серебра, богемскому стеклу и старинному фландрскому серебру.
Осмотр был кратким, после чего капитан перевел взгляд на сына, по-прежнему открыто и радостно ему улыбаясь.
Петрус же устыдился своей роскоши, вспомнив голые стены планкоэтской фермы и глядя на скромный костюм отца. Молодой человек опустил глаза.
— И это все, сынок, что ты можешь мне сказать? — с нежным укором спросил капитан.
— О простите меня, отец! — взмолился Петрус. — Я упрекаю себя за то, что вынудил вас бросить умирающего друга и приехать ко мне, хотя я вполне мог подождать.
— Вспомни, сынок: в своем письме ты говорил совсем другое.
— Верно, отец, извините меня. Я написал, что мне нужны деньги, но не сказал: "Бросьте все и привезите мне их сами"; я не говорил…
— Не говорил?.. — повторил капитан.
— Нет, отец, нет! — обнимая его, вскричал Петрус. — Вы отлично сделали, что приехали, и я рад вас видеть.
— Знаешь, Петрус, — продолжал отец, чей голос потеплел от сыновнего объятия, — мне необходимо было приехать: мне нужно серьезно с тобой поговорить.
У Петруса отлегло от сердца.
— A-а, я догадываюсь, отец! — сказал он. — Вы не могли исполнить мою просьбу и пожелали сказать мне об этом сами. Не будем больше об этом говорить, я потерял голову, я был не прав. Дядя все мне отлично объяснил перед вашим приездом, а теперь, когда я вижу вас, я и сам понимаю, как я заблуждался.
Капитан по-отечески улыбнулся и покачал головой.
— Нет, ничего ты не понимаешь.
Он вынул из кармана бумажник и положил его на стол со словами:
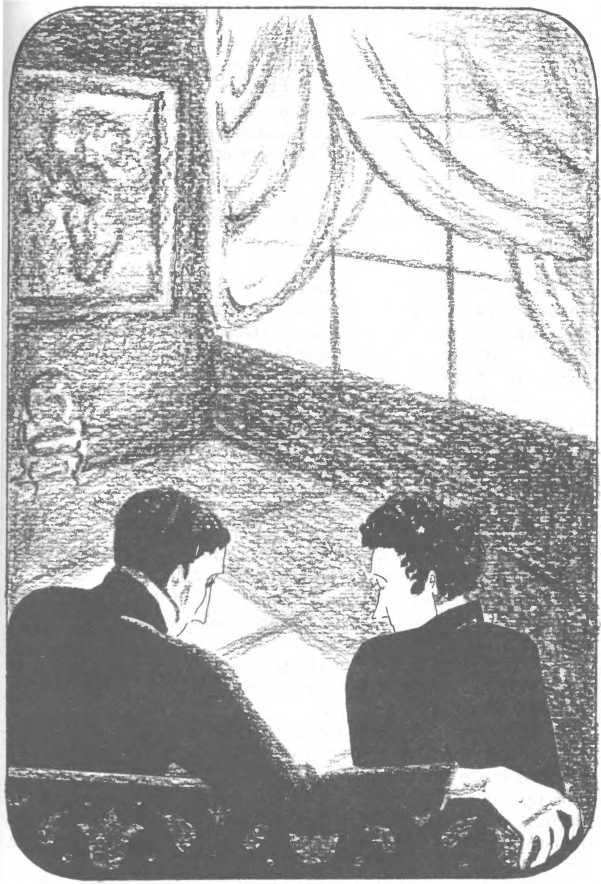
— Вот твои десять тысяч!
Петрус был подавлен этой неистощимой добротой.
— Отец! — вскричал он. — Нет, ни за что!
— Почему?
— Я одумался, отец.
— Одумался, Петрус? Не понимаю…
— Дело вот в чем, отец: вот уже полгода я злоупотребляю вашей добротой, полгода вы делаете больше того, что в ваших силах; полгода я вас разоряю.
— Несчастный мальчик, ты меня разоряешь!.. Это не так уж трудно.
— Как видите, я прав, отец.
— Не ты меня разоряешь, бедный мой Петрус, а я тебя разорил!
— Отец!
— Да! — мысленно возвращаясь к прошлому, печально выговорил капитан. — Я сколотил королевское состояние или, вернее, это состояние сколотилось само собой, потому что я никогда не думал о деньгах, и ты помнишь, как это состояние рухнуло…
— Да, отец, и я горжусь нашей бедностью, когда вспоминаю о том, ради чего мы лишились богатства.
— Согласись, Петрус, что, несмотря на бедность, я никогда ничего не жалел ради твоего образования и счастья.
Петрус остановил отца.
— И даже ради моих капризов, отец!
— Как же иначе? Я хотел, чтобы ты был счастлив, мой мальчик. Что бы я сказал твоей матери, если бы она явилась ко мне и спросила: "Как там наш сын?"
Петрус опустился перед отцом на колени и разрыдался.
— Перестань, иначе я не смогу с тобой говорить, — растерялся Пьер Эрбель.
— Отец! — воскликнул Петрус.
— Впрочем, все, что я хотел тебе сказать, я могу отложить до другого раза.
— Нет, нет, говорите теперь же, отец…
— Мальчик мой! — начал капитан, поднявшись, чтобы освободиться из объятий Петруса. — Вот деньги, которые тебе нужны. Надеюсь, ты извинишься за меня перед моим братом, не правда ли? Скажи ему, что я боялся опоздать и потому вернулся тем же дилижансом, который доставил меня сюда.
— Сядьте, отец! Дилижанс отправляется в семь часов вечера, а сейчас два часа пополудни. У вас впереди пять часов.
— Ты думаешь? — проговорил капитан, не находя, что ответить.
Он машинально достал из жилетного кармана серебряные часы на стальной цепочке, доставшиеся ему от отца.
Петрус взял в руки часы и поцеловал. Много раз он еще маленьким мальчиком прислушивался с наивным детским изумлением к тому, как тикает эта семейная реликвия!
Он устыдился своей золотой цепочки на шее, часов с бриллиантовым гербом, подвешенных на этой цепочке и покоившихся в кармане его жилета.
— Ах, любимые мои часы! — прошептал Петрус, целуя старые серебряные часы отца.
Капитан не понял.
— Подарить их тебе? — предложил он.
— Часы, отмерявшие время ваших сражений и побед, часы, всегда стучавшие, как и ваше сердце, одинаково ровно в минуты опасности и в минуты покоя! — вскричал Петрус. — Я их недостоин. О нет, отец, никогда, никогда!
— Ты забыл упомянуть о том, Петрус, что они отметили еще два мгновения — единственных в моей жизни, о которых я вспоминаю: час твоего рождения и час смерти твоей матери.
— Они отметят сегодня и третий важнейший отныне для меня и для вас момент, отец: мою неблагодарность, в которой я сознаюсь и прошу меня простить.
— За что простить, дорогой?
— Отец! Признайтесь, что ради удовольствия привезти мне эти десять тысяч франков вам пришлось пойти на огромные жертвы.
— Я продал ферму, и только, потому я и задержался.
— Продали ферму? — подавленно переспросил Петрус.
— Нуда… Знаешь, она была слишком велика для меня одного. Если бы твоя бедная мать была жива или ты жил бы со мной, тогда другое дело.
— Вы продали ферму, принадлежавшую когда-то моей матери?
— Вот именно, Петрус. Она принадлежала твоей матери — значит, она твоя.
— Отец! — вскричал Петрус.
— Я-то свое добро пустил, как безумец, по ветру… Поэтому я и приехал! Петрус, ты меня поймешь: я, старый эгоист, продал ферму за двадцать пять тысяч.
— Да она стоила все пятьдесят!
— Ты забываешь, что я уже заложил ее за двадцать пять тысяч, которые выслал тебе до того.
Петрус закрыл лицо руками.
— Ну вот… Я приехал спросить, могу ли я оставить себе пятнадцать тысяч.
Петрус выглядел совершенно растерянным.
— На время, разумеется, — продолжал капитан. — Если позднее они тебе понадобятся, ты вправе потребовать их у меня.
Петрус поднял голову.
— Продолжайте, отец, — попросил он.
А шепотом прибавил:
— Это мне в наказание!
— Вот каков мой план, — говорил тем временем капитан. — Я сниму или куплю хижину в лесу… Ты же знаешь, как я живу, Петрус. Я старый охотник и не могу уже обойтись без своих ружей, без своей собаки. Я стану охотиться с утра до ночи. Жаль, что ты не охотник! Ты бы меня навестил, мы бы вместе поохотились…
— Я вас навещу, отец, навещу, не беспокойтесь.
— Правда?
— Обещаю.
— Понимаешь ли, есть еще одна причина… Для меня охота важна, во-первых, тем, что я получаю удовольствие, а во-вторых, ты даже не представляешь, скольких людей я кормлю своим ружьем.
— До чего вы добры, отец! — вскричал Петрус.
А вполголоса прибавил:
— До чего великодушны!
И воздел глаза и руки к небу.
— Погоди, — остановил его капитан. — Скоро наступит время, когда я буду рассчитывать на тебя, мой бедный мальчик.
— Говорите, говорите, отец.
— Мне пятьдесят семь лет. Взгляд у меня пока острый, рука твердая, я крепко стою на ногах. Однако я уже вступил в такую пору, когда жизнь идет под уклон. Через год, два, десять лет зрение мое может ослабеть, рука тоже, а ноги будут подкашиваться. И вот в одно прекрасное утро к тебе придет старик и скажет: "Это я, Петрус, больше я ни на что не гожусь! Не найдется ли у тебя места для старого отца? Он всю жизнь прожил вдали от того, кого любил, и не хочет умереть так же, как жил".
— Ах, отец, отец! — разрыдался Петрус. — Неужели ферма в самом деле продана?
— Да, дружок: утром третьего дня.
— Кому, о Господи?
— Господин Пейра, нотариус, мне этого не сказал. Понимаешь, мне важно было получить деньги. Я взял десять тысяч франков, в которых ты нуждался, и приехал.
— Отец! — поднимаясь, проговорил Петрус. — Мне необходимо знать, кому вы продали ферму моей матери.
Тут дверь в мастерскую отворилась, и лакей Петруса с опаской ступил на порог, держа в руке письмо.
— Оставь меня в покое! — крикнул Петрус, вырывая у него письмо. — Я никого не принимаю.
Он собирался швырнуть письмо на стол, как вдруг в глаза ему бросился штемпель Сен-Мало.
Надпись на конверте гласила: "Господину виконту Петрусу Эрбелю де Куртене".
Он торопливо распечатал письмо.
Оно было от нотариуса, у которого капитан, как он сам только что сказал, оформил продажу фермы.
Петрус покачал головой, пытаясь прийти в себя после услышанного, и стал читать:
"Господин виконт!
Ваш отец, делавший у меня различные займы на общую сумму в двадцать пять тысяч франков, пришел ко мне третьего дня, чтобы продать за двадцать пять тысяч свою ферму, уже заложенную под вышеуказанную сумму.
Он сказал, что эти двадцать пять тысяч также предназначаются Вам, как и предыдущая сумма.
Я подумал — простите меня, господин виконт, — что Вы, возможно, не знаете, на какие жертвы идет ради Вас отец, и что эта последняя жертва окончательно его разорила.
Я решил, что обязан как нотариус Вашей семьи и тридцатилетний друг Вашего отца сделать следующее: во-первых, передать ему двадцать пять тысяч, о которых он меня просит, но не продавать пока ферму; во-вторых, предупредить Вас о том, как расстроены дела Вашего отца, так как я уверен в том, что Вы об этом просто не знаете, а как только Вам станет это известно, Вы, вместо того чтобы окончательно потерять отцовское состояние, попытаетесь его восстановить.
Если Вы оставите себе двадцать пять тысяч франков, ферму придется продать.
Однако если Вы не испытываете в этой сумме настоятельной нужды и можете подождать или вовсе отменить дело, на которое Вам понадобились эти деньги, если Вы так или иначе можете в течение недели вернуть вышеозначенную сумму мне, Ваш высокоуважаемый отец останется владельцем фермы и Вы избавите его тем самым от большого, как мне представляется, горя.
Не знаю, как Вы расцените мою просьбу, однако сам я полагаю, что поступил как честный человек и друг.
Примите, и проч.
Пейра, нотариус в Сен-Мало". 489
Письмо сопровождалось сложным росчерком, которые так любили провинциальные нотариусы двадцать пять лет тому назад.
Петрус облегченно вздохнул и поднес к губам письмо достойного нотариуса, который уж конечно никак не рассчитывал на такую честь.
Обернувшись к капитану, Петрус сказал:
— Отец! Я отправляюсь с вами сегодня вечером в Сен-Мало.
Капитан радостно вскрикнул, но сейчас же спохватился и обеспокоенно спросил:
— Зачем тебе понадобилось ехать в Сен-Мало?
— Просто так… Хочу проводить вас, отец… Когда я вас увидел, я подумал, что вы погостите у меня несколько дней. Раз вы не можете остаться, значит, я сам съезжу ненадолго к вам.
И действительно, в тот же вечер, написав два письма — одно Регине, другое Сальватору — и пригласив отца отужинать (не у генерала, чьи упреки или насмешки могли ранить его измученную душу, а в ресторане, где ужин их — вдвоем, за маленьким столиком — полон был задушевной нежности), Петрус сел вместе с отцом в дилижанс и отправился из Парижа в Сен-Мало, еще более укрепившись в принятом решении.
Назад: XVIII ЧТО ГОСПОДИН ЖАКАЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ ГОСПОДИНУ ЖЕРАРУ ВМЕСТО ОРДЕНА ПОЧЕТНОГО ЛЕГИОНА
Дальше: XXXII ДУШЕВНЫЕ НЕВЗГОДЫ, ОТЯГОЩЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ТРУДНОСТЯМИ

