Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 38. Красный сфинкс. Голубка
Назад: IV СОВЕТЫ Л’АНЖЕЛИ
Дальше: XIV АНТРАКТЫ КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ
IX
РЕШЕНИЕ КОРОЛЯ
В то время как против него завязывались все эти низкие интриги, кардинал, склонившись при свете лампы над картой, именовавшейся в ту пору картой дорог королевства и воспроизводившей в мельчайших подробностях границу между Францией и Савойей, прокладывал вместе с г-ном де Понтисом, своим инженером-географом и автором этой карты, маршрут, каким должна была следовать армия, отмечая города и деревни, где будут делаться привалы, и дороги, по которым должны поступать припасы, необходимые для содержания тридцати тысяч человек.
Карта, просмотренная, как мы говорили, г-ном д’Эсюором, указывала с величайшей точностью долины, горы, потоки и даже ручейки. Кардинал был в восхищении, впервые видя карту такой ценности.
Как Бонапарт в марте 1800 года, лежа на карте Италии и показывая на равнину Маренго, говорил: "Здесь я разобью Меласа", так и кардинал де Ришелье, человек столь же военный, сколь мало был он человеком Церкви, говорил заранее: "Здесь я разобью Карла Эммануила". Он радостно повернулся к г-ну де Понтису и сказал:
— Господин виконт, вы не только верный, но и искусный слуга короля, и, когда война, как мы надеемся, закончится в нашу пользу, вы будете иметь право на награду. Вы скажете мне, какой должна быть эта награда, и, если она, в чем я не сомневаюсь, окажется в пределах моих возможностей, можете заранее считать, что она ваша.
— Монсеньер, — отвечал с поклоном г-н де Понтис, — у каждого человека есть свое стремление. У одних оно в голове, у других, как у меня, в сердце. Пришло время, пользуясь разрешением вашего высокопреосвященства, открыть вам мое сердце.
— Ах, вы влюблены, виконт? — спросил кардинал.
— Да, монсеньер.
— И та, кого вы любите, выше вас?
— По происхождению — может быть, но не по общественному положению.
— И чем могу я быть вам полезен в подобных обстоятельствах?
— Отец той, кого я люблю, — верный слуга вашего высокопреосвященства, он ничего не будет делать без вашего разрешения.
Кардинал на мгновение задумался; похоже было, что у него мелькнуло какое-то воспоминание.
— А не вы ли, дорогой виконт, — спросил он, — примерно год назад доставили во Францию и представили королеве мадемуазель Изабеллу де Лотрек?
— Да, монсеньер, — краснея, отвечал виконт де Понтис.
— Но тогда мадемуазель де Лотрек не была представлена ее величеству как ваша невеста?
— Как невеста — нет, монсеньер, лишь как будущая невеста. Действительно, господин де Лотрек, как только я заговорил о том, что люблю его дочь, ответил: "Изабелле только пятнадцать лет, вы только начинаете карьеру; через два года, когда дела в Италии уладятся, мы вернемся к этому разговору, и, если вы по-прежнему будете любить Изабеллу и получите согласие кардинала, я буду счастлив назвать вас своим сыном".
— А мадемуазель де Лотрек каким-либо образом участвовала в обещаниях своего отца?
— Мадемуазель де Лотрек, когда я сказал ей о своей любви и она узнала, что я говорю с разрешения ее отца, ответила — правильнее было бы сказать, ограничилась ответом, — что ее сердце свободно, что она почитает своего отца и подчинится его воле.
— И когда она вам это сказала?
— Год назад, монсеньер.
— И с тех пор вы с ней виделись?
— Редко.
— Но при встречах вы говорили ей о своей любви?
— Только четыре дня назад.
— Что она ответила?
— Она покраснела и произнесла несколько невнятных слов; я приписал это волнению.
Кардинал, улыбнувшись, сказал про себя:
"Кажется, в своей исповеди она забыла эту подробность".
Виконт де Понтис посмотрел на него с беспокойством.
— У вашего высокопреосвященства есть какие-то возражения по поводу моих желаний?
— Никаких, виконт, никаких; добивайтесь любви мадемуазель де Лотрек. Если возникнет помеха вашему счастью, то исходить она будет никак не от меня.
Лицо виконта вновь прояснилось.
— Благодарю, монсеньер, — сказал он с поклоном.
В эту минуту часы пробили два часа ночи.
Кардинал отпустил виконта с чувством грусти, ибо после признаний, сделанных ему Изабеллой, понимал, что не сможет доставить этому отличному слуге награду, к которой тот стремится.
Он собрался подняться в спальню, как вдруг дверь соседних апартаментов отворилась, и на пороге появилась с улыбкой во взгляде г-жа де Комбале.
— О, милая Мария, — сказала кардинал, — ну разве разумно бодрствовать до такого позднего времени? Вам уже больше трех часов следовало спать!
— Дорогой дядя, — сказала г-жа де Комбале, — радость, как и печаль, не дает уснуть; я не смогла бы смежить веки, не поздравив вас с успехом. Когда вы печальны, вы позволяете мне делить вашу печаль; когда вы победитель — ибо сегодня, не правда ли, вы одержали победу…
— Настоящую победу, Мария, — сказал кардинал; сердце его было полно радости, грудь вольно дышала.
— … когда вы победитель, — продолжала г-жа де Комбале, — позвольте мне разделить ваш триумф.
— О да, вы правы, требуя долю в моей радости, ибо вы имеете на нее право, дорогая Мария; вы часть моей жизни, и вам заранее принадлежит доля во всем счастливом и несчастливом, что со мною произойдет. Сегодня, наконец, в первый раз я дышу свободно. На этот раз мне не надо было, чтобы продвинуться немного вперед, ставить ногу на первую ступеньку эшафота кого-нибудь из моих врагов. Эта победа тем прекраснее, Мария, что она достигнута мирно, одним лишь убеждением. Рабы, кого подчиняют силой, остаются нашими врагами; те, кого подчиняют убеждением, становятся нашими апостолами. О, если Бог мне поможет, дорогая Мария, то через полгода возникнет держава, которую будут бояться и уважать все остальные; этой державой будет Франция, потому что если Провидение по-прежнему будет держать этих двух вероломных женщин на расстоянии от меня, то через полгода осада Казаля будет снята, Мантуя получит опору, а лангедокские протестанты, видя, что наша победоносная армия возвращается из Италии и готова выступить против них, запросят мира, так что, я надеюсь, воевать с ними не придется, и уж тогда папа не сможет отказаться сделать меня легатом, легатом пожизненным; я сосредоточу в своих руках светскую и духовную власть, так как надеюсь, что король сейчас на моей стороне, и, если только у меня на пути не встретится та невидимая соломинка, та незамеченная песчинка, что способна опрокинуть самый великий замысел, я стану хозяином Франции и Италии. Поцелуйте меня, Мария, и усните спокойным сном — вы так заслуживаете это. Я же могу сказать, что усну, но постараюсь уснуть.
— Вы завтра будете чувствовать себя разбитым.
— Нет, радость займет место сна; никогда я себя так хорошо не чувствовал.
— Вы позволите утром, когда я встану, прийти к вам, милый дядя, чтобы узнать, как вы провели ночь?
— Приходи; пусть моим встающим и заходящим солнцем будет взгляд твоих прекрасных глаз, тогда я буду уверен, что меня ждет прекрасный день, как сейчас уверен, что меня ждет прекрасная ночь.
Поцеловав г-жу де Комбале в лоб, он проводил ее до двери и постоял на пороге, глядя ей вслед, пока она не скрылась в полутьме лестницы.
Лишь тогда кардинал затворил дверь и решил тоже подняться в свою спальню. Но уже выходя из кабинета, он услышал тихие удары в дверь, ведущую к Марион Делорм.
Думая, что ошибся, он остановился и прислушался: удары повторились, причем стали более быстрыми и сильными. Ошибки быть не могло: кто-то стучал в дверь, соединяющую кабинет с соседним домом.
Ришелье запер на ключ дверь, через которую собирался выйти, задвинул засовы на других дверях и подошел к потайной двери, скрытой в деревянной обшивке.
— Кто там? — тихо спросил он.
— Я, — ответил женский голос. — Вы одни?
— Да.
— Тогда откройте мне. Я должна сообщить вам нечто, по-моему, достаточно важное.
Кардинал огляделся, желая еще раз убедиться, что он один, потом, нажав пружину, открыл потайную дверь, и в ней появился красивый молодой человек, подкручивающий фальшивые усы.
Этим молодым красавцем была Марион.
— А, вот и вы, прелестный паж! — улыбаясь, сказал Ришелье. — Признаюсь, что если я и ждал кого-то в такое время, то никак не вас.
— Разве вы мне не сказали: "Когда вам нужно будет сообщить мне нечто важное, приходите в любое время суток: если меня не будет в кабинете — звоните; если я буду там — стучите"?
— Да, я сказал вам это, милая Марион, и благодарю вас, что вы помните мои слова.
Кардинал сел и сделал Марион знак, чтобы она села рядом.
— В этом костюме? — спросила Марион, смеясь и сделав пируэт на носке одной ноги, чтобы показать кардиналу изящество своей фигуры даже в одежде, принадлежащей иному полу. — Нет, это значило бы не уважать ваше высокопреосвященство. С вашего позволения, монсеньер, я сделаю мой маленький отчет стоя, если только вам не угодно, чтобы я говорила, став на одно колено; но тогда отчет превратился бы в исповедь, а это увлекло бы нас обоих слишком далеко.
— Говорите как вам заблагорассудится, Марион, — сказал кардинал, на лице которого промелькнуло беспокойство, — ибо, если я не ошибаюсь, вы попросили об этой встрече, чтобы подготовить меня к дурной новости, а дурные новости лучше узнавать как можно раньше, чтобы можно было от них защититься.
— Не могу сказать, дурная ли это новость, но мой женский инстинкт подсказывает, что она не из числа хороших; впрочем, вы оцените сами.
— Я слушаю.
— Вашему высокопреосвященству известно, что король поссорился со своим фаворитом господином Барада?
— Вернее, господин Барада поссорился с королем.
— В самом деле, это вернее, потому что господин Барада дулся на короля. Так вот, сегодня вечером, когда король был со своим шутом л’Анжели, обе королевы пришли к нему и через полчаса удалились. Они были чем-то очень взволнованы и обменялись несколькими словами с монсеньером герцогом Орлеанским; после этого господин герцог Орлеанский примерно четверть часа разговаривал в нише окна с господином Барада, причем, похоже, они спорили; наконец, принц и паж, придя к согласию, вышли вместе. Месье остался в коридоре, пока не увидел, что Барада вошел к королю, после чего также скрылся в коридоре, ведущем к королевам.
Кардинал на мгновение задумался, потом, глядя на Марион с нескрываемым беспокойством, сказал:
— Вы сообщаете мне столь точные подробности, что я даже не спрашиваю вас, убеждены ли вы в их достоверности.
— Убеждена; впрочем, у меня нет никаких причин скрывать от вашего высокопреосвященства, кто снабдил меня ими.
— Не сочтите это нескромностью, милый друг, но, признаюсь, я был бы рад узнать это.
— Здесь не только не будет никакой нескромности, но я уверена, что окажу услугу тому, кто мне это сообщил.
— Значит, это друг?
— Это человек, желающий, чтобы ваше высокопреосвященство считали его своим преданным слугой.
— Его имя?
— Сен-Симон.
— Этот юный паж короля?
— Именно.
— Вы с ним знакомы?
— Знакома и не знакома: он впервые пришел ко мне сегодня вечером.
— Вечером или ночью?
— Удовольствуйтесь тем, что я вам скажу, монсеньер. Итак, он пришел ко мне сегодня вечером и рассказал эту совсем свежую историю. Он уходил из Лувра; собираясь зайти к своему товарищу Барада, он увидел, что от его величества выходят обе королевы. Они были так озабочены, что не заметили Сен-Симона. Он пришел к Барада; паж все еще дулся и заявил, что завтра покидает Лувр. Через мгновение вошел Месье, не обративший внимания на малыша Сен-Симона. А тот притаился и видел, как его товарищ разговаривал с принцем в нише окна; потом они оба вышли, Барада вошел к королю, а Месье побежал, по всей вероятности, отчитаться перед королевами в успехе предприятия.
— И вы говорите, малыш Сен-Симон пришел рассказать вам все, с тем чтобы вы мне это повторили?
— Ах, клянусь честью, я сейчас повторю вам его собственные слова: "Милая Марион, я полагаю, что во всех этих хождениях кроется какая-то махинация против господина кардинала де Ришелье. Говорят, что вы с ним в большой дружбе; я не спрашиваю вас, правда ли это, но, если правда, предупредите его и скажите, что я его покорный слуга".
— Это умный малый, и я при случае его не забуду, скажите ему это от моего имени; что касается вас, дорогая Марион, то я думаю, чем доказать вам свою признательность.
— О монсеньер!
— Я придумаю, а пока…
Кардинал снял с пальца великолепный бриллиант.
— Возьмите этот камень, — сказал он, — на память обо мне.
Но Марион, вместо того чтобы протянуть руку, убрала ее за спину.
Кардинал взял ее руку, снял перчатку и надел кольцо на палец молодой женщины.
Потом, поцеловав ее руку, он сказал:
— Марион, будьте мне всегда таким же хорошим другом, и вы в этом не раскаетесь.
— Монсеньер, — ответила она, — я обманываю иногда своих любовников, но своих друзей никогда.
Уперев одну руку в бедро и взяв шляпу в другую, с лицом, отражающим беззаботность молодости и красоты, с улыбкой страстной любви на устах она поклонилась, как настоящий паж, и вернулась к себе, разглядывая свой бриллиант и напевая вилланеллу Депорта.
Оставшись один, кардинал провел рукой по нахмуренному лбу и сказал:
— Вот она, невидимая соломинка, вот она, незамеченная песчинка!
И с выражением непередаваемого презрения добавил:
— Какой-то Барада!
X
РЕШЕНИЕ КАРДИНАЛА
Кардинал провел очень беспокойную ночь, как и думала прекрасная Марион, вступавшая в прямое общение с ним лишь в особо важных случаях: принесенная ею новость была серьезной. Король помирился со своим фаворитом при посредничестве Месье, заклятого врага кардинала. Здесь открывалось широкое поле для неприятных догадок, поэтому кардинал изучал вопрос со всех сторон и утром (мы не говорим "когда он проснулся"), когда он встал, у него были готовы решения для любой случайности.
Около девяти часов доложили о посланце короля. Гонца ввели в кабинет, куда уже спустился кардинал. Там королевский посланец, низко поклонившись, передал его высокопреосвященству сложенную и запечатанную большой красной печатью бумагу; тот, еще не ознакомившись с содержанием письма, вручил гонцу, как обычно делал в отношении королевских курьеров, кошелек с двадцатью пистолями. Кошельки для этого случая были припасены у кардинала в ящике бюро.
С первого взгляда кардинал понял, что письмо исходит непосредственно от короля: адрес был написан знакомым почерком его величества. Кардинал предложил гонцу подождать в кабинете своего секретаря Шарпантье на случай, если потребуется ответ.
Затем, подобно атлету, который, собирая силы для физической борьбы, натирается маслом, он, готовясь к моральной борьбе, мгновение собирался с силами, затем провел платком по влажному от пота лбу и приготовился сломать печать.
В это время незаметно для него приоткрылась одна из дверей и в образовавшемся просвете возникло обеспокоенное лицо г-жи де Комбате. Она узнала от Гийемо, что ее дядя плохо спал, а от Шарпантье — что прибыл гонец от короля.
Поэтому она отважилась войти без зова в кабинет дяди, надеясь, впрочем, что, как всегда, будет там желанной гостьей.
Но увидев, что кардинал сидит, держа в руке письмо и не решаясь его распечатать, она поняла его тревогу и, хоть не знала о визите Марион Делорм, догадалась, что возникли какие-то новые обстоятельства.
Наконец, Ришелье вскрыл письмо.
Кардинал читал, и по мере чтения лицо его становилось все мрачнее.
Она бесшумно скользнула вдоль стены и оперлась о кресло в нескольких шагах от него.
Кардинал шевельнулся, но не произнес ни звука, и г-жа де Комбале решила, что она осталась незамеченной.
Кардинал продолжал читать, каждые десять секунд отирая платком лоб.
Было очевидно, что им владеет сильная тревога.
Госпожа де Комбале приблизилась к нему и услышала его свистящее прерывистое дыхание.
Затем он уронил на бюро руку, казалось не имеющую силы держать письмо.
Он медленно повернул голову к племяннице, дав ей увидеть свое бледное, лихорадочно подергивающее лицо, и протянул к ней дрожащую руку.
Госпожа де Комбале бросилась к этой руке и поцеловала ее.
Но кардинал обвил рукой талию племянницы, притянул ее к себе, прижал к сердцу и, подавая другой рукой письмо, сказал, пытаясь улыбнуться:
— Читайте.
Господа де Комбале стала читать про себя.
— Читайте вслух, — попросил кардинал, — мне нужно хладнокровно изучить это письмо, звук вашего голоса освежит меня.
Госпожа де Комбале начала читать:
"Господин кардинал и добрый друг,
здраво обдумав внутреннее и внешнее положение и считая, что хоть они и одинаково серьезны, но внутренние дела наиболее важны из-за смут, порождаемых в сердце королевства г-ном де Роганом и его гугенотами, мы решили, полные доверия к политическому гению, доказательства коего Вы нам столь часто давали, оставить Вас в Париже, дабы руководить делами государства в наше отсутствие; мы же, вместе с нашим возлюбленным братом Месье в качестве главного наместника и господами д 'Ангулемом, де Бассомпьером и де Гизом в качестве военачальников выступим, чтобы заставить снять осаду Казаля и пройти добром или силой через владения господина герцога Савойского. Мы будем ежедневно направлять к Вам курьеров, чтобы сообщать о ходе наших дел, осведомляться о Ваших и прибегать в затруднительных случаях к Вашим добрым советам.
Засим мы просим Вас, господин кардинал и добрый друг, дать нам точный отчет о войсках, составляющих нашу армию, о количестве орудий, пригодных для ведения кампании, и о суммах, кои могут быть переданы в наше распоряжение за вычетом тех, что вы считаете необходимыми для нужд Вашего министерства.
Я долго размышлял, прежде чем принять решение, о котором Вас извещаю, ибо вспоминал слова великого итальянского поэта, вынужденного оставаться во Флоренции из-за разразившихся волнений и в то же время стремящегося уехать в Венецию для завершения важных переговоров: "Если я останусь, кто поедет? Если я уеду, кто останется?" К счастью, мне повезло больше, чем ему: в Вашем лице, господин кардинал и добрый друг, у меня есть мое второе "я " и, оставляя Вас в Париже, я могу одновременно остаться и уехать.
На этом, господин кардинал и наш друг, я заканчиваю свое письмо. Да не оставит Вас Господь своей святою защитой.
Благосклонный к Вам
Людовик".
По мере чтения голос все больше изменял г-же де Комбале и, когда она дошла до последних строчек, стал почти неслышен. Но, хотя кардинал прочел письмо лишь один раз, оно неизгладимо запечатлелось в его памяти, и лишь для того, чтобы успокоить свое волнение, прибег он к помощи нежного голоса г-жи де Комбале, оказывающего на его частые волнения то же действие, что арфа Давида на приступы безумия Саула.
Закончив чтение, она прижалась щекой к голове кардинала и произнесла:
— О злые люди! Они поклялись убить вас горем!
— Послушай, а что бы ты сделала на моем месте, Мария?
— Но ведь вы не серьезно меня об этом спрашиваете, дядя?
— Вполне серьезно.
— О! Я на вашем месте? — переспросила она, на миг задумавшись.
— Да, ты на моем месте. Ну же, говори.
— На вашем месте я бы предоставила этих господ их участи. Когда вас не будет рядом, посмотрим, как они из всего этого выпутаются.
— Это твое мнение, Мария?
Она выпрямилась и, призвав на помощь всю энергию, сказала:
— Да, это мое мнение. Все эти люди — король, королевы, принцы — не стоят тех трудов, которые вы предпринимаете ради них.
— А что мы станем делать, если я покину всех этих людей, как ты их называешь?
— Мы отправимся в какое-нибудь из наших аббатств, в одно из лучших, и будем там жить спокойно: я — любя вас и заботясь о вас, вы — наслаждаясь природой и поэзией, сочиняя стихи, дающие вам отдохновение от всего.
— Ты воплощенное утешение, любимая моя Мария, и всегда даешь мне хорошие советы. На этот раз, впрочем, твое мнение совпадает с моим желанием. Вчера вечером, когда ты ушла из моего кабинета, меня более или менее предупредили о том, что замышляется против меня. Поэтому в моем распоряжении была целая ночь, чтобы подготовиться к ожидающему меня удару, и мое решение было принято заранее.
Он протянул руку, подвинул к себе лист бумаги и написал:
"Государь,
я как нельзя более польщен новым знаком уважения и доверия, коим Вашему Величеству угодно было почтить меня, но, к несчастью, принять его я не могу. Мое здоровье, и без того пошатнувшееся, еще более ухудшилось во время осады Ла-Рошели — осады, с Божьей помощью доведенной нами до благополучного конца; однако это напряжение исчерпало мои силы, и мой врач, моя семья, мои друзья требуют от меня обещания полного отдыха, а дать мне его могут лишь отсутствие дел и деревенское уединение. Поэтому, государь, я удаляюсь в мой дом в Шайо, купленный в предвидении моей отставки. Прошу Вас, государь, принять ее, по-прежнему считая меня нижайшим — и главное, вернейшим — из Ваших подданных.
Арман, кардинал де Ришелье".
Госпожа де Комбале из скромности отошла. Он знаком подозвал ее и протянул ей письмо. Она читала, и крупные слезы струились по ее щекам.
— Вы плачете? — спросил ее кардинал.
— Да, — ответила она, — святыми слезами!
— Что вы называете святыми слезами, Мария?
— Те слезы, что льются даже в минуту сердечной радости: я оплакиваю ослепление короля и судьбу страны.
Кардинал поднял голову и положил руку на руку племянницы.
— Да, вы правы, — сказал он, — но Бог, покидающий порою королей, не покидает с такой же легкостью государства. Жизнь первых преходяща, жизнь вторых длится столетия. Поверьте мне, Мария, Франция занимает слишком важное место в Европе и должна сыграть слишком необходимую роль в будущем, чтобы Господь отвратил свой взор от нее. То, что начал я, закончит другой; человеком больше, человеком меньше — изменить исторические судьбы не дано никому.
— Но разве справедливо, — спросила г-жа де Комбале, — что человеку, подготовившему судьбы своего государства, не дано их осуществить, что труд и борьба достаются одному, а слава — другому?
— Вы, Мария, — отвечал кардинал, и лицо его все больше прояснялось, — затронули сейчас, сами того не подозревая, великую загадку, что вот уже три тысячи лет предлагает людям сфинкс, сидящий на задних лапах возле благополучия, которое рушится, уступая место незаслуженным несчастьям. Имя этого сфинкса — сомнение. Почему, спрашивает он, Бог, являющийся высшей справедливостью, порой становится или кажется высшей несправедливостью?
— Я не восстаю против Бога, дядя, я пытаюсь понять.
— Бог имеет право быть несправедливым, Мария, ведь он держит в своих руках вечность и располагает будущим, чтобы исправить свою несправедливость. Притом, если бы у нас была возможность проникнуть в его тайны, мы увидели бы: то, что кажется нам несправедливостью, лишь средство вернее достигнуть его цели. Этот важнейший вопрос должен был в один прекрасный день возникнуть между его величеством — да хранит его Господь — и мной. За кого король: за свою семью или за Францию? Я за Францию. Бог за Францию. Кто будет против меня, если Бог на моей стороне?
Он позвонил. На втором звонке колокольчика появился его секретарь Шарпантье.
— Шарпантье, — сказал кардинал, — распорядитесь немедленно составить список воинских частей, готовых для итальянской кампании, и пригодных к бою орудий. Он нужен мне через четверть часа.
Шарпантье поклонился и вышел.
Кардинал вернулся к своему бюро и, вновь вооружившись пером, приписал под последней строчкой письма об отставке:
"P.S. Вместе с этим письмом Ваше Величество получит сведения о войсках, составляющих армию, и о состоянии их материальной части. Что касается суммы, оставшейся от шести миллионов, одолженных под мое поручительство (кардинал сверился с маленькой записной книжкой, которая всегда была при нем), она составляет три миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи ливров; они находятся в несгораемом шкафу, ключ от коего мой секретарь будет иметь честь передать непосредственно Вашему Величеству.
Не имея кабинета в Лувре и опасаясь, что при перевозке доверенных мне государственных документов некоторые важные бумаги могут затеряться, я оставляю Вашему Величеству не только мой кабинет, но и весь мой дом, ибо все, чем я располагаю, получено мною от короля и, следовательно, принадлежит ему. Мои служащие останутся, чтобы облегчить Вашему Величеству работу; поступающие ко мне ежедневные доклады будут приходить к королю.
Сегодня в два часа дня Ваше Величество может вступить во владение моим домом или поручить это кому-либо другому.
Я заканчиваю эти строки так же, как закончил предшествующие им, осмеливаясь назвать себя признательнейшим и вернейшим подданным Вашего Величества.
Арман, кардинал де Ришелье".
Кардинал писал, повторяя вслух написанное, так что его племяннице не было необходимости читать постскриптум, чтобы узнать, о чем в нем идет речь.
Тем временем Шарпантье принес ему требуемый список: тридцать пять тысяч солдат были под ружьем, семьдесят орудий готовы были участвовать в кампании.
Кардинал приложил список к письму, вложил все в конверт и, позвав гонца, вручил ему послание со словами:
— Лично его величеству.
И добавил второй кошелек к первому.
Карета, в соответствии с приказаниями кардинала, была уже готова. Кардинал вышел, унося из своего дома лишь одежду, что была на нем. Он сел в карету вместе с г-жой де Комбале, велел Гийемо — единственному из слуг, кого он взял с собой, — сесть рядом с кучером и сказал:
— В Шайо.
Обернувшись к племяннице, он добавил:
— Если через три дня король лично не явится в Шайо, то на четвертый день мы уедем в мое люсонское епископство.
XI
ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ
Как мы только что видели, полностью был осуществлен данный герцогом Савойским совет.
"Если решение об итальянской кампании, вопреки Вашему противодействию, — говорилось в его секретном письме к Марии Медичи, — будет принято, добейтесь для герцога Орлеанского — под предлогом, что хотите удалить его от предмета безумной страсти, — добейтесь для него командования войсками. Кардинал-герцог, помышляющий лишь о том, чтобы прослыть первым полководцем своего века, не стерпит этого унижения и подаст в отставку; тогда останется единственное опасение: король откажется ее принять!"
Но пока еще — было около десяти часов утра — в Лувре не знали о решении кардинала и с нетерпением ждали, причем — странное дело! — между ожидающими августейшими особами царила, казалось, величайшая гармония.
Этими августейшими особами были король, королева-мать, королева Анна и Месье.
Месье разыграл примирение с матерью, еще менее искреннее, чем была ссора: хорошо или плохо относясь к людям внешне, Месье одинаково ненавидел весь свет; трусливый и вероломный, презираемый всеми, он угадывал это презрение за восхвалениями и улыбками, платя за него ненавистью.
Они собрались в будуаре, прилегающем к спальне королевы Анны, — той спальни, где, как мы помним, г-жа де Фаржи с беззаботной испорченностью остроумной и развращенной натуры давала ей столь добрые советы.
В спальнях короля, Марии Медичи, господина герцога Орлеанского настороженно ждали, подобно адъютантам, готовым выполнить приказ: в спальне король — Ла Вьёвиль, Ножан, Ботрю и Барада, вернувшийся на вершину своей власти; в спальне королевы-матери — кардинал де Берюль и Вотье; в спальне герцога Орлеанского — врач Сенель, у которого дю Трамбле похитил известное шифрованное письмо, где Месье приглашали в случае немилости перебраться в Лотарингию; Сенель, решив просто-напросто, что он потерял письмо, оставил при себе камердинера; тот, подкупленный Серым кардиналом, предав хозяина и получив хорошую награду за предательство, готов был снова предать его.
Не отстала от других и королева Анна: в ее спальне находились г-жа де Шеврез, г-жа де Фаржи и крошка-карлица Гретхен, за чью верность, как мы помним, делая свой подарок, поручилась инфанта Клара Эухения; к тому же королева могла использовать малый рост Гретхен, посылая ее туда, куда не смог бы пройти человек нормального роста.
Гонец — мы помним, что кардинал велел ему подождать, — прибыл около половины одиннадцатого. Поскольку король приказал проводить гонца в будуар королевы, а кардинал распорядился вручить ответ лично королю, прибывший не встретил никаких задержек и смог немедленно исполнить поручение.
Король взял письмо с видимым волнением; взгляды всех присутствующих были устремлены на этот конверт, заключающий в себе судьбу всей их ненависти и всего их честолюбия.
— Господин кардинал ничего не просил передать устно? — спросил король у гонца.
— Ничего, государь; только засвидетельствовать его нижайшее почтение вашему величеству и передать письмо обязательно вам в руки.
— Хорошо, — сказал король, — ступайте!
Гонец вышел.
Король распечатал письмо и хотел читать его про себя.
— Вслух! Вслух, государь! — воскликнула королева Мария, чей голос в каком-то непостижимом равновесии соединил в себе две противоположности — приказ и просьбу.
Король взглянул на нее, будто спрашивая, не будет ли чтение вслух иметь нежелательных последствий.
— Да нет же, — сказала королева, — у всех нас одни и те же интересы.
Легкое движение бровей короля показало, что он, пожалуй, не полностью разделяет мнение матери по этому пункту; но то ли из уважения к ее желанию, то ли по привычке повиноваться он стал читать письмо вслух; оно уже знакомо нашим читателям, но мы еще раз его воспроизводим, чтобы показать, какое действие произвело оно на тех, кто собрался его слушать.
"Государь…"
При этом слове воцарилась такая тишина, что Людовик поднял глаза от письма и обвел взглядом слушателей, желая убедиться, что они не рассеялись подобно призракам.
— Мы слушаем, государь, — нетерпеливо сказала королева-мать.
Король, наименее нетерпеливый из всех, поскольку, может быть, он один понимал, насколько совершенное им серьезно с точки зрения монархии, продолжал читать медленно и слегка изменившимся голосом:
"Государь,
я как нельзя более польщен новым знаком уважения и доверия, коим Вашему Величеству угодно было почтить меня…"
— О! — воскликнула Мария Медичи, не в силах сдержать нетерпение, — он соглашается!
— Подождите, мадам, — сказал король, — здесь есть "но".
— Так читайте же, государь, читайте!
— Если вы хотите, чтобы я читал, мадам, не прерывайте меня.
И он продолжал с обычной медлительностью, какую вкладывал во все:
"… но, к несчастью, принять его я не могу".
— Ах, он отказывается! — не в силах сдержаться, в один голос воскликнули королева-мать и Месье.
У короля вырвался недовольный жест.
— Извините нас, государь, — сказала королева-мать, — и, пожалуйста, продолжайте!
Анна Австрийская, охваченная не меньшей ненавистью, чем Мария Медичи, но более владеющая собой вследствие привычки быть скрытной, прикоснулась белой, дрожащей от волнения рукой к платью свекрови, чтобы призвать ее к сдержанности и молчанию.
Король продолжал:
"Мое здоровье, и без того пошатнувшееся, еще более ухудшилось во время осады Ла-Рошели — осады, с Божьей помощью доведенной нами до благополучного конца; однако это напряжение исчерпало мои силы, и мой врач, моя семья, мои друзья требуют от меня обещания полного отдыха, а дать мне его могут лишь отсутствие дел и деревенское уединение".
— Ах, — произнесла Мария Медичи, вздохнув полной грудью, — пусть он отдыхает на благо королевства и мира в Европе.
— Матушка! Матушка! — сказал герцог Орлеанский, с беспокойством следя за раздраженным взглядом короля.
Анна сильнее сжала колено Марии.
— Ах! — воскликнула та вне себя, — вы никогда не узнаете, в чем я обвиняю этого человека, сын мой.
— Отнюдь, мадам, — сказал нахмурясь, Людовик XIII, — отнюдь, я это знаю.
И, сделав резкое ударение на этих последних словах, он продолжал читать с едва сдерживаемым нетерпением:
"Поэтому, государь, я удаляюсь в мой дом в Шайо, купленный в предвидении моей отставки. Прошу Вас, государь, принять ее, по-прежнему считая меня нижайшим — и главное, вернейшим — из Ваших подданных.
Арман, кардинал де Ришелье".
Все присутствующие одновременно встали, полагая, что чтение окончено. Королевы расцеловались, герцог Орлеанский направился к королю, чтобы поцеловать ему руку.
Но король взглядом остановил их.
— Это не все, — сказал он, — есть еще постскриптум. Хотя г-жа де Севинье не сказала еще, что обычно именно в постскриптуме содержится самая важная часть письма, все остановились при словах "есть еще постскриптум"
а королева Мария, не удержавшись, обратилась к своему сыну:
— Надеюсь, сын мой, что если кардинал изменил свое решение, то вы не измените своего.
— Я обещал, мадам, — ответил Людовик XIII.
— Послушаем постскриптум, матушка, — сказал Месье. Король прочел:
"P.S. Вместе с этим письмом Ваше Величество получит сведения о войсках, составляющих армию, и о состоянии их материальной части. Что касается суммы, оставшейся от шести миллионов, одолженных под мое поручительство, она составляет три миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи ливров; они находятся в несгораемом шкафу, ключ от коего мой секретарь будет иметь честь передать непосредственно Вашему Величеству".
— Почти четыре миллиона! — произнесла королева Мария Медичи с алчностью, которую не нашла нужным скрыть.
Король топнул ногой; воцарилось молчание.
"Не имея кабинета в Лувре и опасаясь, что при перевозке доверенных мне государственных документов некоторые важные бумаги могут затеряться, я оставляю Вашему Величеству не только мой кабинет, но и весь мой дом, ибо все, чем я располагаю, получено мною от короля и, следовательно, принадлежит ему. Мои служащие останутся, чтобы облегчить Вашему Величеству работу; поступающие ко мне ежедневные доклады будут приходить к королю.
Сегодня в два часа дня Ваше Величество может вступить во владение моим домом или поручить это кому-либо другому.
Я заканчиваю эти строки так же, как закончил предшествующие им, осмеливаясь назвать себя признательнейшим и вернейшим подданным Вашего Величества.
Арман, кардинал де Ришелье".
— Итак, — хрипло сказал король, мрачно глядя на них, — вы все довольны и каждый мнит себя властелином!
Королева Мария, больше всех предвидевшая эту вспышку королевского достоинства, ответила первой.
— Вы знаете лучше кого бы то ни было, государь, что здесь нет иного властелина, кроме вас, и я первая подам пример повиновения; но чтобы дела не страдали из-за отставки господина кардинала, позволю себе высказать один совет.
— Какой, мадам? — спросил король. — Любой совет, исходящий от вас, будет встречен с радостью.
— Речь о том, чтобы немедленно образовать совет, который будет руководить внутренними делами в ваше отсутствие.
— Значит, теперь, когда я должен буду воевать вместе с моим братом, вы больше не видите в моем отъезде опасностей для моей жизни и здоровья, существовавших, когда я должен был воевать вместе с господином кардиналом?
— Вы показались мне таким решительным, сын мой, когда воспротивились нашим мольбам — моим и вашей супруги-королевы, — что я не решилась возвращаться к этому вопросу.
— И кого же вы мне предлагаете, мадам, в состав этого совета?
— Место господина де Ришелье, — ответила королева-мать, — на мой взгляд, вы не можете поручить никому, кроме господина кардинала де Берюля.
— Кто еще войдет в совет?
— У вас есть господин де Ла Вьёвиль, ведающий финансами, и хранитель печатей господин де Марийяк; можно их оставить.
Король кивнул.
— А у кого будут военные дела? — спросил он.
— У вас есть маршал, брат господина хранителя печатей. Подобный совет, состоящий из людей преданных и возглавляемый вами, сын мой, способен будет позаботиться о безопасности государства.
— Кроме того, — вмешался Месье, — есть два адмиральства, Восточное и Западное, от которых господин кардинал, несомненно, откажется так же, как от своего министерского поста.
— Вы забываете, Месье, что он купил одно из них у господина де Гиза, а другое у господина де Монморанси, заплатив по миллиону за каждое.
— Что ж, их у него выкупят, — ответил Месье.
— Его же деньгами? — спросил король; инстинктивное чувство справедливости делало для него достаточно постыдной подобную комбинацию, на которую — он это знал — Месье был вполне способен.
Месье, ощутив нанесенный удар, взвился, как пришпоренный конь.
— Нет, государь, — сказал он. — С позволения вашего величества я выкуплю одно; думаю, что господин де Конде охотно выкупит другое, если только вы не предпочтете, чтобы я выкупил оба. Обычно братья короля являются главными адмиралами королевства.
— Хорошо, — сказал король, — мы посмотрим.
— Я лишь хотела бы заметить, сын мой, — сказала Мария Медичи, — что, прежде чем передать господину де Ла Вьёвилю, контролирующему финансы, сумму, оставленную в кассе кардинала Ришелье, король мог бы, никому ничего не говоря, проявить известную щедрость, которая была бы лишь актом справедливости.
— Но во всяком случае не по отношению к моему брату: он, кажется, богаче нас! Не он ли сейчас только говорил, что у него готовы два миллиона для выкупа Западного и Восточного адмиральств?
— Я говорил, что найду их, государь. Господин де Ришелье сумел найти шесть под свое честное слово; полагаю, что я сумею найти два, заложив свои владения.
— А у меня нет владений, — сказала Мария Медичи, — но была большая нужда в ста тысячах ливров; я попросила их у господина кардинала, но он смог дать мне лишь пятьдесят тысяч. Другие пятьдесят тысяч я собиралась дать в задаток моему художнику господину Рубенсу: он пока получил всего десять тысяч за двадцать две картины, выполненные для моей галереи в Люксембургском дворце и посвященные прославлению памяти короля, вашего отца.
— И в память короля, моего отца, — произнес Людовик XIII с интонацией, заставившей вздрогнуть Марию Медичи, — вы их получите, мадам.
Затем, обернувшись к Анне Австрийской, он спросил:
— А у вас, мадам, нет ко мне какой-нибудь просьбы подобного рода?
— Вы разрешили мне, государь, — ответила Анна Австрийская, опуская глаза, — обновить у Лопеса жемчужное ожерелье, подаренное вами, ибо некоторые из жемчужин умерли, но остальные столь прекрасны, что найти подобные удалось с большим трудом, и стоят они огромных денег: свыше двадцати тысяч ливров.
— Вы их получите, мадам; это не оплатит и десятой доли того искреннего участия, какое вы проявили вчера к моему здоровью, придя умолять меня не отправляться в альпийские снега воевать вместе с господином кардиналом. Нет ли у вас ко мне еще какой-нибудь подобной просьбы?
Анна промолчала.
— Я знаю, что королева, моя дочь, — сказала Мария Медичи, решив выступить вместо Анны Австрийской, — была бы счастлива вознаградить подарком в двенадцать тысяч ливров преданность своей придворной дамы госпожи де Фаржи; та отослала бы половину этой суммы своему мужу, послу в Мадриде: при его незначительном жалованье он не может достойно представлять ваше величество.
— Просьба настолько скромна, — сказал король, что я не могу в ней отказать.
— Что касается меня, — сказал Месье, — то, надеюсь, ваше величество проявит достаточную щедрость, приняв во внимание высокий командный пост, доверенный мне под его началом, и не станет требовать, чтобы я, как говорится, воевал за свой счет, а соблаговолит распорядиться, чтобы мне в связи с началом кампании оплатили военные издержки в…
Месье запнулся на цифре.
— В какой сумме? — спросил король.
— Ну хотя бы сто пятьдесят тысяч франков.
— Я понимаю, — сказал король с легким оттенком иронии, — после того как вы только что истратили два миллиона, чтобы выкупить два адмиральства, вам несколько затруднительно найти деньги на военные издержки; но позвольте вам заметить, что господин кардинал, который был всего лишь моим министром и истратил те же два миллиона, чтобы купить эти должности у господ де Гиза и де Монморанси, но не требовал от меня или от Франции ста тысяч франков на свои военные издержки и ссудил нам, Франции и мне, шесть миллионов. Правда, он не был моим братом; за родство приходится платить.
— Но, сын мой, — вмешалась Мария Медичи, — если деньги не пойдут в вашу семью, кому они достанутся?
— Вы правы, мадам, — сказал Людовик XIII, — вон там, наверху, эмблема: пеликан, не имеющий больше корма для своих детей, отдает им собственную кровь. Правда, он отдает ее своим детям; правда и то, что у меня детей нет. Но если бы у пеликана не было детей, он, возможно, отдавал бы кровь своей семье. Ваш сын, мадам, получит свои сто пятьдесят тысяч франков на военные издержки.
Людовик XIII сделал ударение на словах "ваш сын", ибо всем было известно, что Гастон — любимый сын Марии Медичи.
— Это всё? — спросил король.
— Да, — ответила Мария, — но у меня тоже есть верный слуга, и я хотела бы его вознаградить; хотя никакая награда не может оплатить такую безграничную преданность, мне, когда я чего-нибудь для него просила, неизменно возражали, ссылаясь на нехватку денег… Сегодня, когда Провидению угодно, чтобы эти недостающие нам деньги…
— Будьте осторожны, мадам, — прервал ее король: вы сказали "Провидение", но ведь эти деньги от господина кардинала, а не от Провидения. Если вы смешаете одно с другим и господин кардинал станет для нас Провидением, мы будем нечестивцами, восставая против кардинала: это будет означать восстание против Провидения.
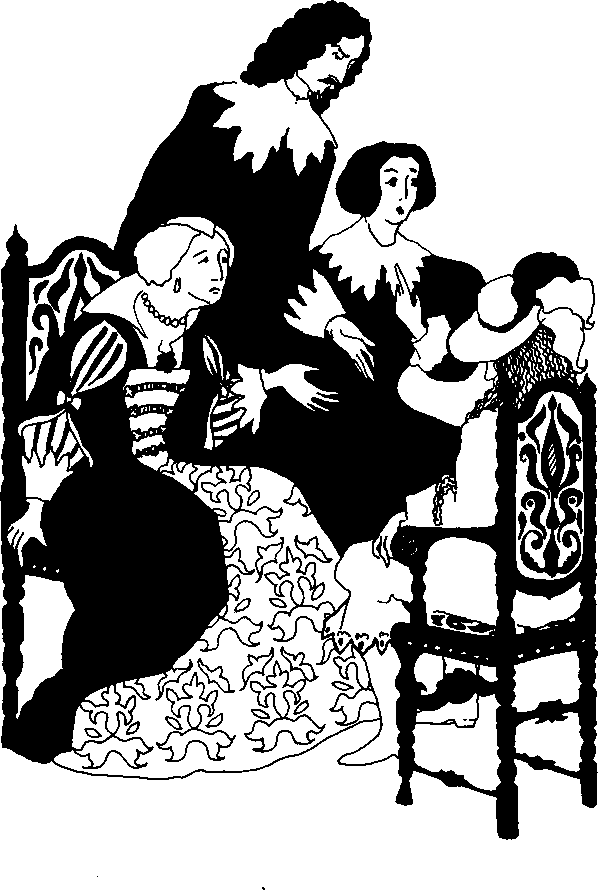
— Однако, сын мой, позволю себе заметить, что при распределении ваших милостей господин Вотье не получил ничего.
— Я дам ему ту же сумму, что и подруге королевы госпоже де Фаржи; но прошу вас, остановитесь, ибо из трех миллионов восьмисот восьмидесяти двух тысяч ливров, предоставленных нам Провидением — нет, я ошибся: господином кардиналом, — взято уже двести сорок тысяч франков, а надо учесть, что у меня тоже есть верный слуга, которого я хочу наградить, пусть даже это будет мой шут л’Анжели, никогда ничего от меня не требующий.
— Сын мой, — сказала королева, — он пользуется такой милостью, как ваше присутствие.
— Единственная милость, какую никто у него не оспаривает, матушка. Но уже полдень, — сказал король, вынимая часы из кармана, — в два часа я должен вступить во владение кабинетом господина кардинала; а вот и господин Первый скребется в дверь, сообщая, что мой обед готов.
— Приятного аппетита, брат мой! — сказал Месье (видя себя уже адмиралом двух адмиральств и главным наместником королевских армий, располагающим ста пятьюдесятью тысячами ливров на военные издержки, он был на вершине счастья).
— Мне нет необходимости желать вам того же, Месье, — сказал король, — благодарение Богу, в вашем аппетите я уверен.
И, пустив эту стрелу, король вышел, достаточно удивленный тем, что государственные дела уже заставили его опоздать с обедом — операцией, совершавшейся регулярно между одиннадцатью часами и десятью минутами двенадцатого.
Если бы достойный медик Эруар не скончался за полгода до этого, мы знали бы с точностью до одной ложки супа и до одной сушеной черешни обо всем, что его величество Людовик XIII съел и выпил за этим обедом, открывавшим реальную эру его царствования. Но до нас дошло лишь, что обедал он наедине со своим фаворитом Барада и в половине второго сел в карету, сказав кучеру: "Королевская площадь, особняк господина кардинала"; ровно в два часа, сопровождаемый секретарем Шарпантье, он вошел в кабинет, сел в кресло опального министра, удовлетворенно вздохнул и с улыбкой прошептал слова, ни веса, ни истинного значения которых не понимал:
— Наконец-то я буду царствовать!
XII
КОРОЛЬ ЦАРСТВУЕТ
Выросший среди безумных трат регентства, когда все деньги Франции уходили на праздники и карусели в честь красавца — галантного кавалера королевы, дорвавшегося до власти, когда Франция, разоренная грабежом казны Генриха IV, с таким великим трудом собранной Сюлли, видела, как все ее золото уходит в руки д’Эпернонов, Гизов, Конде и всех этих вельмож, кого надо было купить любой ценой, чтобы сделать из них щит от ненависти народа, открыто обвинявшего королеву в убийстве своего короля, — Людовик XIII всегда жил бедно до того часа, когда назначил г-на де Ришелье своим министром. Тому благодаря разумному управлению по образцу г-на де Сюлли, соединенному с большим бескорыстием, чем у его предшественника, удалось навести порядок в финансах и вновь обрести золото — металл, который стали было считать собственностью одной Испании.
Но какой ценой этот диктатор отчаяния достиг своей цели! Нечего было и думать о средстве, примененном в 1789 году и все-таки не помешавшем банкротству 1795 года, то есть о том, чтобы обложить налогом дворянство и духовенство. При первом же таком предложении его бы немедленно свергли; надо было — и здесь его неумолимая твердость сослужила ему службу — искать деньги в недрах Франции, у народа, у самой Франции, чтобы спасти ее на западе от англичан, на востоке и севере — от австрийцев, на юге — от испанцев. За четыре года налоги возросли на девятнадцать миллионов; но ведь надо было строить флот, надо было содержать армию. Приходилось закрывать глаза на нищету народа, затыкать уши, чтобы не слышать криков бедноты; отсюда угрюмость этого лица и мрачность этого взгляда. Прежде всего надо было, не располагая ни приворотным зельем, ни колдовским напитком, ни волшебным кольцом, найти средство завладеть королем. И Ришелье нашел это средство: Людовик XIII никогда не видел денег, кардинал показал их ему.
Отсюда изумление и восхищение Людовика XIII своим министром.
В самом деле, как не восхищаться человеком, который находит шесть миллионов под свою личную ответственность, тогда как король не только под свое слово, но и под свою подпись не нашел бы и пятидесяти тысяч ливров!
Поэтому он с трудом верил в три миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи Ришелье. И первым, что он потребовал от Шарпантье, был ключ от этого сокровища.
Шарпантье без лишних слов попросил короля встать, отодвинул бюро на середину кабинета, поднял ковер, бывший вчера под ногами кардинала, а сегодня под ногами короля, и с помощью секретного устройства открыл люк, в котором находился огромный железный шкаф.
Этот шкаф посредством комбинации букв и цифр, сообщенной Шарпантье королю, открылся так же легко, как люк, явив восхищенным глазам Людовика XIII ту сумму, что ему так не терпелось увидеть.
Затем, поклонившись королю, он почтительно удалился, вероятно, в соответствии с полученным заранее приказом, оставив два величия — золото и власть — наедине друг с другом.
В ту эпоху, когда не было ни банков, ни бумажных денег, представляющих капитал, во Франции наличные деньги были редкостью. Три миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи франков кардинала были представлены примерно миллионом в золотых монетах с изображениями Карла IX, Генриха III и Генриха IV, примерно миллионом в испанских дублонах, семьюстами или восьмьюстами тысяч франков в мексиканских слитках, а остальное — небольшим мешочком с бриллиантами, каждый из которых был, как конфета, завернут в бумажку с этикеткой, где значилась его цена.
Вместо радости, какую думал он испытать при виде золота, Людовика XIII охватила невыразимая грусть; изучив эти монеты, рассмотрев изображения на них, погрузив руки в это море с рыжеватыми волнами, чтобы измерить его глубину, взвесив на руке золотые слитки, полюбовавшись на свету чистотой бриллиантов, он положил все на место, выпрямился и стоя посмотрел на эти миллионы, стоившие такого труда тому, кто их собрал, и явившиеся плодом самой неподдельной преданности.
Король подумал о том, с какой легкостью он расточил уже из этой суммы чуть не триста тысяч ливров, чтобы вознаградить преданность тех, что были его врагами и ненавидели человека, давшего ему эти деньги; он спрашивал себя, какое сопротивление оказал бы этим просьбам, если б в его руках это золото имело предназначение, столь же выгодное для Франции и для него, как в руках его министра.
И, не взяв из шкафа ни одного каролюса, он дважды позвонил, вызывая Шарпантье, приказал ему запереть шкаф и люк; когда это было сделано, король вернул ему ключ.
— Не выдавайте ничего из суммы, хранящейся в этом шкафу, без моего письменного приказа.
Шарпантье поклонился.
— С кем я буду работать? — спросил король.
— Монсеньер кардинал, — ответил секретарь, — работал всегда один.
— Один? И чем же он занимался один?
— Государственными делами, государь.
— Но государственными делами не занимаются в одиночку!
— У него были агенты, представлявшие ему отчеты.
— Кто был в числе главных агентов?
— Отец Жозеф, испанец Лопес, господин де Сукарьер и другие, кого я буду иметь честь назвать вашему величеству по мере их появления или по мере того как буду представлять их отчеты: во всяком случае, все они предупреждены, что отныне будут иметь дело с вашим величеством.
— Хорошо.
— Кроме того, государь, — продолжал Шарпантье, — есть агенты, посланные господином кардиналом в различные европейские государства: господин де Ботрю — в Испанию, господин де Ла Салюди — в Италию и господин де Шарнасе — в Германию. Курьеры сообщили, что эти агенты возвратятся сегодня, самое позднее — завтра.
— Как только они вернутся, вы передадите им распоряжение господина кардинала и приведете их ко мне. Сейчас ждет кто-нибудь?
— Господин Кавуа, капитан телохранителей господина кардинала, хотел бы иметь честь быть принятым вашим величеством.
— Я слышал, что господин Кавуа — порядочный человек и храбрый воин. Я буду очень рад увидеть его.
Шарпантье подошел к двери.
— Господин Кавуа! — позвал он.
Кавуа вошел.
— Входите, господин Кавуа, входите, — сказал ему король, — вы хотели говорить со мной?
— Да, государь. Я хотел попросить ваше величество об одной милости.
— Говорите. Вас считают хорошим слугой, и я с удовольствием вам эту милость окажу.
— Государь, я хочу, чтобы ваше величество соблаговолили дать мне отставку.
— Вам отставку! Но почему, господин Кавуа?
— Потому что я принадлежал господину кардиналу, пока он был министром; но с той минуты как он перестал быть министром, я уже не принадлежу никому.
— Прошу прощения, сударь, вы принадлежите мне.
— Я знаю, что, если ваше величество потребует, я принужден буду остаться на его службе; но предупреждаю, что буду плохим слугой.
— Почему же вы будете плохим слугой для меня, тогда как кардиналу служили хорошо?
— Потому что та служба была велением сердца.
— А со мной обстоит иначе?
— Должен признаться, государь, что по отношению к вашему величеству у меня есть только долг.
— И что же вас так сильно привязывало к господину кардиналу?
— Добро, которое он мне сделал.
— А если я захочу сделать вам добро такое же или большее, чем делал он?
Кавуа покачал головой.
— Это не одно и то же.
— Не одно и то же… — повторил король.
— Да, добро ощущается в зависимости от потребностей того, кому его оказывают. Когда господин кардинал сделал мне добро, я только начинал семейную жизнь. Господин кардинал помог мне вырастить детей и к тому же недавно предоставил мне, вернее моей жене, привилегию, дающую нам от двенадцати до пятнадцати тысяч ливров в год.
— Ах, вот как! Господин кардинал предоставляет женам своих слуг государственные должности, приносящие от двенадцати до пятнадцати тысяч ливров в год! Это не мешает знать.
— Я не сказал "должность", государь, я сказал "привилегию".
— Какую же привилегию предоставил он госпоже Кавуа?
— Право сдавать в половинной доле с господином Мишелем портшезы на улицах Парижа.
Король на мгновение задумался, глядя исподлобья на Кавуа; тот стоял неподвижно, держа шляпу в правой руке и прижав мизинец левой ко шву штанов.
— А если бы я сделал вас, господин Кавуа, капитаном моих телохранителей, то есть дал вам ту же должность, что была у вас при господине кардинале?
— У вас уже есть господин де Жюссак, государь; он безупречный офицер, и ваше величество не захочет причинить ему огорчение.
— Я сделаю Жюссака бригадным генералом.
— Если господин де Ябоссак, в чем я не сомневаюсь, любит ваше величество, как я люблю господина кардинала, он предпочтет остаться капитаном возле вас, чем быть бригадным генералом вдали от вас.
— Но если вы покинете службу, господин Кавуа…
— Это мое желание, государь.
— … вы согласитесь принять в вознаграждение того времени, что провели на службе у господина кардинала, сумму в полторы или две тысячи пистолей?
— Государь, — с поклоном отвечал Кавуа, — за время, проведенное на службе у господина кардинала, я был вознагражден по заслугам и даже более того. Настает война, государь, а для войны нужны деньги, много денег. Поберегите ваши награды для тех, кто будет сражаться, а не для тех, кто, как я, посвятив свою судьбу одному человеку, уходит вместе с ним.
— И все слуги господина кардинала думают так, господин Кавуа?
— Полагаю, что да, государь; себя я считаю одним из наименее достойных.
— Итак, вы ни на что не претендуете, ничего не желаете?
— Ничего, государь, кроме чести сопровождать господина кардинала всюду, куда бы он ни отправился, и по-прежнему быть в его доме, хотя бы самым скромным слугой.
— Хорошо, господин Кавуа, — сказал король, уязвленный упорными отказами капитана, — вы свободны.
Кавуа поклонился и вышел, пятясь; в дверях он столкнулся с входящим Шарпантье.
— А вы, господин Шарпантье, — крикнул ему король, — тоже, как господин Кавуа, откажетесь мне служить?
— Нет, государь, ибо я получил от господина кардинала приказ оставаться при вас до тех пор, пока его место не займет другой министр либо пока ваше величество не будет в курсе всех дел.
— А когда я буду в курсе дел или появится новый министр, что станете делать вы?
— Я испрошу у вашего величества позволение отправиться к господину кардиналу: он привык к моим услугам.
— А если я попрошу господина кардинала оставить вас при мне? — спросил король. — Когда у меня будет министр, он не станет, как господин кардинал, делать все, а оставит что-то на мою долю, и мне понадобится честный и умный человек, а вы, я знаю, соединяете оба эти качества.
— Я не сомневаюсь, государь, что господин кардинал немедленно согласится на просьбу вашего величества: я слишком мелкая сошка, чтобы он стал оспаривать меня у своего государя и повелителя. Но тогда я паду к вашим ногам, государь, и скажу вам: "У меня есть семидесятилетний отец и шестидесятилетняя мать; я могу их покинуть ради господина кардинала, который помогал и все еще помогает им в их трудном положении; но, раз я больше не служу господину кардиналу, мое место возле них, государь; позвольте сыну закрыть глаза своих старых родителей". И я уверен, государь, что ваше величество не только согласится на мою просьбу, но и одобрит ее.
Ты чти родителей своих И будешь долго жить, —
ответил Людовик XIII, все более раздражаясь. — В тот день, когда новый министр будет назначен на место господина кардинала, вы будете свободны, господин Шарпантье.
— Должен ли я вернуть вашему величеству доверенный мне ключ?
— Нет, оставьте его у себя: раз кардинал, которому столь хорошо служили, что король может ему только завидовать, вручил этот ключ вам, значит, он находится в руках честнейшего человека на свете; вы знаете мой почерк и мою подпись, выполняйте то, что я предпишу.
Шарпантье направился к двери.
— Не здесь ли, — спросил король, — некий Россиньоль, умеющий, как я слышал, ловко расшифровывать тайные письма?
— Да, государь.
— Я хочу его видеть.
— Достаточно трижды позвонить, и он явится. Угодно вашему величеству, чтобы я его позвал, или вы сделаете это сами?
— Позвоните, — сказал король.
Шарпантье позвонил, и дверь Россиньоля отворилась.
В руке у него был лист бумаги.
— Мне уйти или остаться, государь? — спросил Шарпантье.
— Оставьте нас, — сказал король.
Шарпантье вышел.
— Это вас зовут Россиньоль? — спросил король.
— Да, государь, — отвечал маленький человечек, пристально разглядывая бумагу.
— Вас считают умелым расшифровщиком?
— Действительно, государь, думаю, что в этом отношении мне нет равных.
— Вы можете разгадать любой шифр?
— Пока есть только один, что я до сих пор не разгадал, но с Божьей помощью разгадаю, как и остальные.
— А какой последний шифр вы разгадали?
— Письмо герцога Лотарингского к Месье.
— К моему брату?
— Да, государь, к его королевскому высочеству.
— И что же сообщал герцог Лотарингский моему брату?
— Вашему величеству угодно знать?
— Конечно!
— Сейчас я схожу за письмом.
Россиньоль сделал шаг к двери, но обернулся.
— Оригинал или расшифровку? — спросил он.
— То и другое, сударь.
Россиньоль вернулся в свой кабинет с проворством ласки, которую он напоминал строением головы, приоткрыв дверь ровно настолько, чтобы можно было пройти, и тут же вернулся, держа в одной руке обе требуемые бумаги и продолжая на ходу попытки расшифровать ту, с какой вошел вначале.
— Вот они, государь, — сказал он, протягивая письмо герцога Лотарингского и перевод.
Король начал с оригинала и прочел:
— "Если Юпитер…"
— Месье, — перебил Россиньоль короля.
— "… будет изгнан с Олимпа…" — продолжал король.
— Из Лувра, — подсказал Россиньоль.
— А почему Месье будет удален от двора? — спросил король.
— Потому что он участвует в заговоре, — спокойно ответил Россиньоль.
— Месье участвует в заговоре? И против кого же?
— Против вашего величества и против государства.
— Вы думаете о том, что говорите мне, сударь?
— Я говорю то, о чем ваше величество прочтет, если ему угодно продолжить.
— "… он сможет, — читал король, — укрыться на Крите…"
— В Лотарингии.
— "Минос…"
— Герцог Карл Четвертый.
— "… предложит ему гостеприимство с большим удовольствием. Но здоровье Кефала…"
— Здоровье Вашего Величества.
— Это меня называют Кефалом?
— Да, государь.
— Я знаю, кем был Минос, но забыл, кем был Кефал. Кто он?
— Фессалийский царевич, ваше величество, супруг прекрасной афинской царевны, которую он прогнал с глаз долой, ибо она была ему неверна, но затем с ней помирился.
Людовик XIII нахмурился.
— Ах, значит, этот Кефал, — сказал он, — муж неверной жены, с которой примирился вопреки ее неверности, это я?
— Да, государь, это вы, — невозмутимо ответил Россиньоль.
— Вы уверены?
— Еще бы! Впрочем, ваше величество сами увидите.
— На чем мы остановились?
— "Если Месье будет изгнан из Лувра, он сможет укрыться в Лотарингии. Герцог Карл IV предложит ему гостеприимство с большим удовольствием. Но здоровье Кефала…", то есть короля… На этом вы остановились, государь.
Король стал читать дальше.
— "… весьма ненадежно". Как! Весьма ненадежно?
— Это значит, что ваше величество больны, и очень больны, во всяком случае, по мнению герцога Лотарингского.
— Ах, значит, — побледнев, сказал король, — я болен, и очень болен!
Подойдя к зеркалу, он посмотрел на себя, поискал в карманах флакон с нюхательной солью, не найдя его, покачал головой и, сделав над собой усилие, взволнованным голосом стал читать дальше:
— "… почему бы в случае его смерти не выдать Прокриду…" Прокриду?
— Да, королеву, — ответил Россиньоль. — Прокрида была неверной женой Кефала.
— "… не выдать королеву за Юпитера?" За Месье? — воскликнул король.
— Да, государь, за Месье.
— За Месье!
Король вытер платком струившийся по лбу пот и продолжал:
— "Ходят слухи, что Оракул…"
— Господин кардинал.
— "… хочет избавиться от Прокриды и выдать Венеру…"
Король посмотрел на Россиньоля, который, отвечая королю, продолжал на все лады переворачивать бумагу, что была у него в руках.
— Венеру? — нетерпеливо переспросил король.
— Госпожу де Комбале, госпожу де Комбале, — быстро сказал Россиньоль.
— "… за Кефала", — прочел король. — Меня женить на госпоже де Комбале? Меня? Откуда они это взяли?.. "Пока пусть Юпитер", то есть Месье, "продолжает ухаживать за Гебой…"
— За принцессой Марией.
— "… притворяясь, что из-за этой страсти находится в крайнем разладе с Юноной".
— С королевой-матерью.
— "Важно, чтобы Оракул", то есть кардинал, "хоть он большой хитрец или, вернее, считает себя таковым, ошибался, думая, что Юпитер влюблен в Гебу". Подписано: "Ми — нос".
— Карл Четвертый.
— Ах, — пробормотал король, — вот он, секрет этой великой любви, приносимой в жертву ради поста главного наместника! Ах, мое здоровье весьма ненадежно! Ах, когда я умру, мою вдову выдадут за моего брата! Но, слава Богу, хоть я болен, и очень болен, как они говорят, но еще не умер. Значит, мой брат — заговорщик! И если заговор откроется, он сможет скрыться в Лотарингии у гостеприимного герцога! Разве Франция не в состоянии за один раз проглотить и Лотарингию, и ее герцога? Выходит, мало того, что она дала нам Гизов!
И, резко обернувшись к Россиньолю, он спросил:
— А как попало это письмо в руки господина кардинала?
— Оно было доверено господину Сенелю.
— Одному из моих медиков, — сказал Людовик XIII. — Воистину, у меня отличное окружение!
— Но, предвидя заговор между лотарингским и французским дворами, отец Жозеф подкупил камердинера господина Сенеля.
— Похоже, этот отец Жозеф — ловкий человек, — сказал король.
Россиньоль подмигнул.
— Тень господина кардинала, — сказал он.
— И что же сделал камердинер Сенеля?
— Украл письмо и передал его нам.
— А что сделал Сенель?
— Поскольку он не успел еще отъехать далеко от Нанси, то вернулся и сказал герцогу, что по оплошности сжег его письмо вместе с другими бумагами. Герцог ничего не заподозрил и дал ему другое письмо — то, что получил его королевское высочество Месье.
— И что же ответил мой брат "Юпитер" мудрому "Миносу"? — спросил король с лихорадочным смехом, от которого его усы шевелились еще несколько мгновений, после того как он замолчал.
— Я еще не знаю. Его ответ у меня в руках.
— Как эта бумага, что вы держите, — его ответ?
— Да, государь.
— Дайте.
— Ваше величество ничего в нем не поймет, поскольку я сам еще ничего не понимаю.
— Почему?
— Потому что, когда первое письмо не дошло до адресата, они, боясь каких-либо неожиданностей, изобрели новый шифр.
Король взглянул на листок и прочел несколько совершенно непонятных слов:
"Astre se-Be-L ’amb рады-L MT-Se- хочет быть se".
— И вы сможете узнать, что это значит?
— Я буду знать это завтра, государь.
— Это не почерк моего брата.
— Нет; на этот раз камердинер не решился украсть письмо, боясь, что его заподозрят, и удовольствовался тем, что снял копию.
— И когда это письмо было написано?
— Сегодня около полудня, государь.
— И вы уже успели снять копию?
— Отец Жозеф передал мне ее в два часа.
Король на мгновение задумался, затем обернулся к маленькому человечку, который, взяв у него из рук письмо, продолжал трудиться над разгадкой.
— Вы останетесь со мной, не правда ли, господин Россиньоль? — спросил он.
— Да, государь, пока это письмо не будет расшифровано.
— Как до тех пор, пока это письмо не будет расшифровано? Я полагал, что вы на службе у господина кардинала?
— Я действительно у него на службе, но лишь до тех пор, пока он министр. Перестав им быть, он больше во мне не нуждается.
— Но я нуждаюсь в вас.
— Государь, — сказал Россиньоль, покачав головой столь решительно, что очки его едва не упали, — завтра я покидаю Францию.
— Почему?
— Потому что, служа господину кардиналу, то есть вашему величеству, разгадывая шифры, изобретаемые заговорщиками, я нажил себе грозных врагов среди вельмож — врагов, от которых мог защитить меня один кардинал.
— А если я буду вашей защитой?
— У вашего величества будет такое намерение, но…
— Но?..
— Но не будет для этого власти.
— Что? — переспросил, нахмурясь, король.
— К тому же, — продолжал Россиньоль, — я всем обязан господину кардиналу. Я был бедным парнем из Альби; случаю было угодно, чтобы господин кардинал узнал о моем таланте расшифровщика. Он вызвал меня к себе, дал мне место в тысячу экю, потом в две тысячи, затем добавил по двадцать пистолей за каждое расшифрованное письмо, так что за десять лет, в течение которых я разгадывал не меньше одного-двух писем в неделю, я составил небольшое состояние и надежно поместил его.
— Где же?
— В Англии.
— Может быть, вы отправляетесь в Англию, чтобы поступить на службу к королю Карлу?
— Король Карл предлагал мне две тысячи пистолей в год и по пятьдесят пистолей за расшифрованное письмо, лишь бы я покинул службу у господина кардинала. Я отказался.
— А если я предложу вам то же, что король Карл?
— Государь, жизнь — самое ценное, что есть у человека, поскольку, уйдя под землю, обратно не возвращаются. Сейчас, когда господин кардинал в опале, мне даже под августейшей защитой вашего величества, а может быть, именно из-за этой защиты, не прожить и недели. Понадобилось все влияние господина кардинала, чтобы сегодня утром, когда он покидал свой дом, я не покинул Париж и рискнул ради него своей жизнью, оставшись еще на сутки, чтобы послужить вашему величеству.
— Значит, ради меня вы не рискнули бы жизнью?
— Самоотверженность возможна ради родных или ради благодетеля. Ищите ее, государь, среди ваших родных или среди тех, кому вы делали добро. Не сомневаюсь, что ваше величество найдет ее.
— Вы в этом не сомневаетесь, что ж! А вот я сомневаюсь!
— Теперь, когда я сказал, что задержался с одной целью — послужить вашему величеству, когда вам известно, какому риску я подвергаюсь, оставаясь во Франции, и как спешу ее покинуть, я умоляю ваше величество не противиться моему отъезду — для него все готово.
— Я не стану противиться, но с непременным условием, что вы не поступите на службу ни к одному иностранному государю, кто мог бы использовать ваш талант против Франции.
— В этом я даю слово вашему величеству.
— Ступайте; господину кардиналу посчастливилось, что у него такие слуги, как вы и ваши товарищи.
Король посмотрел на часы.
— Четыре часа, — сказал он. — Завтра в десять утра я буду здесь. Позаботьтесь, чтобы ключ к этому новому шифру был готов.
— Он будет готов, государь.
И видя, что король взялся за шляпу, собираясь уходить, Россиньоль спросил:
— Вашему величеству не угодно переговорить с отцом Жозефом?
— Конечно, конечно, — ответил король, — как только он придет, скажите Шарпантье, чтобы его впустили.
— Он здесь, государь.
— Так пусть войдет. Я сейчас же с ним поговорю.
— Вот он, государь, — сказал Россиньоль и посторонился, уступая дорогу Серому кардиналу.
Монах показался в дверях и скромно остановился на пороге кабинета.
— Входите, входите, святой отец, — сказал король.
Монах приблизился, опустив голову и скрестив руки, всем видом выражая послушание.
— Я здесь, государь, — сказал он, останавливаясь в четырех шагах от короля.
— Вы были здесь, святой отец? — спросил король, с любопытством разглядывая монаха: совершенно новый мир проходил перед его глазами.
— Да, государь.
— И давно?
— Примерно час.
— И вы ждали целый час, не передав мне, что вы здесь?
— Скромный монах вроде меня, государь, должен ожидать приказаний своего короля.
— Уверяют, святой отец, что вы весьма способный человек.
— Это говорят мои враги, государь, — ответил монах, смиренно опуская глаза.
— Вы помогали кардиналу нести груз его обязанностей?
— Как Симон Киринеянин помогал нашему Спасителю нести крест.
— Вы ревностный поборник христианства, святой отец, и в одиннадцатом веке вы, как новый Петр Отшельник, проповедовали бы крестовый поход.
— Я проповедовал его в семнадцатом веке, государь, но безуспешно.
— Каким же образом?
— Я написал латинскую поэму под названием "Турциада", чтобы воодушевить христианских государей против мусульман. Но время прошло или еще не настало.
— Вы оказывали господину кардиналу большие услуги.
— Его высокопреосвященство не мог делать все. Я помогал ему в меру моих слабых сил.
— Сколько платил вам господин кардинал в год?
— Ничего, государь; нашему ордену запрещено принимать что-либо, кроме милостыни. Его высокопреосвященство лишь оплачивал мою карету.
— У вас есть карета?
— Да, государь, но не из тщеславия. Вначале у меня был осел.
— Скромное верховое животное Господа нашего, — заметил король.
— Но монсеньер нашел, что я передвигаюсь недостаточно быстро.
— И дал вам карету?
— Нет, государь, вначале верховую лошадь: от кареты я из скромности отказался. Но, к несчастью, это была кобыла, и однажды, когда мой секретарь отец Анж Сабини сел на нехолощеного жеребца…
— Я понимаю, — сказал король, — и тогда вы приняли карету, предложенную кардиналом?
— Да, государь, я с ней смирился. И потом, — сказал монах, — Богу, подумал я, приятно будет, что смиренные возвеличены.
— Несмотря на отставку кардинала я хочу оставить вас при себе, святой отец, — сказал король. — Вы мне скажете, что, по вашему мнению, мне следует для вас сделать.
— Ничего, государь. Я и так уже, вероятно, прошел по дороге почестей дальше, чем нужно для моего спасения.
— Но есть у вас какое-то желание, которое я могу удовлетворить?
— Вернуться в мой монастырь, откуда, может быть, мне и не следовало выходить.
— Вы слишком полезны в делах, чтобы я позволил это, — сказал король.
— Я видел их лишь глазами его высокопреосвященства, государь; светоч угас, и я ослеп.
— Любому сословию, святой отец, даже духовенству, позволительно иметь честолюбие, соизмеримое с заслугами. Бог дает талант не для того, чтобы человек превращал его в бесплодное поле. Господин кардинал служит вам примером высоты, которой можно достигнуть.
— И с которой затем можно упасть.
— Но какой бы ни была высота, если тот, кто падает, носит красную шапку, это падение можно перенести.
За опущенными ресницами капуцина молнией промелькнуло алчное стремление.
Это не укрылось от короля.
— Вы никогда не мечтали о высших церковных степенях?
— Может быть, когда я был при господине кардинале, я и поддавался этому ослеплению.
— Почему только при господине кардинале?
— Потому что мне понадобилось бы все его влияние в Риме, чтобы достичь этой цели.
— Значит, вы считаете, что мое влияние меньше, чем у него?
— Ваше величество хотели добыть кардинальскую шапку для турского архиепископа, но он так и остался архиепископом; тем более не удастся вам это в отношении бедного капуцина.
Людовик XIII устремил на отца Жозефа пронизывающий взгляд, но невозможно было что-либо прочитать ни на этом мраморном лице, ни в этих опущенных глазах.
Казалось, у монаха движутся одни губы.
— Кроме того, — продолжал он, — есть факт, по важности превосходящий все остальные: в той работе, что была возложена на меня Богом и господином кардиналом, есть множество случаев согрешить, подвергая опасности спасение своей души. При господине кардинале, имеющем от Рима большие полномочия исповедовать и отпускать грехи, мне не надо было ни о чем беспокоиться: если днем я согрешу действием или словом, вечером я исповедуюсь, господин кардинал отпускает мне грехи, и все в порядке, я сплю спокойно. Но если я служу светскому хозяину — будь это сам король, — он не властен отпустить мне грехи. Я не смогу больше грешить, а без этого не смогу добросовестно делать свое дело.
Пока монах говорил, король продолжал смотреть на него; с каждой фразой отца Жозефа на лице Людовика все яснее читалось отвращение.
— И когда хотите вы вернуться в свой монастырь? — спросил он, когда тот закончил.
— Как только получу разрешение вашего величества.
— Вы его получили, святой отец, — сухо сказал король.
— Ваше величество преисполняет меня радостью, — сказал капуцин, скрестив руки на груди и низко кланяясь.
Затем таким же твердым и холодным шагом, каким вошел, — шагом, напоминавшим поступь статуи, — он вышел, даже не обернувшись, чтобы с порога еще раз поклониться королю.
— Лицемер и честолюбец, я о тебе не жалею!
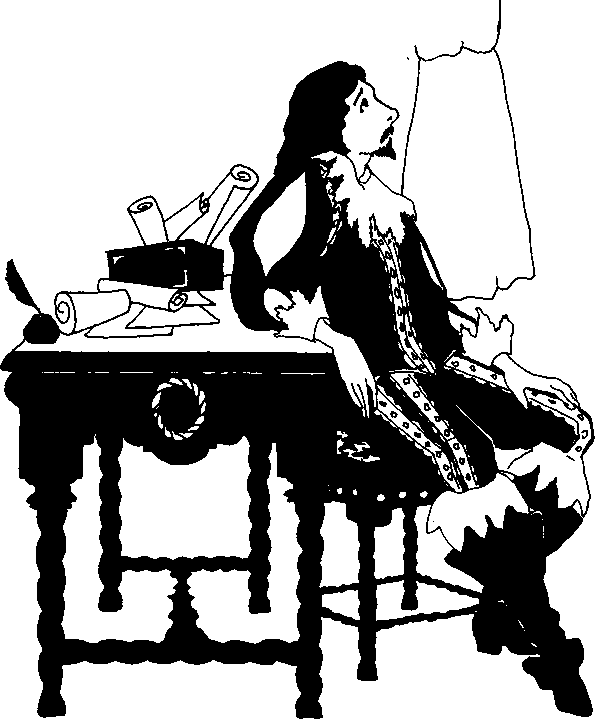
Затем король еще минуту взглядом следил за ним в полутьме прихожей и промолвил:
— Так или иначе, одно совершенно ясно: если сегодня вечером я подал бы в отставку как король, подобно тому как это сделал сегодня утром господин кардинал, я не нашел бы четырех человек, которые бы последовали за мной в изгнание и разделили мою немилость. Впрочем, я не нашел бы и трех, и двух, а может быть, и одного.
XIII
ПОСЛЫ
На следующий день ровно в десять часов король, как он и говорил, был в кабинете кардинала.
То, что ему предстояло узнать, при всей своей унизительности, чрезвычайно интересовало его.
Вернувшись накануне в Лувр, он ни с кем не виделся, заперся со своим пажом Барада и, чтобы вознаградить его за оказанную услугу — избавление от кардинала, — дал ему ордер на три тысячи пистолей для получения у Шарпантье.
Было вполне справедливо, что, сделав больше, чем другие, Барада был вознагражден первым. Однако, прежде чем дать Месье сто пятьдесят тысяч ливров, королеве — тридцать тысяч и королеве-матери — шестьдесят тысяч, он не прочь был увидеть ответ Месье герцогу Лотарингскому — ответ, обещанный Россиньолем к десяти часам утра.
И вот, как мы сказали, ровно в десять часов король вошел в кабинет кардинала и, до того как он бросил плащ на кресло и положил шляпу на стол, позвонил три раза.
Россиньоль появился с обычной для него пунктуальностью.
— Ну что? — нетерпеливо спросил его король.
— Что ж, государь, — ответил Россиньоль, подмигивая сквозь очки, — он в наших руках, этот пресловутый шифр.
— Посмотрим скорее! — сказал король. — Сначала ключ.
— Вот он, государь.
И вместе с переводом он протянул ключ, положив его сверху.
Король прочел:
король королева
Astre se королева-мать
Be
L’amb
LM
T
Pif-Paf
Zane
Gor
Cel с
Месье кардинал мертв война герцог Лотарингский г-жа де Шеврез г-жа де Фаржи беременна
— Что дальше? — спросил король.
— Замените шифрованные слова, государь.
— Нет, — сказал король, — вы к этому привычнее: у меня голова лопнет от такой работы.
Россиньоль взял бумагу и прочел:
"Королева, королева-мать и герцог Орлеанский рады. Кардинал мертв. Король хочет быть королем. Война против короля Сурков решена, но герцог Орлеанский возглавит войска. Герцог Орлеанский, влюбленный в дочь герцога Лотарингского, не хочет ни в коем случае жениться на королеве, она старше его на семь лет; он опасается одного — как бы, последовав добрым советам г-жи де Фаржи и г-жи де Шеврез, она не оказалась беременной к моменту смерти короля".
Король выслушал чтение не прерывая; однако он несколько раз отирал лоб, чертя по паркету колесиком шпоры.
— Беременной, — прошептал он, — беременной. Во всяком случае, если она забеременеет, то не от меня.
Затем он обернулся к Россиньолю:
— Это первые письма такого рода, расшифрованные вами, сударь?
— О нет, государь. Я расшифровал уже десять или двенадцать подобных им.
— Почему же господин кардинал мне их не показывал?
— Зачем было волновать ваше величество, если он следил, чтобы с вами не случилось беды?
— Но, обвиняемый, преследуемый всеми этими людьми, почему он не воспользовался этим оружием против них?
— Он боялся, что оно причинит больше зла королю, чем его врагам.
Король несколько раз прошелся взад и вперед по кабинету, опустив голову и надвинув шляпу на глаза.
Затем, вернувшись к Россиньолю, он сказал:
— Сделайте мне копию каждого из этих писем в зашифрованном виде, но с ключом вверху.
— Хорошо, государь.
— Вы думаете, что еще будут такие письма?
— Конечно, государь.
— Кого должен я принять сегодня?
— Это не касается меня, государь. Я занимаюсь только своими шифрами. Это дело господина Шарпантье.
И не успел еще Россиньоль выйти, как король лихорадочным движением дважды ударил по звонку.
Эти отрывистые и сильные удары говорили о душевном состоянии Людовика XIII.
Шарпантье поспешно вошел, но остановился на пороге.
Король стоял задумавшись, глядя в пол и опираясь рукой о бюро кардинала.
— Беременна, — шептал он, — королева беременна; иностранец на французском троне, может быть англичанин!
И добавил вполголоса, словно боясь услышать собственные слова:
— В этом нет ничего невозможного. Как уверяют, пример в нашей семье уже был.
Поглощенный своими мыслями, король не заметил Шарпантье. Думая, что секретарь не откликнулся на зов, король нетерпеливо поднял голову и собирался уже снова позвонить; но тот, угадав по жесту его намерение, торопливо прошел вперед со словами:
— Я здесь, государь.
— Хорошо, — сказал король, глядя на него и пытаясь овладеть собой. — Какие дела у нас сегодня?
— Государь, граф де Ботрю прибыл из Испании и граф де Ла Салюди из Венеции.
— Что они должны были там делать?
— Мне это неизвестно, государь. Вчера я имел честь сказать вам, что посылал их господин кардинал, и добавил, что господин де Шарнасе должен также прибыть из Швеции сегодня вечером или самое позднее завтра.
— Вы сказали им, что кардинал больше не министр и что вместо него приму их я?
— Я передал им приказание его высокопреосвященства дать вашему величеству отчет в своей миссии, как они дали бы ему самому.
— Кто прибыл первым?
— Господин де Ботрю.
— Как только он будет здесь, пригласите его.
— Он уже здесь, государь.
— Тогда пусть войдет.
Шарпантье подошел к двери, что-то сказал вполголоса и посторонился, пропуская Ботрю.
Посол был в дорожном костюме; он извинился, что предстает в таком виде перед королем; но он полагал, что будет иметь дело с кардиналом де Ришелье, а оказавшись в передней, не захотел заставлять ждать его величество.
— Господин де Ботрю, — сказал ему король, — я знаю, что господин кардинал очень вас ценит и считает искренним человеком; по его собственным словам, он предпочитает совесть одного Ботрю совести двух кардиналов де Берюлей.
— Надеюсь, государь, что я достоин доверия, которым меня почтил господин кардинал.
— И вы покажете себя достойным моего доверия, не правда ли, сударь, рассказав мне все, что рассказали бы ему.
— Все, государь? — спросил Ботрю, пристально глядя на короля.
— Все. Я добиваюсь правды и хочу знать ее всю.
— Так вот, государь, прежде всего, смените вашего посла де Фаржи: он, вместо того чтобы следовать инструкциям кардинала, направленным к славе и возвышению вашего величества, выполняет инструкции королевы-матери, имеющие целью унижение Франции.
— Мне уже говорили об этом. Хорошо, я подумаю. Видели вы графа-герцога Оливареса?
— Да, государь.
— Какое поручение у вас к нему было?
— Если возможно, закончить миром дело с Мантуей.
— И что же?
— Едва я заговорил с ним о делах, он в ответ повел меня в птичник его величества короля Филиппа Четвертого, где собраны любопытнейшие породы со всего света, и предложил послать несколько образчиков вашему величеству.
— По-моему, он насмехался над вами?
— И прежде всего, государь, над тем, кого я представлял.
— Сударь!
— Вы требовали от меня правды, государь. Я вам ее говорю. Угодно вам, чтобы я лгал? Я достаточно умен, чтобы сочинить приятную ложь взамен горькой правды.
— Нет, говорите правду, какой бы она ни была. Что думают о нашем походе в Италию?
— Над ним смеются, государь.
— Смеются? Разве не известно, что я его возглавлю?
— Известно, государь; но говорят, что королевы заставят вас изменить решение или что Месье будет командовать под вашим началом, а поскольку подчиняться будут только королевам и Месье, то с этим походом произойдет то же, что с экспедицией герцога Неверского.
— Ах, значит вот как думают в Мадриде?
— Да, государь, и настолько в этом уверены, что пишут дону Гонсалесу Кордовскому — я узнал это, подкупив одного из секретарей графа-герцога:
"Если войсками будут командовать король и Месье, не беспокойтесь ни о чем. Армия не преодолеет Сузского прохода. Но, если, напротив, руководить военными действиями будет кардинал под началом короля или без него, не пренебрегайте ничем и отправьте столько войск, сколько сможете, чтобы поддержать герцога Савойского".
— Вы уверены в том, что мне говорите?
— Совершенно уверен, государь.
Король снова принялся ходить по кабинету, опустив голову и, как всегда, когда он бывал чем-то сильно озабочен, надвинув шляпу на глаза; потом внезапно остановился и, пристально глядя на Ботрю, спросил:
— А слышали вы какие-нибудь разговоры о королеве?
— Только придворные пересуды.
— И что же было в этих придворных пересудах?
— Ничего, о чем можно было бы доложить вашему величеству.
— Все равно, я хочу знать.
— Клеветнические выдумки, государь. Не пачкайте ваш ум всей этой грязью.
— Говорю вам, сударь, — нетерпеливо сказал Людовик XIII и топнул ногой, — клевета это или правда, я хочу знать, что говорят о королеве?
Ботрю поклонился.
— Каждый верноподданный должен повиноваться приказу вашего величества.
— Ну, так повинуйтесь.
— Говорили, что, поскольку здоровье вашего величества ненадежно…
— Ненадежно… мое здоровье ненадежно! Они все на это надеются. Моя смерть для них якорь спасения. Продолжайте.
— Говорили, что, поскольку здоровье вашего величества ненадежно, королева примет меры, чтобы обеспечить себе…
Ботрю запнулся.
— Обеспечить себе что? — спросил король. — Говорите! Да говорите же!
— Чтобы обеспечить себе регентство.
— Но регентство может быть лишь в том случае, если есть наследник короны!
— Чтобы обеспечить себе регентство, — повторил Ботрю.
Король топнул ногой.
— Итак, там — как здесь, в Испании — как в Лотарингии; в Лотарингии — страх, в Испании — надежда; и в самом деле, королева-регентша — это Испания в Париже. Значит, Ботрю, вот что там говорят?
— Вы приказали мне говорить, государь. Я повиновался.
И Ботрю склонился перед королем.
— Вы хорошо сделали. Я сказал вам, что добиваюсь правды; я напал на ее след, и, будучи, слава Богу, достаточно хорошим охотником, я пройду по нему до конца.
— Что будет угодно приказать вашему величеству?
— Отдыхайте, сударь, вы, должно быть, устали.
— Ваше величество не сказали, имел я счастье угодить королю или несчастье прогневить его.
— Не скажу, что вы доставили мне удовольствие, господин Ботрю, но вы оказали мне услугу, а это стоит большего. Есть вакантное место государственного советника; позвольте считать, что у меня есть кого им наградить.
И Людовик XIII, сняв перчатку, протянул руку для поцелуя чрезвычайному послу при Филиппе IV.
Ботрю, согласно этикету, вышел пятясь, чтобы не поворачиваться спиной к королю.
— Итак, — прошептал король, оставшись один, — моя смерть стала надеждой, моя честь — игрушкой, наследование моей короны — лотереей. Мой брат вступит на престол лишь для того, чтобы продать и предать Францию; и моя мать — вдова Генриха Четвертого, вдова этого великого короля, которого убили, потому что он становился все более великим и его тень покрывала другие королевства, — моя мать ему в этом поможет. К счастью, — у короля вырвался резкий нервный смех, — к счастью, в момент моей смерти королева будет беременна, и таким образом все будет спасено. Как удачно, что я женат!
Взгляд его помрачнел.
— Теперь меня не удивляет, — сказал он изменившимся голосом, — что они так злятся на кардинала!
Ему послышался легкий шум со стороны двери. Он обернулся: дверь действительно приотворилась.
— Угодно вашему величеству принять господина де Ла Салюди? — спросил Шарпантье.
— Еще бы! — сказал король. — Все, что я узнаю, полно для меня интереса.
И с тем же почти конвульсивным смехом он добавил:
— А еще говорят, будто короли не знают, что у них делается! Правда, они узнают об этом последними, но в конце концов узнают, если хотят.
Затем, поскольку г-н де Л а Салюди остановился в дверях, король сказал:
— Проходите, проходите. Я жду вас, господин де Ла Салюди. Вам сказали, не правда ли, что я временно замещаю господина кардинала? Так что говорите со мной без всяких секретов, как говорили бы с ним.
— Но, государь, — отвечал де Ла Салюди, — при нынешнем положении дел я не знаю, следует ли мне повторять вам…
— Повторять мне что?
— Хвалу, возносимую в Италии человеку, кем кажется, вы недовольны.
— Ах, кардинала восхваляют в Италии? И что же говорят о нем по ту сторону гор?
— Государь, они еще не знают, что господин кардинал больше не министр, и поздравляют ваше величество с тем, что у вас на службе крупнейший политический и военный гений нашего века. Взятие Ла-Рошели, о чем господин кардинал поручил мне сообщить герцогу Мантуанскому, венецианской Синьории и его святейшеству Урбану Восьмому, было встречено с радостью в Мантуе, с воодушевлением в Венеции и с признательностью в Риме; точно так же задуманный вами поход в Италию, весьма напугав Карла Эммануила, ободрил всех других государей. Вот письма герцога Мантуанского, венецианского сената и его святейшества, выражающие большое доверие к гению кардинала; каждая из трех держав, заинтересованных в успехе вашего итальянского похода, государь, чтобы посильно содействовать ему, вручила мне векселя для своих банкиров на общую сумму полтора миллиона.
— И на чье имя выданы эти векселя?
— На имя господина кардинала, государь. Остается лишь индоссировать их и получить деньги: эти векселя оплачиваются по предъявлении.
Король взял векселя и внимательно рассмотрел их.
— Полтора миллиона, — сказал он, — и шесть миллионов, занятые им, — вот с чем мы начинаем войну. Все деньги исходят от этого человека, как от него исходит величие и слава Франции.
Тут у Людовика XIII мелькнула внезапная мысль. Он подошел к звонку и вызвал Шарпантье, позвонив два раза.
Шарпантье появился.
— Вы знаете, — спросил король, — у кого господин кардинал занял шесть миллионов, чтобы покрыть первые военные расходы?
— Да, государь, у господина де Бюльона.
— И долго тот заставил себя упрашивать, прежде чем согласился?
— Наоборот, государь, он сам их предложил.
— Как это?
— Господин кардинал пожаловался, что армия маркиза д’Юкзеля рассеялась из-за нехватки денег, присвоенных королевой-матерью, и съестных припасов, не поставленных маршалом де Креки. "Эта армия потеряна", — сказал его высокопреосвященство.
"Что ж, — отозвался господин де Бюльон, — надо набрать другую, только и всего".
"Но с чем?"
"Я дам вам денег на вербовку пятидесяти тысяч человек, да еще миллион золотом в придачу".
"Мне нужен не миллион, мне нужны шесть миллионов".
"Когда?"
"Как можно скорее".
"Сегодня вечером будет не поздно?"
Кардинал рассмеялся.
"Они что, у вас в кармане?" — спросил он.
"Нет, я держу их у Фьёбе, казначея королевской казны; я дам вам ордер к нему, и вы пошлете за ними".
"И каких гарантий вы потребуете, господин де Бюльон?" Господин де Бюльон встал и поклонился его высокопреосвященству.
"Вашего слова, монсеньер", — сказал он.
Кардинал расцеловал его. Господин де Бюльон написал несколько строк на листочке бумаги. Кардинал выразил ему свою признательность. Вот и все.
— Хорошо! Вы знаете, где находится господин де Бюльон?
— Полагаю, в казначействе.
— Подождите.
Сев за бюро кардинала, король написал:
"Господин де Бюльон, мне для моих личных нужд необходима сумма в пятьдесят тысяч франков, которую я не хочу брать из денег, любезно одолженных Вами господину кардиналу. Соблаговолите выдать мне ее, если это возможно. Обязуюсь моим словом вернуть долг в течение месяца.
Благосклонный к Вам
Людовик".
Затем, обернувшись к Шарпантье, спросил:
— Беренген здесь?
— Да, государь.
— Передайте ему эту бумагу, пусть возьмет портшез, отправится к господину де Бюльону и дождется ответа.
Шарпантье взял бумагу и вышел, но почти тотчас же вернулся.
— В чем дело? — спросил король.
— Господин де Беренген отправился; но я хотел сказать вашему величеству, что здесь находится господин де Шарнасе, он прибыл из Западной Пруссии и привез господину кардиналу письмо от короля Густава Адольфа.
Людовик кивнул.
— Господин де Ла Салюди, — сказал он, — полагаю, больше нам нечего сказать друг другу.
— Конечно, государь; мне остается заверить вас в своем почтении и попросить позволения присовокупить к нему сожаления по поводу отставки господина де Ришелье: его ждали в Италии, на него рассчитывали, и долг верноподданного заставляет меня сказать вашему величеству, что я был бы счастливейшим из смертных, если бы вы мне позволили поклониться господину кардиналу, несмотря на его опалу.
— Я сделаю нечто лучшее, господин де Ла Салюди, — ответил король, — я сам предоставлю вам возможность с ним увидеться.
Де Ла Салюди поклонился.
— Вот векселя из Мантуи, Венеции и Рима; поезжайте в Шайо, засвидетельствуйте свое почтение господину кардиналу, передайте адресованные ему письма и попросите его индоссировать векселя; затем отправляйтесь от имени его высокопреосвященства к господину де Бюльону, чтобы он выдал вам деньги. Чтобы все это было быстрее, я разрешаю вам воспользоваться моей каретой, стоящей у дверей: чем скорее вы вернетесь, тем признательнее я вам буду за ваше рвение.
Де Ла Салюди поклонился и, не тратя ни секунды на вежливые формулы, направился исполнять приказания короля.
Шарпантье остался у двери.
— Я жду господина де Шарнасе, — сказал король.
Никогда ему не служили так быстро в Лувре, как это было у кардинала: едва изъявил он желание видеть г-на де Шарнасе, как г-н де Шарнасе стоял перед ним.
— Ну что же, барон, — сказал ему король, — похоже, вы совершили неплохое путешествие.
— Да, государь.
— Соблаговолите дать мне отчет, не теряя ни секунды. Со вчерашнего дня я учусь ценить время.
— Вашему величеству известно, с какой целью я был послан в Германию.
— Господин кардинал пользовался полным моим доверием и имел право проявлять инициативу во всех вопросах; он ограничился тем, что сообщил мне о вашем отъезде и о вашем возвращении. Больше мне ничего не известно.
— Угодно вашему величеству, чтобы я точно повторил данные мне инструкции?
— Говорите.
— Вот они слово в слово; я выучил их наизусть на случай, если секретные инструкции затеряются:
"Частые действия Австрийского дома, направленные во вред союзникам короля, вынуждают его принять действенные меры для их защиты, поэтому сразу после взятия Ла-Рошели Его Величество решил во главе своих лучших войск отправиться на помощь Италии. Вследствие этого Его Величество срочно отправляет господина де Шарнасе к своим союзникам в Германии. Он предложит им всю помощь, зависящую от Его Величества, и заверит в искреннем желании короля помогать им, коль скоро они намерены действовать совместно с ним в интересах их совместной обороны. Сиру де Шарнасе поручено изложить средства, кои Его Величество считает наиболее удобными и приемлемыми для тех намерений, что он имеет в виду на благо своих союзников".
— Это ваши общие инструкции, — сказал король, — но были, видимо, и особые?
— Да, государь. Герцога Максимилиана Баварского, которого его высокопреосвященство сумел резко настроить против императора, следовало побудить создать католическую лигу: она противостояла бы намерениям Фердинанда в отношении Германии и Италии, в то время как Густав Адольф атаковал бы императора во главе протестантов.
— А каковы были инструкции в отношении короля Густава Адольфа?
— Мне было поручено пообещать королю Густаву, если он согласится стать главой протестантской лиги, как герцог Баварский стал бы главой лиги католической, ежегодную субсидию в пятьсот тысяч ливров и заверить, что ваше величество одновременно с его выступлением атакует Лотарингию — соседнюю с Германией провинцию и очаг заговоров, направленных против Франции.
— Да, — сказал король, улыбаясь, — я понимаю: "Крит" и царь "Минос"; но что выигрывал кардинал или, вернее, что выигрывал я, нападая на Лотарингию?
— То, что государи Австрийского дома, вынужденные направить значительную часть своих войск в Эльзас и на Верхний Рейн, были бы отвлечены от Италии и дали бы вам спокойно закончить поход на Мантую.
Людовик сжал лоб руками. Эти неохватные комбинации его министра ускользали от него именно в силу своего размаха и, теснясь у него в мозгу, казалось, вот-вот готовы были взорвать его.
— И что же, — спросил он через мгновение, — король Густав Адольф согласен?
— Да, государь, но на определенных условиях.
— Каких?
— Они содержатся в этом письме, государь, — сказал де Шарнасе, вынув из кармана конверт со шведским гербом. — Ваше величество желает непременно прочесть его или — что, возможно, было бы удобнее, — позволит мне изложить его содержание?
— Я хочу все прочесть, сударь, — отвечал король, беря письмо у него из рук.
— Не забудьте, государь, что король Густав Адольф — весельчак, склонный к злословию по любому поводу; он мало заботится о дипломатических формах и говорит все что думает, не столь по-королевски, сколь по-солдатски.
— Если я это забыл, то теперь вспомню, а если я это не знал, то теперь буду знать.
И, распечатав письмо, Людовик стал читать, но про себя.
"Из Штума, после победы, отдавшей в руки Швеции все крепости Ливонии и польской Пруссии.
19 декабря 1628 года.
Дорогой кардинал,
Вы знаете, что я чуточку язычник, поэтому не удивляйтесь той фамильярности, с какой я пишу князю Церкви.
Вы великий человек, более того — гениальный человек, более того — честный человек, с Вами можно и говорить, и делать дела. Так давайте, если Вам угодно, делать дела Франции и дела Швеции, но вместе. Я охотно договорюсь с Вами, но не с другими.
Уверены ли Вы в своем короле? Не думаете ли Вы, что он по своей привычке повернет в другую сторону при первом дуновении, исходящем от его матери, его жены, его брата, его фаворита — де Люиня или Шале — или его духовника? А Вы, у кого в мизинце больше таланта, чем в головах всех этих людей — короля, королев, принцев, фаворита, священника, — не опрокинет ли Вас в одно прекрасное утро какая-нибудь злая гаремная интрига, словно какого-нибудь визиря или пашу?
Если Вы в этом уверены, окажите честь написать мне: "Друг Густав, я уверен, что три года буду господствовать над этими пустыми и бестолковыми головами, доставляющими мне столько работы и огорчений. Я уверен, что смогу лично сдержать в отношении Вас обязательства, взятые от имени моего короля, и начинаю кампанию немедленно ". Но не говорите мне: "Король сделает ". Ради Вас, под Ваше слово я разграблю Прагу, сожгу Вену, сровняю с землей Пешт; но ради французского короля, под слово французского короля я не ударю ни в один барабан, не заряжу ни одно ружье, не оседлаю ни одной лошади.
Если это Вас устраивает, мой высокопреосвященнейший, то пришлите мне г-на де Шарнасе: он мне очень подходит, хоть и немного меланхоличен; но, черт возьми, если он проделает кампанию со мной, я развеселю его с помощью венгерского вина.
Поскольку я пишу умному человеку, передаю Вас не под защиту Господа, а под защиту Вашего собственного гения, с радостью и гордостью называя себя любящим Вас
Густавом Адольфом".
Король читал это письмо с возраставшим раздражением и, закончив, смял его в руке.
Затем он обернулся к барону де Шарнасе.
— Вы знали содержание этого письма? — спросил он.
— Я знал его дух, но не текст, государь.
— Варвар! Северный медведь! — пробормотал Людовик.
— Государь, — позволил себе заметить де Шарнасе, — этот варвар только что победил русских и поляков. Он учился военному делу у француза по имени Ла Гарди. Это создатель современной войны, наконец, единственный человек, способный остановить честолюбие императора Фердинанда и разбить Тилли с Валленштейном.
— Да, я слышал эти утверждения, — отвечал король. — Я хорошо знаю, что таково мнение кардинала, великого кардинала, первого полководца после короля Густава Адольфа! — добавил он с нервным смехом, которому тщетно пытался придать язвительность. — Но я другого мнения.
— Искренне сожалею об этом, государь, — с поклоном сказал де Шарнасе.
— Вы, кажется, — сказал Людовик XIII, — хотите вернуться к шведскому королю, барон?
— Это было бы большой честью для меня и, думаю, большим счастьем для Франции.
— К несчастью, это невозможно, — ответил король, — поскольку его шведское величество хочет вести переговоры только с господином кардиналом, а кардинал уже не у дел.
Потом, повернувшись к двери, в которую кто-то скребся, спросил:
— Ну, что там такое?
И, узнав по манере скрестись, что это господин Первый, сказал:
— Это вы, Беренген? Входите.
Беренген вошел.
— Государь, — сказал он, протягивая королю большой запечатанный конверт, — вот ответ господина де Бюльона.
Король распечатал и прочел:
"Государь, я в отчаянии, но, чтобы оказать услугу г-ну де Ришелье, я опустошил мою кассу до последнего экю и при всем желании сделать приятное Вашему Величеству не могу сказать, когда буду в состоянии дать ему просимые пятьдесят тысяч ливров.
С искренним сожалением и глубочайшим почтением, государь, имею честь назвать себя нижайшим, вернейшим и покорнейшим подданным Вашего Величества.
Де Бюльон".
Людовик прикусил усы. Письмо Густава Адольфа показало ему, как далеко простирается его политический кредит, письмо де Бюльона показало, как далеко простирается его кредит финансовый.
В эту минуту вошел де Ла Салюди в сопровождении четырех человек; каждый из них сгибался под тяжестью мешка.
— Что это? — спросил король.
— Государь, — ответил де Ла Салюди, — это полтора миллиона ливров, посылаемые господином де Бюльоном господину кардиналу.
— Господином де Бюльоном? — переспросил король. — Значит, у него есть деньги?
— Конечно! Это сразу видно, государь, — ответил де Ла Салюди.
— И на чье имя он дал вексель? На имя Фьёбе?
— Нет, государь. Он вначале думал так сделать, а потом сказал, что не стоит все усложнять из-за небольшой суммы, и просто дал мне ордер на имя своего старшего служащего господина Ламбера.
— Наглец! — прошептал король. — У него нет денег, чтобы одолжить мне пятьдесят тысяч ливров, и тут же он находит полтора миллиона, чтобы учесть для господина де Ришелье векселя из Мантуи, Венеции и Рима.
Он упал в кресло, изнемогая под грузом моральной борьбы, которую вел со вчерашнего дня; она начинала ему показывать его собственный облик в неумолимом зеркале истины.
— Господа, — сказал он де Шарнасе и де Ла Салюди, — благодарю вас. Вы хорошие и верные слуги. Через несколько дней я приглашу вас, чтобы сообщить о моей воле.
И он жестом сделал им знак удалиться.
Оба, поклонившись, вышли.
Четверо носильщиков, поставив мешки на пол, ждали.
Людовик расслабленно протянул руку к звонку и позвонил два раза.
Вошел Шарпантье.
— Господин Шарпантье, — сказал король, — присоедините эти полтора миллиона ливров к остальным и прежде всего расплатитесь с этими людьми.
Шарпантье дал каждому носильщику по серебряному луи.
Они ушли.
— Господин Шарпантье, — сказал король, — не знаю, приду ли я завтра. Я чувствую себя ужасно усталым.
— Будет досадно, если ваше величество не придет, — ответил на это Шарпантье. — Завтра день отчетов.
— Каких отчетов?
— Отчетов полиции господина кардинала.
— Кто его главные агенты?
— Отец Жозеф; вы разрешили ему вернуться в свой монастырь, поэтому он, видимо, завтра не придет; господин Лопес-испанец; господин Сукарьер.
— Эти отчеты делаются письменно или лично?
— Поскольку агенты господина кардинала знают, что завтра будут иметь дело с королем, они, вероятно, захотят представить свои отчеты устно.
— Я приду, — сказал король, с усилием поднимаясь.
— Так что, если агенты явятся лично?..
— Я их приму.
— Но я должен предупредить ваше величество об одном агенте, про которого еще ничего вам не говорил.
— Значит, четвертый агент?
— И более секретный, чем остальные.
— Что же это за агент?
— Женщина, государь.
— Госпожа де Комбале?
— Простите, государь, госпожа де Комбале вовсе не агент его высокопреосвященства, она его племянница.
— Как зовут эту женщину? Это какое-нибудь известное имя?
— Очень известное, государь.
— И ее зовут?..
— Марион Делорм.
— Господин кардинал принимает эту куртизанку?
— И очень ею доволен; именно она позавчера вечером предупредила его, что, вероятно, утром он окажется в немилости.
— Она? — переспросил король вне себя от изумления.
— Когда господин кардинал хочет узнать какие-то придворные новости, он обычно обращается к ней. Возможно, узнав, что в этом кабинете вместо кардинала находится ваше величество, она сообщит вам, государь, что-либо важное.
— Но она, я полагаю, не является сюда открыто?
— Нет, государь. Ее дом примыкает к этому, и кардинал велел пробить стену и устроить дверь для связи между двумя жилищами.
— Вы уверены, господин Шарпантье, что не вызовете неудовольствия его высокопреосвященства, сообщая мне такие подробности?
— Напротив, я именно по его приказу сообщаю их вашему величеству.
— И где же дверь?
— В этой панели, государь. Если во время завтрашней работы король, оставшись один, услышит легкий стук в эту дверь и пожелает оказать мадемуазель Делорм честь принять ее, надо нажать на эту кнопку, и дверь отворится. Если ваше величество не пожелает оказать этой чести, пусть ответит тремя ударами через равные промежутки. Через десять минут прозвучит звонок. В пустом промежутке между дверьми на полу будет лежать письменный отчет.
Людовик XIII на миг задумался. Видно было, что любопытство отчаянно борется в нем с отвращением, какое он испытывал ко всем женщинам, а особенно к женщинам такого общественного положения, как у Марион Делорм.
Наконец любопытство победило.
— Поскольку господин кардинал, человек Церкви, освященный и переосвященный, принимает мадемуазель Делорм, — сказал он, — полагаю, что я могу ее принять. К тому же если это грех, то я исповедуюсь. До завтра, господин Шарпантье.
И король, шатаясь, вышел — более бледный и уставший, чем накануне, но с более ясным представлением о том, как трудно быть великим министром и как легко быть посредственным королем.
Назад: IV СОВЕТЫ Л’АНЖЕЛИ
Дальше: XIV АНТРАКТЫ КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ

