Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 38. Красный сфинкс. Голубка
Назад: Часть третья
Дальше: IX РЕШЕНИЕ КОРОЛЯ
IV
СОВЕТЫ Л’АНЖЕЛИ
Король Людовик XIII вначале, как мы видели, был оскорблен дерзостью своего фаворита, который вырвал у него из рук флакон с померанцевой водой, предложенный ему, чтобы он подушился, и бросил его на пол; но едва он увидел, что из раны, нанесенной г-ном де Бассомпьером, течет драгоценная кровь его любимца, как весь его гнев обратился в страдание; он опрометью бросился к пажу, вытащил у него из плеча застрявшую там шпиговальную иглу и, несмотря на сопротивление Барада — сопротивление, порожденное не почтением, а страхом, — хотел, ссылаясь на свои познания в медицине, сам перевязать ему рану.
Но доброта Людовика XIII по отношению к своему фавориту — доброта или скорее слабость, напоминавшая ту, что испытывал Генрих III к своим миньонам, — превратила Барада в испорченного ребенка.
Он отталкивал короля, отталкивал всех, заявляя, что не забудет нанесенного ему оскорбления и участия, какое принял король в этом оскорблении; он будет удовлетворен лишь в том случае, если маршала де Бассомпьера посадят в Бастилию либо король разрешит публичную дуэль вроде той, что прославила царствование Генриха II и окончилась смертью де Ла Шатеньре.
Король пытался его успокоить; однако Барада простил бы удар шпагой — более того, удар шпагой, полученный от маршала де Бассомпьера, вызвал бы у него известную гордость, — но он не мог простить удара шпиговальной иглой. Все было бесполезно, ультиматум раненого оставался прежним: дуэль по закону в присутствии короля и всего двора либо заточение маршала в Бастилию.
С этим Барада удалился в свою комнату не менее величественно, чем Ахилл в свой шатер, после того как Агамемнон отказался вернуть ему прекрасную Брисеиду.
Это происшествие вызвало некоторое замешательство у шпиговалыциков и даже у тех, кто не шпиговал. Герцог де Гиз и герцог Ангулемский первыми решили, что они лишние в этой семейной сцене; надев шляпы, они направились к двери и вышли вместе.
Когда они переступили порог и дверь за ними затворилась, герцог де Гиз остановился и, глядя на герцога Ангулемского, спросил:
— Ну, что вы об этом скажете?
Герцог пожал плечами:
— Скажу, что мой бедный, столь оклеветанный король Генрих Третий, в конечном счете, не был в таком отчаянии из-за смерти Келюса, Шомберга и Можирона, как наш добрый король Людовик Тринадцатый из-за царапины господина Барада.
— Возможно ли, чтобы сын так мало походил на отца, — пробормотал герцог де Гиз, покосившись на дверь, словно хотел сквозь нее увидеть, что происходит в комнате, откуда они вышли. — Должен по чести признаться, что мне больше нравился король Генрих Четвертый, хоть в глубине души он и остался гугенотом.
— Ну, вы так говорите, потому что Генрих Четвертый умер; при жизни вы его терпеть не могли.
— Он причинил достаточно зла нашей семье, и нам не с чего быть в числе его лучших друзей.
— Это я допускаю, — сказал герцог Ангулемский, — но чего я не могу допустить, так это непременного сходства, какое вы пытаетесь найти между детьми и мужьями их матерей; знаете ли вы, что далеко не всем дано им наслаждаться? Да начнем хотя бы с вас, дорогой мой герцог, — и герцог Ангулемский ласково оперся об руку собеседника, ставя ногу на ступеньку лестницы, — если начать с вас, то я, имевший честь знать мужа вашей матушки и имеющий счастье знать вас, отважусь сказать — разумеется, без малейшего злословия, — что между вами и ним нет ни малейшего сходства.
— Дорогой герцог, дорогой герцог! — пробормотал г-н де Гиз, не зная, а вернее, слишком хорошо зная, куда может завести его такой насмешливый собеседник, как герцог Ангулемский, если он будет продолжать.
— Нет, нет, — настаивал тот с добродушным видом; он так превосходно умел его на себя напускать, что никогда нельзя было понять, насмехается он или говорит серьезно, — ни малейшего, и это видно, черт побери! Мы все, исключая вас, помним вашего бедного покойного отца. Он был высок ростом — вы нет; у него был орлиный нос — у вас курносый; у него были черные глаза — у вас серые.
— Почему бы вам не сказать еще, что у него на щеке был шрам, а у меня нет?
— Потому что у вас не может быть того, что можно получить только на войне — вы же огня не видели.
— Как это я не видел огня? — воскликнул герцог де Гиз. — А в Ла-Рошели?
— Да, правда, я и забыл: огонь охватил ваш корабль!
— Герцог, — сказал г-н де Гиз, высвобождая свою руку из руки герцога Ангулемского, — мне кажется, что вы в плохом настроении и будет лучше, если мы расстанемся.
— Я в плохом настроении? Что я вам такого сказал? Надеюсь, ничего неприятного, а если и сказал, то ненамеренно. Люди бывают похожи на кого угодно, вы понимаете, это дело случая. Разве я, например, похож на моего отца Карла Девятого, рыжеволосого и краснолицего? Не стоит из-за этого огорчаться; любой человек на кого-нибудь похож. Вот хоть наш король, например: он похож на кузена королевы-матери, приехавшего вместе с ней во Францию, на герцога Браччано, вы его помните? Да, да, на Вирджинио Орсини. А Месье, в свою очередь, похож на маршала д’Анкра как две капли воды; а знаете, на кого вы сами похожи?
— Нет, и это меня ничуть не заботит.
— Правда, вы не могли его знать, ибо он был убит вашим дядей де Майенном за полгода до вашего рождения.
Так вот, вы до удивления похожи на господина графа де Сен-Мегрена. Разве вам об этом не говорили?
— Говорили, причем меня это сердило, предупреждаю вас, дорогой герцог.
— Потому что вам это говорили по злобе, а не так бесхитростно, как я. Разве я сердился недавно, когда господин де Бассомпьер сказал, что я делаю фальшивые деньги? Но вы в плохом настроении — вы, а не я, — поэтому я вас покидаю.
— И думаю, хорошо делаете, — сказал г-н де Гиз, направляясь к улице Сухого Дерева, ведущей на улицу Сент-Оноре.
Ускорив шаги, он поспешил удалиться от своего язвительного собеседника; тот постоял с минуту на месте с удивленным видом человека, не понимающего, откуда берется у других обидчивость, если сам он (ставя себе это в заслугу) ею не обладает.
Затем он направился к Новому мосту, надеясь найти в этом людном месте какую-нибудь другую жертву для маленькой пытки, начатой им над герцогом де Гизом.
Тем временем другие придворные мало-помалу скрылись, и король остался наедине с л’Анжели.
Тот, не желая упускать такой прекрасный случай разыграть свою шутовскую роль, встал перед королем (тот сидел, печально опустив голову и глядя в пол).
— Ох! — произнес л’Анжели и тяжело вздохнул.
Людовик поднял голову.
— Ну? — спросил он тоном человека, ждущего, что собеседник будет одного с ним мнения.
— Ну? — повторил л’Анжели таким же жалобным тоном.
— Что ты скажешь о господине де Бассомпьере?
— Скажу, — отвечал л’Анжели, придав своему тону оттенок насмешливого восхищения, — что он прелестно обращается со шпиговальной иглой: наверно, в молодости был поваром.
В мрачном взгляде Людовика XIII сверкнула молния.
— Л’Анжели, — сказал он, — я запрещаю тебе шутить над несчастным случаем с господином Барада.
Лицо л’Анжели приняло выражение глубочайшей скорби.
— Двор наденет траур? — спросил он.
— Еще одно слово, шут, — сказал король, встав и топнув ногой, — и я велю отхлестать тебя до крови.
И он стал в волнении ходить по комнате.
— Отлично, — сказал л’Анжели и, словно для того чтобы укрыть уязвимую часть тела, уселся в кресло, с которого встал король, — вот я и стал мальчиком для битья при господах пажах его величества: если они в чем-то провинятся, пороть будут меня. Ах, мой собрат Ножан был прав: тебя не напрасно называют Людовиком Справедливым, черт возьми!
— Все равно, — сказал Людовик XIII, не отвечая на насмешки шута, ибо не знал, что ответить, — я отомщу господину де Бассомпьеру.
— Тебе не рассказывали историю про некую змею, что хотела сгрызть напильник и сточила на этом все зубы?
— Что ты хочешь сказать своей притчей?
— Я хочу сказать, сын мой, что, хоть ты и король, ты так же не властен губить своих врагов, как спасать своих друзей. Это дело нашего министра Ришелье. Тебя при жизни называют Справедливым, но очень может статься, что его назовут Справедливым после смерти.
— Его?
— Ты не находишь, Людовик? А я нахожу. Вот, к примеру, он приходит к тебе и говорит: "Государь, в то время как я пекусь о вашей безопасности и о славе Франции, ваш брат плетет заговоры против меня, то есть против вас. Он собирался напроситься со всей свитой ко мне на обед в моем замке Флёри, и, пока мы находились бы за столом, господин де Шале должен был проткнуть меня шпагой; вот доказательства; впрочем, допросите вашего брата, он вам это скажет". Ты допрашиваешь брата. Он, как всегда, трусит, бросается тебе в ноги и рассказывает все. Ах, это преступление, государственная измена, и за нее по праву голова должна слететь на эшафоте. Однако, когда ты придешь к господину де Ришелье и скажешь: "Кардинал, я шпиговал. Барада не шпиговал. Я хотел заставить его шпиговать и, когда он отказался, брызнул ему в лицо померанцевой водой. Он безо всякого уважения к моему величеству вырвал флакон у меня из рук и разбил его об пол. Тогда я спросил, чего заслуживает паж, позволяющий себе так оскорблять своего короля. Маршал де Бассомпьер, как человек рассудительный, ответил: "Порки, государь". Тогда господин Барада выхватил шпагу и бросился на господина де Бассомпьера; тот из почтения ко мне не мог обнажить свою и ограничился тем, что, взяв из рук Жоржа шпиговальную иглу, всадил ее в руку господина Барада. Поэтому я требую, чтобы господин де Бассомпьер был посажен в Бастилию". Твой министр — я его поддерживаю против всех и даже против тебя, — твой министр, являющийся воплощенной справедливостью, ответит: "Но прав господин де Бассомпьер, а вовсе не ваш паж, которого я не пошлю в Бастилию, ибо посылаю туда лишь принцев и вельмож, а велю выпороть за то, что он вырвал флакон у вас из рук, и поставить к позорному столбу за то, что он обнажил шпагу перед вами, с кем я, ваш министр, самый значительный человек во Франции, не считая или даже считая вас, разговариваю понизив голос и склонив голову". Что ты ответишь своему министру?
— Я люблю Барада и ненавижу господина де Ришелье — вот всё, что я могу тебе сказать.
— Как хочешь, но это двойная ошибка. Ты ненавидишь великого человека, делающего все, чтобы возвеличить тебя, и любишь маленького бездельника, неспособного ни посоветовать тебе преступление, как де Люинь, ни совершить его, как Шале.
— Разве ты не слышал, что он требует открытого поединка? В истории нашей монархии есть такой пример: поединок Жарнака и Ла Шатеньре при короле Генрихе Втором.
— Прекрасно! Но ты забываешь, что с тех пор прошло семьдесят пять лет, что Жарнак и Ла Шатеньре были вельможами и могли обнажить оружие друг против друга, что Франция переживала еще рыцарские времена и что, наконец, не было эдиктов против дуэлей — эдиктов, из-за которых недавно слетела на Гревской площади голова Бутвиля, одного из Монморанси. Попроси господина де Ришелье разрешить господину Барада, королевскому пажу, поединок с господином де Бассомпьером, маршалом Франции, генерал-полковником швейцарцев, — и ты увидишь, как он тебя встретит!
— Но надо, чтобы бедный Барада получил какое-то удовлетворение, иначе он сделает то, что обещал.
— И что же он сделает?
— Останется у себя дома!
— И ты думаешь, что из-за этого земля перестанет вращаться, ведь господин Галилей утверждает, что она вращается? Нет, господин Барада — фат, неблагодарный, как другие, и он тебе надоест, как другие; что касается меня, то, будь я на твоем месте, я бы знал, что мне делать.
— И что бы ты сделал? В конце концов, л’Анжели, я должен признать, что ты даешь мне порой хорошие советы.
— Ты можешь даже сказать, что я единственный, кто тебе их дает.
— А кардинал, о ком ты только что говорил?
— Ты их у него не просишь, вот он и не может тебе их дать.
— Послушай, л’Анжели, так что бы сделал ты на моем месте?
— Ты так несчастлив в фаворитах, что я бы попробовал фаворитку.
Людовик XIII сделал жест, выражающий нечто среднее между целомудрием и отвращением.
— Клянусь тебе, сын мой, — сказал шут, — ты не знаешь, от чего отказываешься. Не стоит так категорически презирать женщин: в них есть и кое-что хорошее.
— Во всяком случае, не при дворе.
— Почему не при дворе?
— Они так распутны, что я их стыжусь.
— Но, сын мой, надеюсь, ты говоришь это не о госпоже де Шеврез?
— Как бы не так! Нашел кого назвать, госпожу де Шеврез!
— Вот тебе на! — сказал л’Анжели с самым наивным видом. — А я считал ее благонравной.
— Ну, так спроси у милорда Рича, спроси у Шатонёфа, спроси у старого турского архиепископа Бертрана де Шо, в чьих бумагах нашли разорванный ордер на двадцать пять ливров, подписанный госпожой де Шеврез.
— Да, правда, я вспоминаю даже, что в ту пору по настоянию королевы — она ни в чем не могла отказать своей фаворитке, так же как ты ни в чем не можешь отказать своему фавориту, — ты добивался для этого достойного архиепископа кардинальской шапки, и тебе в ней было отказано, так что бедняга всюду говорил: "Если бы король был в милости, я бы стал кардиналом; но три любовника, в том числе один архиепископ, не так много для женщины, имевшей к двадцати пяти годам только двух мужей".
— О, мы не дошли еще до конца списка! Спроси у князя де Марсильяка, спроси у ее верного рыцаря Оратио, спроси…
— Нет, — сказал л’Анжели, — признаюсь, я слишком ленив, чтобы обращаться за сведениями ко всем этим людям. Лучше я назову другую. Вот госпожа де Фаржи. Ты не можешь сказать, что она не весталка.
— Да ты издеваешься, шут! А де Креки? А Крамай? А хранитель печатей Марийяк? Разве ты не знаешь знаменитую латинскую рифмованную прозу:
Fargis, die mihi, sodes,
Quantas commisisti sordes Inter Primas, adque Laudas Quando…
Король резко остановился.
— Нет, честное слово, я ее не знал, — сказал л’Анжели, — спой же куплет до конца, это меня развлечет.
— Я не решусь, — ответил Людовик, краснея. — Там есть слова, какие целомудренные уста не могут повторить.
— Но это не мешает тебе знать текст наизусть, лицемер! Однако продолжим. Послушай, а что ты скажешь о принцессе де Конти? Она в несколько зрелом возрасте, но тем больше у нее опыта.
— После того что сказал о ней Бассомпьер, это было бы безрассудно! А после того что она сама говорит о себе, это было бы просто глупо!
— Я слышал, что сказал маршал, но не знаю, что сказала она сама. Расскажи, сын мой, ты так хорошо рассказываешь, во всяком случае, игривые анекдоты.
— Так вот, она сказала своему брату, который вечно играет и никогда не выигрывает: "Не играйте больше, брат мой". А он ответил: "Я перестану играть, сестра моя, когда вы перестанете заниматься любовью". — "Ах, злюка!" — сказала она в ответ. К тому же совесть не позволяет мне говорить о любви с замужней женщиной.
— Теперь я понимаю, почему ты не говоришь о любви с королевой. Ну, перейдем к девицам. Послушай, что ты скажешь о прелестной Изабелле де Лотрек? Уж ее-то ты в отсутствии благонравия не упрекнешь.
Людовик XIII покраснел до ушей.
— Ага! — воскликнул л’Анжели. — Кажется, я случайно попал в точку?
— Нет, я не могу ничего сказать против добродетели мадемуазель де Лотрек, — сказал Людовик XIII, и в голосе его явно слышалась легкая дрожь.
— А против ее красоты?
— Еще меньше.
— А против ее ума?
— Она очаровательна, но…
— Что "но"?
— Не знаю, должен ли я тебе это говорить, л’Анжели, но…
— Ну же, говори!
— … но мне показалось, что она не испытывает ко мне большой симпатии.
— Полно, сын мой, ты заблуждаешься на свой счет, и скромность тебя губит.
— Но если я тебя послушаюсь, что скажет королева?
— Если будет необходимо, чтобы кто-то держал мадемуазель де Лотрек за руки, королева этим займется, хотя бы ради того, чтобы увидеть, что прекратились все эти гадости с пажами и конюшими.
— Но Барада…
— Барада будет ревнив, как тигр, и попытается заколоть мадемуазель де Лотрек кинжалом. Но мы ее предупредим, и она наденет кирасу, как Жанна д’Арк. Во всяком случае, попробуй!
— Но если Барада, вместо того чтобы вернуться ко мне, совсем рассердится?
— Что ж, у тебя останется Сен-Симон.
— Славный малый, — сказал король, — и единственный, кто на охоте умеет чисто протрубить в рог.
— Ну вот видишь, ты уже наполовину утешился.
— Что я должен делать, л’Анжели?
— Следовать советам моим и господина де Ришелье; с таким шутом, как я, и таким министром, как он, ты через полгода станешь первым государем Европы.
— Ну что ж, — сказал Людовик со вздохом, — я попробую.
— И когда же? — спросил л’Анжели.
— С сегодняшнего вечера.
— Хорошо; будь мужчиной сегодня вечером — и завтра ты будешь королем.
V
ИСПОВЕДЬ
На следующий день, после того как король Людовик XIII по совету своего шута л’Анжели решился заставить г-на Барада ревновать, кардинал де Ришелье послал Кавуа в особняк Монморанси со следующим письмом:
"Господин герцог,
разрешите мне воспользоваться одной из привилегий моей должности министра, чтобы выразить большое желание Вас видеть и серьезно переговорить с Вами как с одним из выдающихся военачальников предстоящей кампании. Позвольте также высказать пожелание, чтобы встреча состоялась в моем доме на Королевской площади, рядом с Вашим особняком, и просить Вас прийти пешком, без свиты, дабы эта встреча, каковая, надеюсь, Вас полностью удовлетворит, осталась в тайне. Если девять часов утра будут для Вас подходящим временем, то меня оно тоже устроит.
Вы можете взять с собой, если сочтете это удобным и если он согласится оказать мне ту же честь, что и Вы, Вашего юного друга графа де Море, относительно коего у меня есть планы, достойные его имени и происхождения.
С самым искренним уважением остаюсь, господин герцог, Вашим преданнейшим слугой.
Арман, кардинал де Ришелье".
Через четверть часа, после того как ему было дано это поручение, Кавуа вернулся с ответом герцога. Господин де Монморанси встретил гонца наилучшим образом и просил передать кардиналу, что с благодарностью принимает приглашение и будет у него в назначенное время вместе с графом де Море.
Кардинал, по-видимому вполне удовлетворенный ответом, спросил у Кавуа, как поживает его жена, и, с удовольствием услышав, что, поскольку он постарался за последние восемь — десять дней задержать Кавуа в доме на Королевской площади всего на две ночи, в семействе царит безмятежная ясность, принялся за обычную работу.
Вечером кардинал послал отца Жозефа справиться о самочувствии раненого Латиля. Тот поправлялся, но еще не покидал своей комнаты.
На рассвете следующего дня кардинал, как обычно, спустился к себе в кабинет; но как ни рано он встал, его уже ждали: камердинер доложил, что десять минут назад явилась дама под вуалью, сказавшая, что назовет свое имя только кардиналу; она находится в передней.
В полиции кардинала было множество различных лиц; думая, что речь вдет о ком-то из его агентов или, вернее, агенток, он не стал строить догадки, кто это, и приказал своему камердинеру Гийемо впустить особу, желающую с ним переговорить, и проследить, чтобы никто не прерывал его беседы с незнакомкой; если же ему нужно будет о чем-то распорядиться, он позвонит.
Бросив взгляд на часы, он убедился, что до прихода г-на де Монморанси остается больше часа, и, решив, что часа ему хватит, чтобы выпроводить эту даму, не счел нужным отдать дополнительные распоряжения.
Через пять минут вошел Гийемо, сопровождая особу, о которой он докладывал.
Она остановилась возле двери. Кардинал сделал знак Гийемо; тот вышел, оставив его наедине с дамой.
Она сделала три-четыре шага от двери; кардинал с первого взгляда увидел, что она молода и принадлежит к высшему обществу.
Вуаль, закрывавшая ее лицо, не помешала ему заметить, что посетительница очень испугана, и он сказал:
— Сударыня, вы желали, чтобы я вас принял; я слушаю, говорите.
10*
И он сделал ей знак подойти ближе.
Дама сделала шаг, но, чувствуя, что ноги у нее подкашиваются, оперлась рукой о спинку стула; другую руку она прижала к груди, пытаясь унять сердцебиение.
Ее слегка откинутая назад голова свидетельствовала о спазме, вызванном то ли волнением, то ли страхом.
Кардинал был слишком хорошим наблюдателем, чтобы не понять этих признаков.
— Сударыня, — сказал он, улыбаясь, — судя по ужасу, какой я вам внушаю, можно подумать, что вы пришли ко мне от имени моих врагов. Но успокойтесь: даже если вы пришли от их имени, оказавшись у меня, вы здесь царица, словно голубка в ковчеге.
— Может быть, я и в самом деле пришла из лагеря ваших врагов, монсеньер, но я спаслась оттуда бегством, чтобы просить поддержки одновременно у священника и министра: священника умоляю выслушать мою исповедь, к министру взываю о защите.
И незнакомка молитвенно сложила руки.
— Мне не составит труда выслушать вашу исповедь, даже если вы останетесь для меня незнакомкой, но мне трудно будет защитить вас, не зная, кто вы.
— С той минуты, как вы, монсеньер, пообещали выслушать мою исповедь, у меня нет никакой причины скрывать свое имя, ибо исповедь наложит на ваши уста священную печать.
— Что ж, — сказал кардинал, садясь, — подойдите сюда, дочь моя, и прошу вас испытывать ко мне двойное доверие, ибо вы обращаетесь ко мне и как к священнику и как к министру.
Молодая женщина приблизилась к кардиналу, опустилась на колени и подняла вуаль.
Кардинал следил за ней взглядом с любопытством, ибо понимал, что имеет дело не с обычной исповедующейся; но когда эта исповедующаяся подняла вуаль, он не смог удержаться от удивленного возгласа:
— Изабелла де Лотрек!
— Да, это я, монсеньер. Могу ли я надеяться, что это ничего не изменит в намерениях вашего высокопреосвященства?
— Можете, дитя мое, — отвечал кардинал, горячо сжав ее руку, — можете! Вы дочь одного из лучших слуг Франции, и поэтому я уважаю и люблю его; с тех пор как вы при французском дворе, где я вначале встретил вас с некоторым недоверием, должен сказать, что могу лишь одобрить ваше поведение.
— Благодарю, монсеньер, вы возвращаете мне веру. Я надеялась, что ваша доброта избавит меня от двойной опасности, которой я подвергаюсь.
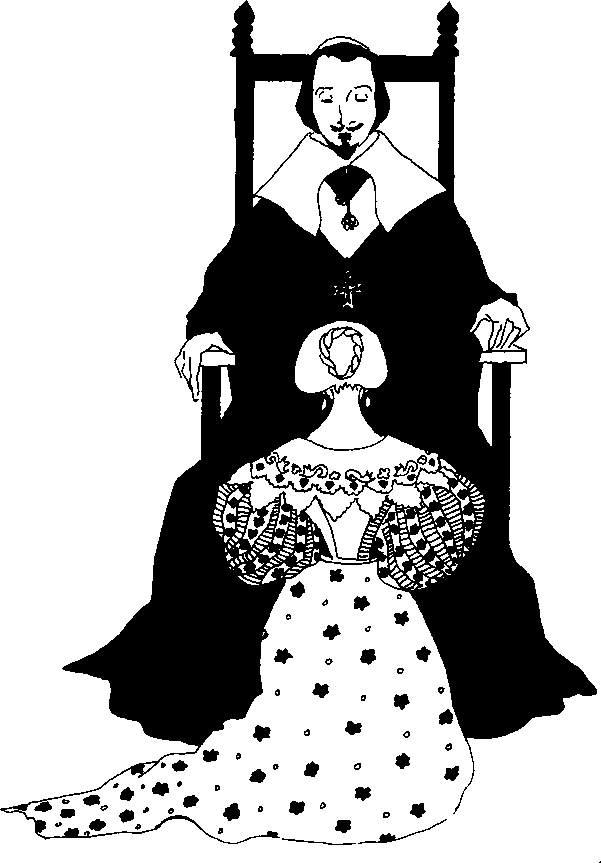
— Вы хотите меня о чем-то попросить или ждете от меня совета, дитя мое, но не оставайтесь на коленях, садитесь рядом со мной.
. — Нет, монсеньер, позвольте мне остаться так, прошу вас. Я хочу, чтобы те признания, что мне предстоит вам сделать, носили характер исповеди, иначе они станут почти доносом, и я не смогу их произнести.
— Поступайте как считаете нужным, дитя мое, — сказал кардинал. — Боже меня сохрани задеть чувствительность вашей совести, даже если эта чувствительность преувеличена.
— Монсеньер, когда мой отец отбывал в Италию с господином герцогом Неверским, а меня оставляли во Франции, были выставлены два довода этому: во-первых, я могу устать от долгого путешествия и, во-вторых, буду подвергаться опасности в городе, который могут осадить и взять штурмом. К тому же мне предложили место у ее величества, способное удовлетворить желания более честолюбивой девушки, чем я.
— Продолжайте; но скажите, не увидели ли вы вскоре какой-то угрозы для себя в предложенной вам должности?
— Да, монсеньер. Мне показалось, что хотят спекулировать на моей молодости и преданности моей августейшей повелительнице. Король — то ли по своей инициативе, то ли подстрекаемый чьими-то советами, похоже, стал оказывать мне внимание, какого я, разумеется, не заслуживала. Какое-то время почтение мешало мне верно оценить ухаживания его величества, тем более что из-за его робости они не выходили за пределы галантных любезностей; но в один прекрасный день мне показалось, что я должна рассказать королеве о нескольких словах, переданных мне от имени короля. Однако, к моему большому удивлению, королева рассмеялась и сказала: "Это было бы великим счастьем, милое дитя, если бы король смог влюбиться в вас". Я размышляла всю ночь над этими словами, и мне показалось, что мое пребывание при дворе и назначение в штат королевы имело другие цели, чем те, о которых говорили. Назавтра король возобновил свои ухаживания. За неделю он трижды появлялся в кружке королевы, чего раньше не бывало. Но при первом же слове, сказанном мне королем, я сделала реверанс и, сославшись на нездоровье, попросила у королевы позволения удалиться. Причина моего ухода была столь явной, что после этого вечера король не только не разговаривал больше со мной, но даже не приближался ко мне. Что касается королевы Анны, то она, похоже, была весьма недовольна моей щепетильностью; когда я у нее спросила о причинах ее охлаждения ко мне, она ответила: "Я ничего не имею против вас, если не считать сожаления, что вы могли оказать нам услугу и не оказали ее". Королева-мать была со мной еще холоднее.
— Но вы поняли, — спросил кардинал, — какого рода услугу ожидала от вас королева?
— Я смутно догадывалась об этом, монсеньер, скорее по тому, что краска невольно заливала мне лицо, нежели по откровениям моего ума. Однако, поскольку королева, хотя и без прежней благожелательности, была добра ко мне, я, не жалуясь, осталась при ней и оказывала ей все услуги, какие могла. Но вчера, монсеньер, к великому удивлению моему и обеих королев, его величество, уже более двух недель не бывавший в кружке дам, явился, никого не предупредив о своем приходе, и, вопреки обыкновению, с улыбкой на лице, поклонился супруге, поцеловал руку матери и подошел ко мне. С позволения королевы я сидела около нее и встала, увидев короля; но он предложил мне сесть и, играя с карлицей Гретхен — ее прислала своей племяннице инфанта Клара Эухения, — заговорил со мной, осведомился о моем здоровье, сообщил, что на ближайшую охоту приглашает обеих королев, и спросил, буду ли я их сопровождать. Внимание, оказываемое королем женщине, было чем-то настолько необычным, что я почувствовала, как все взгляды устремились на меня и лицо мое заливает краска гораздо сильнее, чем раньше. Не знаю, что отвечала я его величеству; вернее, я не отвечала, а бормотала какие-то бессвязные слова. Я хотела встать. Король силой удержал меня. Я, ослабев, упала на стул. Чтобы скрыть свое смятение, я взяла на руки маленькую Гретхен; но она, увидев мое лицо, склоненное к полу, стала громко спрашивать: "А почему вы плачете?" И в самом деле, невольные слезы тихо бежали из моих глаз и струились по щекам. Не знаю, какое значение придал им король, но он пожал мне руку, достал из своей бонбоньерки конфеты и дал их карлице; та, рассмеявшись недобрым смехом, выскользнула из моих рук и отправилась пошептаться с королевой. Оставшись одна, я не решалась ни подняться, ни остаться на месте. Такое состояние не могло длиться долго. Я почувствовала, как кровь шумит у меня в ушах и переполняет виски; мне казалось, что мебель движется, а стены шатаются; чувствуя, что силы меня оставляют и жизнь уходит, я потеряла сознание.
Придя в себя, я увидела, что лежу на своей постели и возле меня сидит госпожа де Фаржи.
— Госпожа де Фаржи, — повторил кардинал с улыбкой.
— Да, монсеньер.
— Продолжайте, дитя мое.
— Я бы хотела продолжать; но то, что она мне сказала, так странно, ее поздравления, обращенные ко мне, столь унизительны, ее увещания столь необычны, что я не знаю, как пересказать их вашему высокопреосвященству.
— Ну да, — сказал кардинал, — она сказала вам, что король в вас влюблен, не так ли? Она поздравила вас с тем, что вы смогли сделать с его величеством чудо, на какое оказалась неспособна сама королева, и уговаривала вас всячески поддержать эту любовь, чтобы, заняв место фаворита, дующегося на короля, вы смогли благодаря своей преданности послужить политическим интересам моих врагов.
— Ваше имя не упоминалось, монсеньер.
— Да, для первого раза это было бы слишком; но я угадал то, что она вам сказала?
— Слово в слово, монсеньер!
— И что вы ответили?
— Ничего. Я окончательно поняла то, что смутно предчувствовала при первых ухаживаниях короля: из меня хотели сделать инструмент политической борьбы. Вскоре, поскольку я все еще плакала и дрожала, пришла королева; она поцеловала меня, но этот поцелуй, вместо того чтобы утешить меня, заставил сжаться мое сердце и обдал меня холодом. Мне казалось, что какая-то злая тайна скрывается в этом поцелуе, каким супруга, а тем более королева, одаривает ту, которой угрожает любовь ее мужа, — одаривает, чтобы та поощрила эту любовь! Затем, отозвав госпожу де Фаржи в сторону, она о чем-то тихонько поговорила с ней и затем сказала мне: "Покойной ночи, милая Изабелла; подумайте обо всем, что вам скажет Фаржи, и особенно о том, что готова сделать наша признательность в обмен на вашу преданность". Она удалилась к себе в спальню; госпожа де Фаржи осталась. По ее словам, мне осталось одно — примириться с тем, что произошло, то есть уступить любви короля. Она говорила долго — а я ей не отвечала, — пытаясь втолковать мне, что такое любовь короля и сколь малым эта любовь будет довольствоваться. Очевидно, она решила, что убедила меня, ибо, тоже подарив мне поцелуй, удалилась. Но едва за ней закрылась дверь, как мое решение было принято: отправиться к вам, монсеньер, броситься к вашим ногам и все вам рассказать.
— Но то, что вы мне поведали, дитя мое, — сказал кардинал, — всего лишь рассказ о ваших страхах; эти страхи не грех, не преступление, а наоборот, доказательство вашей невиновности и искренности; я не вижу, почему вы должны говорить об этом на коленях и придавать своему рассказу форму исповеди.
— Дело в том, что я не все сказала вам, монсеньер. Это безразличие или скорее страх, внушаемый мне королем, я испытываю не ко всем, и я колебалась, идти ли к вам, не из-за необходимости сказать вашему высокопреосвященству: "Король меня любит", а из-за необходимости сказать: "Монсеньер, боюсь, что я люблю другого!"
— А разве любить этого другого — преступление?
— Нет, монсеньер, но опасность.
— Опасность? Почему? Ваш возраст — возраст любви, и миссия женщины, определенная природой и обществом, — любить и быть любимой.
— Но не тогда, когда тот, кого, как ей кажется, она любит, выше ее по рангу и происхождению.
— Ваше происхождение, дитя мое, более чем почтенно, и, хотя ваше имя не блещет так же ярко, как сто лет назад, оно еще может сравниться с лучшими именами Франции.
— Монсеньер, монсеньер, не поддерживайте во мне безумную, а главное — опасную надежду.
— Так вы думаете, что тот, кого вы любите, вас не любит?
— Наоборот, монсеньер, я думаю, что он меня любит; это меня и ужасает.
— Вы заметили эту любовь?
— Он мне в ней признался.
— А теперь, когда исповедь закончена, в чем состоит просьба, о которой вы мне говорили?
— Вот моя просьба, монсеньер: эта любовь короля, сколь бы нетребовательна она ни была, станет пятном с того часа, как я ее допущу, и даже с того часа, как я ее отвергну, ибо есть люди, заинтересованные в том, чтобы в эту любовь поверили; а я не хочу хоть на миг быть заподозренной тем, кто меня любит, и кого, как мне кажется, я люблю. Поэтому я прошу, монсеньер, отослать меня к отцу: какова бы ни была опасность там, она будет меньше той, что ждет меня здесь.
— Если бы я имел дело с сердцем менее чистым и менее благородным, чем ваше, я тоже присоединился бы к тем, кто, не задумываясь, хочет опорочить вашу чистоту и разбить ваше сердце, я тоже сказал бы вам: "Позвольте любить себя этому королю, который никогда ничего на свете не любил и, может быть, благодаря вам научится, наконец, любить". Я сказал бы вам: "Притворитесь сообщницей этих женщин, что трудятся ради унижения Франции, и будьте моей союзницей, ибо я желаю ее величия". Но вы не из тех, кому делают такого рода предложения. Вы хотите покинуть Францию — вы ее покинете. Вы хотите вернуться к своему отцу — я дам вам эту возможность.
— О, благодарю! — воскликнула девушка, схватив руку кардинала и целуя ее, прежде чем он успел этому воспротивиться.
— Но дорога может быть опасной.
— По-настоящему бояться, монсеньер, я должна при этом дворе, где мне угрожают таинственные и неведомые опасности, где я постоянно чувствую, как дрожит почва у меня под ногами, где невинность моего сердца и чистота моих мыслей — лишний повод погибнуть. Удалите меня от этих королев-заговорщиц; от этих принцев, изображающих любовь, не испытывая ее; от этих придворных, занятых интригами; от этих женщин, советующих невозможное как нечто вполне простое и естественное, от этих августейших уст, обещающих за стыд вознаграждение, которое подобает чести и верности, — удалите меня отсюда, монсеньер, и, пока Господь даст мне быть честной и чистой, я буду вам благодарна.
— Я ни в чем не могу отказать той, что просит меня по такому поводу и столь настойчиво. Встаньте; через час все будет если не готово, то, во всяком случае, почти готово для вашего отъезда.
— Вы не отпустите мне грехи, монсеньер?
— Тем, у кого нет грехов, отпущение не нужно.
— Тогда благословите меня; может быть, ваше благословение прогонит смуту из моего сердца.
— Дитя мое, руки, что простер бы над вами я, занятый мирскими делами, были бы менее чисты, чем ваше сердце, какая бы смута его ни посетила. Благословить вас надлежит Богу, а не мне, и я горячо молю, чтобы он заместил своей высшей добротой мою недостаточную любовь.
В это мгновение пробило девять часов. Ришелье подошел к бюро и позвонил.
Появился Гийемо.
— Лица, которых я ожидаю, прибыли? — спросил кардинал.
— Герцог только что вошел в картинную галерею.
— Один или с кем-то?
— С молодым человеком.
— Мадемуазель, — сказал кардинал, — прежде чем дать вам ответ — не скажу окончательный, но подробный, — мне необходимо переговорить с двумя только что прибывшими лицами. Гийемо, проводите мадемуазель де Лотрек к моей племяннице; через полчаса вы зайдете узнать, освободился ли я.
И, почтительно поклонившись мадемуазель де Лотрек, последовавшей за камердинером, он пошел отворить дверь картинной галереи, где прогуливались — правда, всего несколько минут — герцог де Монморанси и граф де Море.
VI
ГЛАВА, В КОТОРОЙ КАРДИНАЛ СОЧИНЯЕТ КОМЕДИЮ БЕЗ ПОМОЩИ СВОИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СОТРУДНИКОВ
Эти вельможи ждали всего несколько минут; но срочность и количество дел, обременявших кардинала, были настолько хорошо известны, что, если бы ожидание длилось дольше, прибывшие не выразили бы ни малейшего недовольства. Еще не обладая высшей властью, которой он достиг в знаменитый день, получивший в истории наименование "День одураченных", он уже считался если не фактически, то, во всяком случае, юридически первым министром; однако важно отметить, что в вопросах войны и мира он располагал лишь своей инициативой, своим голосом и превосходством своего гения; против него неизменно были ненависть обеих королев и подобие Королевского совета, собиравшегося в Люксембургском дворце под председательством кардинала де Берюля. Король вмешивался в принятые решения, одобрял или не одобрял их. На это одобрение или неодобрение основное влияние оказывали то Ришелье, то королева-мать, смотря по тому, в каком настроении находился Людовик XIII.
Важным вопросом, который предстояло решить через два-три дня, была не война в Италии — это было уже решено, — а выбор того, кому будет доверено командование этой армией.
Вот об этом важном вопросе кардинал собирался переговорить с двумя вельможами — желательными для него участниками этой войны, — когда писал накануне герцогу де Монморанси, назначая встречу ему и графу де Море; однако его встреча с Изабеллой де Лотрек и интерес, внушенный ему девушкой, заставил его кое в чем изменить намерения относительно графа де Море.
Господин де Монморанси впервые увиделся с Ришелье со времени казни своего кузена де Бутвиля; но мы видели, что губернатор Лангедока сделал первый шаг навстречу кардиналу на вечере у принцессы Марии Гонзага, подойдя с поклоном к г-же де Комбале, не преминувшей рассказать дяде о столь важном факте.
Кардинал бы слишком хорошим политиком, чтобы не понять, что этот поклон племяннице был в действительности адресован дяде и что герцог предлагает ему мир.
Что касается графа де Море, то дело обстояло иначе. Не только искренность молодого человека, его чисто французский характер среди стольких характеров испанских и итальянских, его хорошо известная храбрость, много раз доказанная им в свои двадцать два года, вызывали живой интерес у кардинала. Он очень хотел не только беречь его, но покровительствовать ему, помочь его счастью, ибо это был единственный сын Генриха IV, до сих пор не принявший открытого участия в заговорах против него, кардинала. Граф де Море, свободный, уважаемый, занимающий командный пост в армии, слуга Франции, политику которой представлял герцог де Ришелье, был противовесом двум Вандомам, посаженным в тюрьму за эти заговоры.
По мнению кардинала, пора было остановить юного принца на той наклонной плоскости, где он оказался. Попав в гущу интриг Анны Австрийской и королевы-матери, готовый стать любовником г-жи де Фаржи или возобновить отношения с г-жой де Шеврез, он вскоре оказался бы опутан столькими узами, что, как бы ни хотел, не смог бы от них избавиться.
Кардинал протянул г-ну де Монморанси руку (тот ответил искренним пожатием), но не позволил себе такой непринужденности по отношению к графу де Море — человеку королевской крови, поклонившись примерно так же, как если бы перед ним был Месье.
После обмена приветствиями кардинал сказал:
— Господин герцог, когда речь шла о войне против Ла-Рошели — морской войне, которую я хотел вести без помех, я купил ваше звание генерал-адмирала, заплатив названную вами цену; сегодня речь идет о том, чтобы не продать, а дать вам больше, чем я у вас взял.
— Ваше высокопреосвященство полагает, — спросил г-н Монморанси с самой приветливой улыбкой, — что, когда речь идет о службе ему и одновременно благу государства, необходимо начать с обещаний, чтобы заручиться моей преданностью?
— Нет, господин герцог, я знаю, что никто столь щедро, как вы, не проливал свою драгоценную кровь. И, поскольку мне известны ваше мужество и ваша верность, я хочу откровенно объясниться с вами.
Монморанси поклонился.
— Когда скончался ваш отец, вы унаследовали его состояние и его титулы; но было одно звание, для наследования которого вы оказались слишком молоды, — звание коннетабля. Вы знаете, что меч с геральдическими лилиями не вручают ребенку. К тому же нашлась сильная рука, готовая ее принять и достойно нести, — рука сеньора де Ледигьера. Его сделали коннетаблем. Лишь в восьмидесятипятилетнем возрасте он выпустил этот меч из рук. С того времени маршал де Креки, его зять, стремится занять это место. Но меч коннетабля — это не прялка, передаваемая женщинами друг другу. У господина де Креки был в этом году случай ее завоевать: надо было обеспечить успех экспедиции герцога Неверского, а он провалил ее, выступив на стороне королевы-матери, против Франции и против меня. Тем самым он подписал отказ от поста коннетабля; пока я жив, он им не станет!
Из груди герцога де Монморанси вырвался шумный радостный вздох.
Это свидетельство удовлетворения не ускользнуло от кардинала. Он продолжал:
— Мое былое доверие к маршалу де Креки я переношу на вас, герцог. Родство с королевой-матерью не повлияет на вашу любовь к Франции, ибо — поймите хорошенько, — ибо эта итальянская война в зависимости от ее успешного или неудачного результата станет величием или унижением Франции.
Заметив, что граф де Море внимательно его слушает, он обратился к нему:
— Хорошо, что и вы, дорогой принц, с вниманием относитесь к моим словам, ведь никто не может больше вас любить Францию, за которую ваш августейший отец отдал все, даже свою жизнь.
И, видя, что герцог де Монморанси с нетерпением ждет окончания его речи, сказал:
— Я закончу в нескольких словах, вложив в них ту же откровенность, что была во всем нашем разговоре. Если, как я надеюсь, мне будет доверено ведение этой войны, вы, дорогой герцог, получите верховное командование армией и, поскольку осада Казаля будет снята и вам первому предстоит вступить в крепость, вы найдете за ее воротами меч коннетабля; таким образом он третий раз вернется в вашу семью. Итак, подумайте, господин герцог. Если вы ждете большего от кого-то другого, примкните к нему; я не рассержусь, так как предоставляю вам полную свободу.
— Вашу руку, монсеньер, — ответил де Монморанси.
Кардинал протянул ему руку.
— Во имя Франции, монсеньер, — продолжал де Монморанси, — примите мою преданность вам. Я обещаю во всем повиноваться вашему высокопреосвященству, за исключением случаев, когда будет задета честь моего имени.
— Хоть я и не принц, господин герцог, — отвечал Ришелье с чрезвычайным достоинством, — но я дворянин. Поверьте, что я никогда не прикажу одному из Монморанси ничего такого, что заставило бы его краснеть.
— И когда нужно быть готовым, монсеньер?
— Как можно раньше, господин герцог. Я рассчитываю — опять-таки предполагая, что мне будет доверено ведение войны, — открыть боевые действия в начале будущего месяца.
— Значит, нельзя терять время, монсеньер. Сегодня вечером я уезжаю в свое губернаторство и десятого января буду в Лионе с сотней дворян и пятьюстами всадников.
— Но, — сказал кардинал, — надо считаться с тем, что руководство военными действиями будет поручено кому-нибудь другому; могу ли я спросить, что станете вы делать в этом случае?
— Никто, кроме вашего высокопреосвященства, не кажется мне достойным этого замысла; я буду повиноваться лишь его величеству королю Людовику Тринадцатому и вам.
— Отправляйтесь, герцог. Вы знаете — я сказал уже об этом, — где вас ждет меч коннетабля.
— Должен ли я взять с собой моего молодого друга графа де Море?
— Нет, господин герцог; у меня на господина графа де Море особые виды, я хочу поручить ему важную миссию. Если он откажется, он волен будет к вам присоединиться. Только оставьте ему слугу, на кого он мог бы рассчитывать как на самого себя: поручение, что я ему дам, потребует мужества от него и преданности от тех, кто будет его сопровождать.
Герцог и граф де Море вполголоса обменялись несколькими словами; кардинал услышал, как граф де Море сказал герцогу:
— Оставьте мне Галюара.
Затем герцог, чье сердце переполняла радость, взял руку кардинала, с признательностью ее пожал и поспешно вышел.
Оставшись наедине с графом де Море, кардинал подошел к нему и, глядя на него с почтительной нежностью, сказал:
— Господин граф, не удивляйтесь вниманию, какое я позволяю себе проявлять к вам — мне дают на это право мое положение и мой возраст: я вдвое старше вас, — но из всех детей короля Генриха вы единственный можете считаться его истинным портретом, а тем, кто любил отца, позволительно любить сына.
Молодой принц впервые увиделся с Ришелье, впервые услышал звук его голоса и, настроенный против него тем, что ему приходилось слышать, удивлялся, что это суровое лицо может улыбаться и этот повелительный голос может быть таким мягким.
— Монсеньер, — ответил он, улыбаясь, но все же не без некоторого волнения в голосе, — ваше высокопреосвященство весьма добры, что занялись молодым сумасбродом, до сих пор думавшим лишь о том, чтобы развлекаться как только можно, а если бы его спросили, на что он годен, не знал бы что ответить.
— Истинный сын Генриха Четвертого годен на все, сударь, — возразил кардинал, — ибо вместе с кровью передаются отвага и ум, вот почему я не хочу оставить вас на ложной дороге, во власти опасностей, каким вы себя подвергаете.
— Я, монсеньер? — воскликнул несколько-удивленный молодой человек. — На какой же дурной путь я ступил и что за опасности мне угрожают?
— Угодно вам уделить мне несколько минут вашего внимания, господин граф, и в течение этих нескольких минут выслушать меня серьезно?
— Это долг, предписываемый моим возрастом и моим именем, монсеньер, даже если бы вы не были министром и гениальным человеком. Итак, я вас слушаю не только со всей серьезностью, но и с почтением.
— Вы прибыли в Париж в последних числах ноября, по-моему, двадцать восьмого.
— Да, двадцать восьмого, монсеньер.
— У вас были при себе письма из Миланского герцогства и из Пьемонта для королевы Марии Медичи, для королевы Анны Австрийской и для Месье.
Граф удивленно посмотрел на кардинала, мгновение колебался с ответом, но в конце концов его правдивость и влияние гениального человека победили.
— Да, монсеньер, — сказал он.
— Но, поскольку обе королевы и Месье выехали навстречу королю, вам пришлось провести неделю в Париже. Чтобы не сидеть эту неделю без дела, вы стали ухаживать за сестрой Марион Делорм, госпожой де ла Монтань. Молодому, красивому, богатому, сыну короля, вам не пришлось томиться: на следующий день, после того как вас представили ей, вы стали ее любовником.
— И это вы называете быть на ложном пути и подвергаться опасностям, от каких вы хотели меня уберечь? — с улыбкой спросил граф де Море, удивляясь, что министр, да еще в звании кардинала, снисходит до таких подробностей.
— Нет, сударь; сейчас мы до этого дойдем. Нет, я вовсе не называю ложным путем то, что вы стали любовником сестры куртизанки, хотя, как вы могли заметить, эта любовь оказалась небезопасной: полоумный Пизани решил, что вы любовник госпожи де Можирон, и хотел подослать к вам убийцу; по счастью, ему попался сбир более честный, чем он сам, и этот человек, верный памяти великого короля, отказался поднять руку на его сына. Правда, храбрец оказался жертвой своей честности; вы сами видели его распростертым на столе, умирающим и исповедующимся капуцину.
— Могу я вас спросить, монсеньер, — сказал граф де Море, надеясь поставить Ришелье в затруднение, — когда и где был я свидетелем этого прискорбного зрелища?
— Пятого декабря около шести часов вечера, в зале гостиницы "Крашеная борода", когда вы, переодетый баскским дворянином, расстались с госпожой де Фаржи — она была переодета каталонкой, — явившейся сообщить вам, что королева Анна Австрийская, королева Мария Медичи и Месье ожидают вас в Лувре между одиннадцатью часами и полуночью.
— Ах, честное слово, монсеньер, на этот раз я сдаюсь и признаю, что у вас отличная полиция.
— И что же, граф, вы думаете, будто я собирал столь точные сведения о вас ради себя, боясь того зла, какое вы можете мне причинить?
— Не знаю, но, возможно, у вашего высокопреосвященства был здесь все же какой-то интерес.
— И большой интерес, граф. Я хотел спасти сына Генриха Четвертого от зла, какое он может причинить самому себе.
— Каким образом, монсеньер?
— То, что королева Мария Медичи, одновременно итальянка и австриячка, королева Анна Австрийская, одновременно австриячка и испанка, плетут заговоры против Франции, это преступление, но преступление понятное: семейные связи слишком часто берут верх над долгом перед государством. Но тому, что граф де Море, то есть сын француженки и самого французского короля, какой когда-либо существовал, станет участником заговора двух безрассудных и вероломных королев в пользу Испании и Австрии, я помешаю — сначала убеждением, потом просьбой, а если понадобится — силой.
— Но кто вам сказал, что я участвую в заговоре, монсеньер?
— Еще не участвуете, граф, но рыцарственный порыв вот-вот может вовлечь вас в заговор. Вот почему я хотел сказать вам: сын Генриха Четвертого, ваш отец всю жизнь стремился к ослаблению Испании и Австрии, так не примыкайте к тем, кто хочет их возвышения за счет интересов Франции; сын Генриха Четвертого, Австрия и Испания убили вашего отца, так не совершайте кощунства, вступая в союз с его убийцами!
— Но почему вы, ваше высокопреосвященство, не скажете Месье то, что говорите мне?
— Потому что Месье тут ни при чем: он сын Кончини, а не Генриха Четвертого.
— Господин кардинал, подумайте над тем, что вы мне говорите.
— Да, я знаю, что подвергнусь гневу королевы-матери, гневу Месье, гневу самого короля, если граф де Море покинет того, кто хочет ему блага, и придет к тем, кто хочет ему зла; но граф де Море будет признателен за большое внимание, что я к нему проявляю, — внимание, имеющее источником большую любовь и большое восхищение королем, его отцом, — и граф де Море сохранит в тайне то, что я сказал ему сегодня для его блага и блага Франции.
— Вашему высокопреосвященству не нужно мое слово, не так ли?
— У сына Генриха Четвертого слова не спрашивают.
— Однако ваше высокопреосвященство пригласили меня не только для того, чтобы дать советы, но и, как вы сами сказали, чтобы доверить мне некое поручение.
— Да, граф, поручение, удаляющее вас от тех опасностей, что я предвижу для вас.
— Удаляющее меня от опасностей?
Ришелье сделал утвердительный знак.
— И следовательно, от Парижа?
— Речь идет о том, чтобы вернуться в Италию.
— Гм! — произнес граф де Море.
— У вас есть причины не возвращаться в Италию?
— Нет, но у меня есть причины остаться в Париже.
— Итак, вы отказываетесь, господин граф?
— Нет, не отказываюсь, особенно если поездку можно отложить.
— Выехать необходимо сегодня вечером, в крайнем случае завтра.
— Это невозможно, монсеньер, — сказал граф де Море, покачав головой.
— Как! — воскликнул кардинал. — Вы допустите, чтобы война началась без вашего участия?
— Нет, но я покину Париж вместе со всеми, и как можно позже.
— Вы это твердо решили, господин граф?
— Твердо, монсеньер.
— Я сожалею о вашем нежелании ехать. Именно вам, вашей храбрости, вашей верности, вашей учтивости хотел я доверить дочь человека, которого чрезвычайно уважаю. Что ж, граф, я поищу кого-нибудь, кто согласится вместо вас сопровождать мадемуазель Изабеллу де Лотрек.
— Изабеллу де Лотрек! — воскликнул граф де Море. — Так вы хотите отправить Изабеллу де Лотрек к ее отцу?
— Да, ее. Что в этом имени вас удивляет?
— Нет, ничего, простите, монсеньер.
— Я подумаю и найду ей другого защитника.
— Нет, нет, монсеньер, не надо никого искать; проводник и защитник мадемуазель де Лотрек, тот, кто даст себя убить за нее, найден, вот он: это я!
— Итак, — сказал кардинал, — я могу больше ни о чем не беспокоиться?
— Ни о чем, монсеньер.
— Вы согласны?
— Согласен.
— В таком случае вот мои последние указания.
— Я слушаю.
— Вы доставите мадемуазель де Лотрек, которая во все время пути будет для вас священна, как сестра…
— Клянусь в этом!
— … к ее отцу в Мантую; затем вы присоединитесь к армии и получите командный пост под началом господина де Монморанси.
— Да, монсеньер.
— А если случится — вы понимаете, человек предусмотрительный должен предполагать любые возможности, — если случится, что вы и мадемуазель друг друга полюбите…
У графа де Море вырвался непроизвольный жест.
— … вы понимаете, это лишь предположение, ибо вы никогда друг друга не видели и совсем друг друга не знаете. Так вот, если это произойдет, я не смогу ничего сделать для вас, монсеньер, — вы сын короля, — но я могу многое сделать для мадемуазель де Лотрек и для ее отца.
— Вы можете сделать меня счастливейшим из людей, монсеньер. Я люблю мадемуазель де Лотрек.
— Ах, в самом деле? Видите, как все сходится. А не она ли, случайно, в тот вечер, когда вы были в Лувре, приняла вас на лестнице из рук госпожи де Шеврез, переодетой пажом, и провела темным коридором в спальню королевы? Признайтесь, что если так, то этот случай похож на чудо!
— Монсеньер, — сказал граф де Море, изумленно глядя на кардинала, — я знаю одно: мое восхищение вами равняется моей признательности; но…
В голосе графа слышалось беспокойство.
— Но что? — спросил кардинал.
— У меня остается одно сомнение.
— Какое?
— Я люблю мадемуазель де Лотрек, но не знаю, любит ли мадемуазель де Лотрек меня и, несмотря на мою преданность, примет ли она мое покровительство.
— То, о чем вы говорите, господин граф, меня уже не касается, это целиком ваше дело. Вы должны получить у нее желаемое вами согласие.
— Но где? Как я ее увижу? У меня нет никакой возможности ее встретить, а если, как говорит ваше высокопреосвященство, отъезд должен состояться сегодня вечером или, в крайнем случае, завтра, не знаю, как я смогу ее увидеть.
— Вы правы, господин граф, ваша встреча настоятельно необходима. Подумайте над этим, я тоже подумаю. Подождите немного в этом кабинете, мне надо кое о чем распорядиться.
Граф де Море поклонился, с восхищенным удивлением следя глазами за этим человеком, настолько превосходящим других, из своего кабинета управляющим Европой и находящим время среди окружающих его интриг и грозящих ему опасностей заниматься личными интересами людей и входить в мельчайшие подробности их жизни.
Дверь, через которую вышел кардинал, была закрыта; граф де Море машинально устремил на нее взгляд и не успел еще его отвести, как дверь отворилась и в ее проеме он увидел не кардинала, а мадемуазель де Лотрек.
Влюбленные, словно пораженные одновременно электрическим разрядом, удивленно вскрикнули. Затем граф де Море с быстротой мысли устремился к Изабелле, упал к ее ногам и поцеловал ей руку с пылкостью, доказавшей девушке, что она обрела, может быть, опасного покровителя, но преданного защитника.
Тем временем кардинал, достигший своей цели — удалить сына Генриха IV от двора и сделать его своим сторонником, — радовался тому, что нашел развязку героической комедии без участия своих обычных литературных сотрудников — господ Демаре, Ротру, л’Этуаля и Мере.
Корнель, как мы помним, не имел еще чести быть представленным кардиналу.
VII
СОВЕТ
Большим событием, с тревогой ожидаемого всеми, исключая Ришелье (он был уверен в короле, насколько можно было быть уверенным в Людовике XIII), был совет, который должен был заседать у королевы-матери в Люксембургском дворце, построенном ею в годы регентства по образцу флорентийских дворцов; для его картинной галереи Рубенс десять лет назад выполнил великолепные полотна, изображающие наиболее значительные события жизни Марии Медичи и составляющие сегодня одно из главных украшений галереи Лувра.
Совет заседал вечером.
Он представлял собой собственное правительство Марии Медичи, состоящее из лиц, целиком ей преданных; председательствовал в нем кардинал де Берюль, членами были Вотье, маршал де Марийяк (его сделали маршалом, хотя он ни разу не побывал под огнем; кардинал в своих мемуарах неизменно называет его Марийяк Шпага за то, что, поссорившись во время игры в мяч с неким Кабошем и встретив его затем на дороге, он убил его, не дав времени защититься) и, наконец, его старший брат Марийяк, хранитель печатей, один из любовников г-жи де Фаржи. К этому совету в особо важных случаях добавляли своего рода почетных советников из числа наиболее известных военачальников и наиболее знатных сеньоров того времени; так случилось, что на совет, куда мы собираемся ввести наших читателей, были приглашены герцог Ангулемский, герцог де Гиз, герцог де Бельгард и маршал де Бассомпьер.
Месье некоторое время назад вернулся в совет, откуда он вышел в связи с процессом Шале. Король появлялся на заседаниях, когда считал, что вопрос достаточно важен и требует его присутствия.
Принятые советом решения, как мы говорили, докладывались королю; он одобрял, не одобрял или даже полностью изменял то, что было принято.
Кардинал де Ришелье (он фактически уже стал первым министром по силе своего гения, но получил это звание и абсолютную власть только через год после событий, о которых мы рассказываем) располагал в совете лишь своим голосом, но почти всегда склонял короля к своему мнению; его поддерживали обычно оба Марийяка, герцог де Гиз, герцог Ангулемский и иногда маршал де Бассомпьер; против неизменно были королева-мать, Вотье, кардинал де Берюль и два-три участника заседания, пассивно повиновавшиеся знакам Марии Медичи — отрицания или одобрения.
В этот вечер Месье под предлогом ссоры с королевой-матерью заявил, что он не будет присутствовать на совете; но это обстоятельство, благодаря тому, что интересы принца взялась представлять Мария Медичи, лишь усилило его позиции.
Совет был назначен на восемь часов вечера.
В четверть девятого все участники заседания были на месте и стояли перед сидящей Марией Медичи.
В половине девятого король поклонился матери, вставшей при его появлении, поцеловал ей руку, уселся рядом с нею в кресло, стоящее немного выше, надел шляпу и произнес сакраментальные слова:
— Садитесь, господа.
Члены правительства и почетные советники уселись вокруг стола на табуретах, приготовленных по числу участников.
Король обвел взглядом стол, поочередно разглядывая присутствующих, затем меланхоличным, лишенным звучности голосом, каким разговаривал обычно, спросил:
— Я не вижу моего брата Месье; где он?
— Он проявил неповиновение вашей воле и, без сомнения, не осмелится появиться перед нами. Угодно вам, чтобы заседание проходило без него?
Король молча сделал утвердительный знак.
Затем он обратился не только к членам совета, но и к дворянам, приглашенным сообщить свое мнение по обсуждаемому вопросу.
— Господа, — сказал он, — вы знаете, о чем вдет сегодня речь. Следует выяснить, должны ли мы заставить снять осаду Казаля, прийти на помощь Мантуе, чтобы подкрепить поддерживаемые нами требования герцога Неверского и прекратить посягательства герцога Савойского на Монферрат. Хотя объявление мира и войны — королевское право, мы, прежде чем принять решение, желаем прибегнуть к вашему просвещенному мнению, нисколько не опасаясь, что наше право потерпит ущерб от советов, которых мы у вас просим. Слово нашему министру господину кардиналу де Ришелье, он изложит нам состояние дел.
Ришелье, встав, поклонился королю и королеве.
— Изложение будет кратким, — сказал он. — Герцог Винченцо Гонзага, умирая, завещал все свои права на герцогство Мантую герцогу Неверскому, дяде трех последних государей этого герцогства, которые скончались, не оставив мужского потомства. Герцог Савойский надеялся женить одного из своих сыновей на наследнице Монферрата и Мантуи, создав себе таким образом второстепенное итальянское государство, что было постоянной целью его честолюбивых устремлений и часто заставляло нарушать обещания, данные им Франции. Поэтому министр его величества короля Людовика Тринадцатого счел политически правильным поддержать вступление француза на престол Мантуи и Монферрата, приобретя тем самым ревностного сторонника среди ломбардских государств; учитывая наш союз с папой римским и венецианцами, это обеспечило бы нам решительный перевес в итальянских делах и, наоборот, нейтрализовало бы влияние Испании и Австрии. Имея в виду эту цель, министр его величества и действовал до настоящего времени. Чтобы подготовить пути для нынешней кампании, он несколько месяцев назад послал первую армию; из-за ошибки маршала де Креки — ошибки, которую можно считать почти изменой, — она была не разбита герцогом Савойским, как поспешили объявить враги Франции, а лишена самого необходимого: пехотинцы и кавалеристы — съестных припасов, кони — фуража; в результате она рассеялась, растаяла, если можно так выразиться, от дуновения голода. Но, поскольку политика была определена и враждебные действия начаты, следовало лишь дождаться благоприятного часа, чтобы продолжить начатое. Такой час, по мнению министра его величества, наступил: взятие Ла-Рошели позволяет нам распоряжаться нашей армией и нашим флотом. Таким образом, вашим величествам предстоит решить вопрос: начинать или не начинать войну, а если начинать, то делать это немедленно или подождать? Министр его величества, являющийся сторонником войны, и войны немедленной, готов выслушать возражения, если таковые последуют.
И, поклонившись королю и королеве Марии, кардинал сел, передав слово своим противникам, вернее противнику, — кардиналу де Берюлю.
Тот, заранее зная, что отвечать министру будет он, вопросительно взглянул на королеву-мать и после ее поощрительного знака поднялся, поклонился их величествам и сказал:
— Замысел вести войну в Италии, несмотря на кажущиеся убедительными доводы, приведенные господином кардиналом де Ришелье, представляется нам не только опасным, но неисполнимым. Почти вся Германия подчинена императору Фердинанду; она поставит ему неисчислимые армии, с какими вооруженные силы Франции не могут сравниться. Со своей стороны, его величество Филипп Четвертый, августейший брат королевы, найдет в рудниках Нового Света достаточно сокровищ, чтобы оплатить армии столь же многочисленные, как у древних персидских царей. В это время, вместо того чтобы думать об Италии, император занят лишь тем, чтобы подавить протестантов и вырвать из их рук епископства, монастыри и иные церковные имущества, которыми те незаконно завладели. С какой стати Франции, старшей дочери Церкви, противиться этому столь благородному и столь христианскому делу? Не лучше ли, наоборот, королю поддержать его и окончательно истребить ересь во Франции, пока император и испанский король трудятся над тем, чтобы победить ее в Германии и Нидерландах? Во исполнение химерических замыслов, прямо противоположных благу Церкви, господин де Ришелье ведет переговоры о мире с Англией и допускает мысль о союзе с еретическими государствами, что может навсегда запятнать славу его величества. Вместо того чтобы заключать мир с Англией, разве не можем мы, наоборот, надеяться, что, продолжая войну против короля Карла Первого, в конце концов заставим его дать Франции удовлетворение, призвав обратно придворных дам и слуг королевы, столь недостойно изгнанных в нарушение обязательств торжественного договора, и прекратить преследования английских католиков? Откуда мы знаем, что Господу не угодно восстановить истинную веру в Англии, когда ересь будет истреблена во Франции, в Германии и в Нидерландах? В убеждении, что я говорил в интересах Франции и трона, повергаю мое скромное мнение к стопам их величеств.
И кардинал в свою очередь сел, успев поймать взглядом знаки одобрения, открыто адресованные ему королевой Марией и членами ее совета, а исподтишка — хранителем печатей Марийаком, возвращенным в партию королев стараниями г-жи де Фаржи.
Король повернулся к кардиналу де Ришелье.
— Вы слышали, господин кардинал? — спросил он. — Если вам есть что ответить, отвечайте.
Ришелье встал.
— Я полагаю, — сказал он, — что мой почтенный коллега господин кардинал де Берюль плохо осведомлен о политическом положении Германии и о финансовом положении Испании. Власть императора Фердинанда, которую он нам представил такой грозной, не настолько тверда в Германии, чтобы ее нельзя было пошатнуть в тот день, когда — даже без необходимости заключить союз — мы натравим на императора северного льва, великого Густава Адольфа, кому для принятия этого великого решения не хватает лишь нескольких сот тысяч ливров, и в нужную минуту глаза его вспыхнут словно маяки, указывающие путь боевым кораблям. Министру его величества известно из достоверных источников, что армии Фердинанда — о них говорит господин кардинал де Берюль — внушают большие опасения баварскому герцогу Максимилиану, главе Католической лиги. Министр его величества использует все средства, чтобы в определенный момент поставить эти столь пугающие войска между протестантскими армиями Густава Адольфа и католическими армиями Максимилиана. Что касается воображаемых сокровищ короля Филиппа Четвертого, да будет позволено министру его величества свести их к фактической величине. Испанский король получает из Вест-Индии едва пятьсот тысяч экю в год; и два месяца назад мадридский кабинет пришел в немалое замешательство, узнав, что нидерландский адмирал Хейн пустил ко дну в Мексиканском заливе испанские галионы с грузом, оцениваемым в двенадцать миллионов. Вследствие этой новости дела его величества испанского короля пришли в столь большой беспорядок, что он не смог послать императору Фердинанду обещанную субсидию в миллион. Далее, отвечая на вторую часть речи своего оппонента, министр короля позволяет себе покорнейше заметить, что честь его величества не позволяет терпеть давления на герцога Мантуанского, ибо, во-первых, король признал его, а во-вторых, посол короля господин де Сен-Шамон благодаря своему влиянию на последнего герцога добился того, что господин де Невер был назван наследником престола. Его величеству следует не только защищать своих союзников в Италии, но и защитить этот прекрасный край Европы от Испании, постоянно стремящейся его поработить и еще весьма в нем сильной. Если мы не поддержим решительно герцога Мантуанского, то он, не имея сил противостоять Испании, вынужден будет согласиться обменять свои владения на другие вне Италии, что и предлагает ему сейчас испанский двор. Не забудьте, что уже покойный герцог Винченцо едва не согласился на подобную сделку, собираясь обменять Монферрат, чтобы досадить Карлу Эммануилу и дать ему соседей, способных остановить его постоянные притязания. Наконец, по мнению министра его величества, было бы не только предосудительно, но и постыдно оставить безнаказанной дерзость герцога Савойского, который вот уже более тридцати лет мутит воду в отношениях Франции с ее союзниками, плетет тысячу интриг вопреки действиям и интересам короля; руку герцога мы находим в заговоре Шале, как раньше обнаружили ее в заговоре Бирона; герцог был союзником англичан в их действиях против острова Ре и Ла-Рошели.
Повернувшись к королю и обращаясь непосредственно к нему, кардинал де Ришелье добавил:
— Взяв этот мятежный город, вы, государь, успешно выполнили замысел, прославивший вас и чрезвычайно полезный для вашего государства. Италия, вот уже год притесняемая войсками испанского короля и савойского герцога, взывает к помощи вашего победоносного оружия. Неужели вы откажетесь взять в свои руки дело ваших соседей и ваших союзников, кого хотят несправедливо лишить их наследия? Так вот, государь, я, ваш министр, смею обещать, что, если вы примете сегодня это благородное решение, вас ждет успех не меньший, чем при осаде Ла-Рошели. Я не пророк, — Ришелье с улыбкой посмотрел на своего коллегу кардинала де Берюля, — и не сын пророка, но я могу заверить ваше величество, что, если вы не станете терять время в осуществлении этого замысла, вы освободите Казаль и дадите мир Италии до конца мая. Вернувшись со своей армией в Лангедок, вы покончите с гугенотской партией в июле. И затем победоносный король сможет отдохнуть в Фонтенбло или где угодно еще, наслаждаясь прекрасными днями осени.
Одобрительный шепот послышался в группе дворян, приглашенных на заседание; заметно было, что наиболее горячо поддерживают мнение г-на де Ришелье герцог Ангулемский и особенно герцог де Гиз.
Слово взял король.
— Господин кардинал, — сказал он, — правильно поступил, называя себя во всех случаях, когда речь шла о нем и осуществляемой им политике, "министром короля", ибо эта политика проводилась по моим приказаниям. Да, мы согласны с его мнением; да, война в Италии необходима; да, мы должны поддержать там наших союзников; да, мы должны отстаивать там наше верховенство, ограничивая, насколько это возможно, не только власть, но и влияние Испании. Это вопрос нашей чести.
Несмотря на почтение, какое следовало проявлять к королю, из группы друзей кардинала послышались рукоплескания, в то время как друзья королевы едва сдерживали недовольный ропот. Мария Медичи и кардинал де Берюль 0 чем-то оживленно и тихо говорили.
Лицо короля приняло суровое выражение. Он искоса и почти угрожающе взглянул в ту сторону, откуда доносился шепот, затем продолжал:
— Итак, нам предстоит сейчас заняться не вопросом "мир или война", ибо решено, что война будет; надо решить, когда начинать кампанию. Само собой разумеется, что, выслушав все мнения, окончательное решение мы оставляем за собой. Говорите, господин де Берюль: вы — нам это известно — являетесь выразителем воли, какую мы всегда уважаем, даже когда ей не следуем.
Мария Медичи сделала Людовику XIII, говорившему сидя и с покрытой головой, едва заметный знак признательности.
Затем, повернувшись к Берюлю, она сказала:
— Приглашение короля есть приказ. Говорите, господин кардинал.
Берюль встал.
— Министр короля, — начал он неестественным тоном, сделав ударение на словах "министр короля", — предложил начать войну немедленно; сожалею, но я и по этому пункту придерживаюсь прямо противоположного мнения. Если я не ошибаюсь, его величество выразил желание лично руководить этой кампанией. Я высказываюсь против слишком поспешного начала войны по двум причинам. Первая причина состоит в том, что армия короля, уставшая от долгой осады Ла-Рошели, нуждается в хороших зимних квартирах; если мы заставим ее переместиться с берега океана к подножию Альп, не дав времени на отдых, то рискуем, что солдаты, измученные долгим маршем, станут дезертировать толпами. Было бы жестокостью подвергать этих храбрецов превратностям суровой зимы в неприступных снежных горах, и было бы оскорблением величества направить туда короля. Если бы у нас были необходимые деньги — а их нет, ибо всего неделю назад августейшая мать вашего величества попросила у вашего министра сто тысяч ливров, и он, сославшись на нехватку денег, смог послать ей только пятьдесят тысяч, — итак, если бы у нас были необходимые деньги, каких нет, то всех мулов королевства не хватило бы, чтобы доставить армии необходимые съестные припасы, не считая того, что невозможно в это время года транспортировать артиллерию по неизвестным дорогам, которые надо было бы изучить инженерам в летнее время. Не лучше ли отложить поход до весны? Можно будет уже сейчас заняться приготовлениями, а большинство необходимого доставить морем. Венецианцы, больше нас заинтересованные в деле герцога Мантуанского, не волнуются по поводу вторжения Карла Эммануила в Монферрат и намереваются переложить всю тяжесть предприятия на короля. Надо полагать, что эти господа примут в деле более горячее участие, увидев, что угроза герцогу Мантуанскому усилилась, а помощь Франции еще далека. И последнее. Более всего прочего его величеству следует избегать разрыва с католическим королем: это нанесло бы государству бесконечно большой вред, несравнимый с преимуществами, какие может дать сохранение Казаля и Мантуи. Я сказал!
Речь кардинала де Берюля, казалось, произвела известное впечатление на совет. Он больше не возражал против войны, в пользу которой высказался король, но ставил под сомнение своевременность этой войны в данный трудный момент. К тому же приглашенные на совет военачальники — Бельгард, герцог Ангулемский, герцог де Гиз, Марийяк Шпага — были людьми уже немолодыми и стремились к войне, поскольку она давала шансы их честолюбию; им была нужна такая война, когда было бы больше опасностей, чем тягот, поскольку, чтобы пренебрегать тяготами, надо быть молодым, а чтобы пренебрегать опасностями, достаточно быть храбрым.
Кардинал де Ришелье поднялся.
— Я отвечу моему почтенному коллеге, — сказал он, — по всем пунктам. Да, хотя я не думаю, что его величество уже принял по этому поводу твердое решение, полагаю, что король намерен лично руководить кампанией. Его величество решит этот вопрос с присущей ему мудростью, и я опасаюсь лишь одного — что он принесет свои личные интересы в жертву интересам государства, как и подобает королю. Что касается тягот, которые предстоит вынести армии, то пусть кардинал де Берюль об этом не беспокоится: одна часть войск, доставленная морем, только что высадилась в Марселе и вдет в Лион, где будет главный штаб; другая идет небольшими переходами через Францию, хорошо накормленная, хорошо расквартированная, хорошо оплачиваемая; за месяц не было ни одного случая дезертирства, ибо, если солдат хорошо накормлен, хорошо расквартирован, хорошо оплачен, он не дезертирует. Что касается трудностей, с какими столкнется армия при переходе через Альпы, то лучше поскорее встретиться с ними, поскорее вступить в борьбу с природой, чем дать нашим врагам время, чтобы проходы, а ими рассчитывает воспользоваться армия, ощетинились пушками и крепостями. Правда, что несколько дней назад я, к своему сожалению, отказал августейшей матери короля в пятидесяти тысячах ливров из ста тысяч, которые она оказала честь попросить у меня; но я позволил себе решиться на это сокращение лишь после того, как оно было представлено королю и тот его одобрил. Несмотря на этот отказ, говорящий вовсе не о нехватке денег, а о необходимости избегать ненужных расходов, мы располагаем финансами для ведения этой войны. Под мое честное слово и под залог моего личного имущества я нашел заём в шесть миллионов. Что касается дорог, то они давно изучены, ибо его величество, давно думавший об этой войне, приказал мне послать с этой целью кого-нибудь в Дофине, Савойю и Пьемонт, и на основании работ, проведенных господином де Понтисом, господин д’Эскюр, квартирмейстер королевских армий, составил точную карту местности. Итак, все приготовления к войне сделаны; итак, деньги, необходимые для ведения войны, находятся в казне; и поскольку внешняя война, по мнению его величества, нужнее для славы его оружия и для удовлетворения его оскорбленной чести, нежели война внутренняя, не представляющая сейчас, когда Ла-Рошель взята, а Испания занята в Италии, большой опасности, я умоляю его величество соблаговолить принять решение о немедленном начале кампании и головой отвечаю за ее успех. Я тоже сказал.
И кардинал сел на место, взглядом приглашая короля Людовика XIII поддержать сделанное им предложение (оно, впрочем, казалось заранее согласованным между ним и королем).
Король не заставил ждать кардинала; едва тот сел и умолк, он простер руку над столом и сказал:
— Господа, мой министр господин кардинал де Ришелье сообщил вам мою волю. Война против господина герцога Савойского решена, и наше желание — не теряя времени, начать кампанию. Тем из вас, кто хочет попросить помощи в снаряжении, достаточно обратиться к господину кардиналу.
Позже я сообщу, буду ли руководить кампанией сам и кто в ней будет моим главным наместником.
Засим, поскольку цель совета достигнута, — добавил король, вставая, — я молю Бога, господа, чтобы он не оставил вас своей святой и благою защитой. Заседание совета закрывается.
И, поклонившись королеве-матери, Людовик XIII удалился в свои апартаменты.
Кардинал получил его согласие на два свои предложения — объявить войну герцогу Савойскому и начать кампанию немедленно; не было сомнений, что ему точно так же удастся осуществить третий замысел — обеспечить за собой руководство войной в Италии, подобно тому как он добился руководства осадой Ла-Рошели.
Поэтому все столпились вокруг него с поздравлениями; даже хранитель печатей Марийяк, который, участвуя в заговорах королев, старался сохранить видимость нейтралитета.
Мария Медичи, гневно стиснув зубы и нахмурясь, тоже удалилась, сопровождаемая только Берюлем и Вотье.
— Кажется, — заметила она, — мы можем сказать, как Франциск Первый после битвы при Павии: "Все потеряно, кроме чести!"
— Ну нет, — возразил Вотье, — наоборот, ничто не потеряно, пока король не назначил господина де Ришелье своим главным наместником.
— Но разве вы не видите, — сказала королева-мать, — что в мыслях короля он уже главный наместник?
— Возможно, — отвечал Вотье, — но в действительности еще нет.
— У вас есть средство помешать этому назначению? — спросила Мария Медичи.
— Вероятно, — ответил Вотье, — но мне нужно сию же минуту увидеться с монсеньером герцогом Орлеанским.
— Я схожу за ним, — сказал Берюль, — и приведу его к вам.
— Ступайте, — сказала королева-мать, — не теряйте времени.
Затем, обернувшись к Вотье, она спросила:
— И что это за средство?
— Я скажу это вашему величеству, когда мы будем в таком месте, где нас не смогут ни слушать, ни слышать.
— Так идемте скорее.
И королева со своим советником устремилась в коридор, ведущий к ее личным апартаментам.
VIII
СРЕДСТВО ВОТЬЕ
Хотя у короля были собственные апартаменты в резиденции королевы-матери, то есть в Люксембургском дворце, он вернулся в Лувр, чтобы избежать неминуемого, как ему было понятно, натиска обеих королев.
И действительно, возвратившись к себе, Мария Медичи с величайшим вниманием выслушала и одобрила проект, изложенный Вотье; но прежде чем прибегнуть к этому средству, она решила предпринять последнюю попытку воздействовать на сына.
Что касается Людовика XIII, то он, как мы сказали, вернулся к себе и, едва войдя, велел позвать л’Анжели.
Но сначала он спросил, не говорил ли и не передавал ли чего-нибудь г-н Барада.
Барада хранил полнейшее молчание.
Это упорное молчание недовольного пажа было причиной плохого настроения короля во время совета; Вотье уловил это настроение и, зная его причину, построил на ней свой план.
Людовик XIII, весьма незначительно продвинувшийся в своих ухаживаниях за мадемуазель де Лотрек, решил последовать мнению л’Анжели и продолжать начатое, пока слух об этой фантазии не дойдет до Барада и тот (если верить л’Анжели), боясь потерять свое влияние, вновь припадет к ногам короля.
Но в осуществлении этого замысла возникло одно неожиданное препятствие: дело в том, что король не мог понять и никто не в состоянии был ему объяснить, где мадемуазель де Лотрек. Накануне вечером, хотя это был день ее дежурства, она не явилась в кружок королевы; Людовик XIII, осведомившись у супруги, услышал в ответ несколько слов, выражавших крайнее удивление Анны Австрийской. Весь день мадемуазель де Лотрек не появлялась в Лувре. Напрасно королева посылала к ней в комнату и велела искать ее по всему дворцу: никто ее не видел и не мог о ней ничего сказать.
Тогда король, заинтригованный этим, поручил л’Анжели разузнать обо всем; вот почему, вернувшись, он сразу позвал своего шута.
Но л’Анжели был не счастливее других и не сумел добыть никаких достоверных сведений.
С точки зрения действительной склонности Людовика XIII к мадемуазель де Лотрек, все это было ему почти безразлично, но это было не так в отношении Барада. Средство казалось л’Анжели столь безошибочным, что и король в конце концов этому поверил.
Итак, Людовик пребывал в отчаянии, обвиняя судьбу, нарочно противодействующую всему, на успех чего он надеялся; тут Беренген тихо поскребся в дверь. Король узнал его манеру скрестись и, подумав, что можно будет посоветоваться еще с одним человеком, причем таким, в чьей преданности он был уверен, сказал достаточно доброжелательным тоном:
— Войдите.
Господин Первый вошел.
— Что тебе нужно, Беренген? — спросил король. — Ты ведь знаешь, я не люблю, чтобы меня беспокоили, когда я скучаю с л’Анжели.
— Я бы этого не сказал, — заявил л’Анжели, — добро пожаловать, господин Беренген.
— Государь, — сказал камердинер, — раз вы мне сказали, что хотите спокойно поскучать, я не позволил бы себе побеспокоить ваше величество ни для кого, кто не вправе мне приказывать. Но я должен был повиноваться их величествам королеве Марии Медичи и королеве Анне Австрийской.
— Как? — воскликнул Людовик XIII. — Королевы здесь?
— Да, государь.
— Обе?
— Обе.
— И обе хотят со мной говорить?
— Да, обе, государь.
Король огляделся, словно искал, в какую сторону можно убежать, и, может быть, он поддался бы этому первому движению, но дверь отворилась, и вошла Мария Медичи в сопровождении королевы Анны Австрийской.
Король сильно побледнел; по его телу пробежала мгновенная лихорадочная дрожь — признак крайнего недовольства; но он взял себя в руки и стал недоступен для просьб.
На этот раз он встречал опасность с неподвижным и мрачным упорством быка, выставившего рога.
Он повернулся к матери как к более опасному противнику.
— Клянусь честью дворянина, мадам, — сказал он ей, — я считал, что обсуждение закончилось в совете и что после этого буду избавлен от дальнейших преследований! Что вы от меня хотите? Говорите быстро!
— Я хочу, сын мой, — сказала Мария Медичи, в то время как Анна Австрийская, молитвенно сложив руки, казалось, присоединяла мысленную просьбу к просьбам свекрови, — я хочу, чтобы вы пожалели если не нас, кого вы приводите в отчаяние, то хотя бы себя. Разве не достаточно, что вас, слабого, страдающего, этот человек полгода держал в болотах? Теперь он хочет заставить вас испытать холод снежных Альп в разгар суровой зимы!
— О мадам, — сказал король, — разве этой болотной лихорадкой, какую Господь помог мне избежать, господин кардинал не пренебрегал так же, как я? Или вы скажете, что, подвергая меня опасности, он щадит себя? Разве альпийские снега и морозы ждут меня одного, разве не будет он рядом со мной, чтобы, как я, подавать солдатам пример мужества и стойкости в лишениях?
— Я не спорю, сын мой: действительно, господин кардинал одновременно с вами служил примером. Но можете ли вы сравнивать ценность вашей и его жизни? Десять таких министров, как господин кардинал, могут умереть — и монархия ни на миг не пошатнется, тогда как при малейшем вашем недомогании Франция содрогается, а ваша мать и ваша жена молят Бога сохранить вас для Франции и для них.
Королева Анна Австрийская действительно стала на колени.
— Ваше величество, — сказала она, — мы на коленях не только перед Господом Богом, но и перед вами, мы молим вас, как молили бы Бога: не покидайте нас. Подумайте, ведь то, что ваше величество считает своим долгом, для нас причина глубокого страха; в самом деле, если с вашим величеством случится несчастье, что станется с нами и с Францией!
— Если Господь Бог допустит мою смерть, он будет предвидеть ее последствия и окажется рядом, чтобы обо всем позаботиться, мадам. Решения приняты, и изменить в них что-либо невозможно.
— Но почему? — спросила Мария Медичи. — Что за необходимость, раз уж решение об этой несчастной войне принято, причем вопреки мнению каждого…
— Каждой, хотите вы сказать, мадам! — прервал ее король.
— … что за необходимость, — продолжала Мария Медичи, словно не заметив его реплики, — вести ее вам самому? Разве нет у вас вашего любимого министра…
— Вы знаете, — снова прервал ее король, — что я вовсе не люблю господина кардинала, мадам; однако я его уважаю, я им восхищаюсь и считаю, что после Бога он Провидение этого королевства.
— Ну что ж, государь, Провидение заботится о государствах издали так же хорошо, как и вблизи. Поручите вашему министру вести эту войну, а сами останьтесь возле нас и с нами.
— Да, для того, чтобы вспыхнуло неповиновение среди военачальников, не так ли? Чтобы ваши Гизы, ваши Бассомпьеры, ваши Бельгарды отказались подчиняться священнику и поставили под угрозу судьбу Франции? Нет, мадам, чтобы гений господина кардинала был признан, самым первым должен признать его я. Ах, если бы в моей семье был принц, которому я мог бы доверять!
— Разве у вас нет вашего брата Месье?
— Позвольте сказать вам, мадам, что вы весьма нежны к непокорному сыну и мятежному брату!
— Во имя того, сын мой, чтобы вернуть в нашу несчастную семью мир, словно бы изгнанный из нее, проявляю я такую нежность к этому сыну, хоть он, признаю, за свое неповиновение заслуживал бы наказания, а не награды. Но бывают особые моменты, когда логика перестает управлять политикой, когда надо сделать не то, что справедливо, а то, что хорошо. Сам Господь указывает нам порой примеры этих необходимых ошибок, наказывая хорошее и вознаграждая плохое. Поручите, государь, вашему министру руководство военными действиями и поставьте под его начало Месье как главного наместника; я уверена, что, если вы окажете эту милость вашему брату, он откажется от своей безрассудной любви и согласится на отъезд принцессы Марии.

— Вы забываете, мадам, — сказал Людовик XIII, нахмурясь, — что я король и, следовательно, повелитель; для того чтобы этот отъезд состоялся, а он должен был произойти уже давно, нужно не согласие моего брата, а мой приказ. Давать согласие на то, что вправе приказать только я, значит бороться против моей власти. Мое решение принято, мадам. В дальнейшем я буду приказывать и придется мне повиноваться. Я действую так уже два года, а именно после путешествия в Амьен, — сказал король, подчеркнув последние слова и глядя на Анну Австрийскую, — и вот уже два года чувствую себя хорошо.
Анна, остававшаяся на коленях перед сидящим королем, при этих жестоких словах поднялась и сделала шаг назад, поднеся руки к глазам, словно для того чтобы скрыть слезы.
Король сделал движение, чтобы ее удержать, но оно было едва заметным, и он его тут же подавил.
Однако мать это заметила и, взяв короля за руки, сказала:
— Людовик, дитя мое, это уже не спор, это мольба. Уже не королева говорит с королем, а мать с сыном. Людовик, во имя моей любви — вы ее порой не признавали, но в конце концов всегда отдавали ей должное, — уступите нашим мольбам. Вы король, и это значит, что в вас воплощена власть и мудрость; откажитесь от вашего первого решения и поверьте, что не только ваша жена и ваша мать, но Франция будет вам за это признательна.
— Хорошо, мадам, — сказал король, чтобы окончить утомительный спор, — утро вечера мудренее; я подумаю ночью над тем, что вы мне сказали.
И он сделал матери и жене один из тех поклонов, какие умеют делать короли, показывая, что аудиенция окончена.
Обе королевы вышли; Анна Австрийская опиралась на руку королевы-матери. Но не успели они сделать двадцати шагов по коридору, как одна из дверей приотворилась и в этой щели показалась розовая физиономия Гастона Орлеанского.
— Итак?.. — спросил он.
— Итак, — ответила королева-мать, — мы сделали что могли, остальное зависит от вас.
— Вы знаете, где комната господина Барада? — спросил герцог.
— Да, я узнала. Четвертая дверь налево, почти напротив спальни короля.
— Хорошо, — сказал Гастон, — даже если мне придется пообещать ему мое герцогство Орлеанское, он сделает то, что мы хотим, хотя герцогства, само собой разумеется, я ему не отдам.
Королевы и молодой принц расстались; Мария Медичи и Анна Австрийская вернулись в свои апартаменты, а его королевское высочество монсеньер Гастон Орлеанский, направившись в противоположную сторону, на цыпочках подошел к комнате г-на Барада.
Мы не знаем, что произошло между Месье и юным пажом и пообещал ли ему Месье герцогство Орлеанское вместо своих второстепенных герцогств Домб или Монпансье; но нам известно, что через полчаса после того, как он вошел в шатер Ахилла, новый Улисс опять-таки на цыпочках подошел к комнате, где находились обе королевы, с радостным видом отворил дверь и голосом, полным надежды, сказал:
— Победа: он у короля.
И действительно, почти в это же самое мгновение, застав его величество в минуту, когда тот менее всего ожидал его появления, г-н Барада, не дав себе труда поскрестись сообразно этикету, отворил дверь Людовика XIII; король вскрикнул от радости, узнав своего пажа, и принял его с распростертыми объятиями.
Назад: Часть третья
Дальше: IX РЕШЕНИЕ КОРОЛЯ

