Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 38. Красный сфинкс. Голубка
Назад: XI КРАСНЫЙ СФИНКС
Дальше: VII ГЛАВА, В КОТОРОЙ КАРДИНАЛ ИСПОЛЬЗУЕТ ДЛЯ СЕБЯ ПРИВИЛЕГИЮ, ДАННУЮ ИМ СУКАРЬЕРУ
Часть вторая
I
ПОЛОЖЕНИЕ ЕВРОПЫ В 1628 ГОДУ
Дойдя до этого места нашего повествования, мы думаем, что было бы неплохо, если б читатель, подобно кардиналу де Ришелье, яснее представлял себе положение на шахматной доске.
Нам спустя двести тридцать семь лет будет легче сказать "fiat lux", чем кардиналу. Окруженный тысячью всевозможных интриг, беспрестанными враждебными происками, разделываясь с одним заговором, чтобы тут же наткнуться на другой, он постоянно обнаруживал некую завесу между собой и теми горизонтами, что ему необходимо было видеть; но он умел заставить блуждающие огоньки личных интересов внезапно осветить картину в целом.
Если бы эта книга была из тех, что кладут между кипсеком и альбомом на столе в гостиной, дабы гости могли полюбоваться гравюрами, или из тех, что, доставив развлечение хозяйке будуара, предназначены заставить смеяться или плакать прислугу, мы опустили бы некоторые детали, кажущиеся скучными легкомысленным или торопливым умам. Но поскольку мы хотим, чтобы созданные нами книги — если не при нашей жизни, то хотя бы после смерти — заняли место в книжных шкафах, то просим у читателей позволения начать эту главу с обзора положения Европы — обзора, необходимого в качестве фронтисписа второй части и ретроспективно не совсем бесполезного для понимания первой.
Начиная с последних лет царствования Генриха IV и первых лет правления Ришелье Франция не только заняла место среди великих наций, но и стала точкой притяжения для всех взглядов; находясь уже впереди других европейских королевств по уровню духовного развития, она была накануне того, чтобы занять такое же место в качестве материальной силы.
Опишем вкратце положение остальной Европы.
Начнем с крупнейшего религиозного центра, влияющего одновременно на Австрию, на Испанию и на Францию: начнем с Рима.
Светский властитель Рима и духовный властитель остального католического мира — маленький мрачный старик шестидесяти лет, родом из Флоренции и скупой, как истый флорентиец. Он прежде всего итальянец, прежде всего государь, но в самую первую очередь дядюшка. Он все время думает о том, как приобрести еще кусочек земельных владений для святого престола и дополнительные богатства для своих племянников; трое из них — Франческо и два Антонио — кардиналы; четвертый, Таддео, — генерал папских войск. Чтобы удовлетворить требования этого непотизма, Рим подвергнут разграблению. "То, чего не смогли сделать варвары, — говорит Марфорио Катон, папский цензор, — сделали Барберини". И в самом деле, Маффео Барберини, в понтификате носящий имя Урбан VIII, присоединил к патримониуму святого Петра герцогство, имя которого он носит. При нем Gesu и Propaganda, основанная красавцем-племянником Григория XV монсиньором Лудовико, организуют во имя и под знаменем Игнатия Лойолы: иезуиты — всемирную полицию, миссионеры — завоевание мира. Отсюда хлынули армии проповедников, охваченных нежностью к китайцам. В данный момент, стараясь не очень обнаруживать свое личное участие, он пытается сохранить испанцев в их Миланском герцогстве и помешать австрийцам перейти через Альпы. Он побуждает Францию прийти на помощь Мантуе и заставить снять осаду Казаля, но отказывается пожертвовать для этого хоть одним человеком, хоть одним байокко; в свободное время он исправляет церковные гимны и сочиняет анакреонтические стихи. Уже в 1624 году Ришелье понял, что тот собой представляет, увидел за его фигурой ничтожество Рима, который из-за своей трусливой политики уже потерял большую часть религиозного престижа, а ту небольшую политическую силу, какую он имел, заимствовал то у Австрии, то у Испании.
После смерти Филиппа Испания скрывает свой упадок под высокопарными словами и высокомерным видом. Сейчас ее король — Филипп IV, брат Анны Австрийской, монарх-бездельник, царствующий под управлением своего первого министра графа-герцога Оливареса, как Людовик XIII царствует под управлением кардинала-герцога де Ришелье. Однако французский министр — человек гениальный, тогда как испанский министр — политический сорвиголова. Из своих вест-индских владений, откуда в царствование Карла V и Филиппа II текла золотая река, Филипп IV едва извлекает пятьсот тысяч экю. Хейн, адмирал Соединенных провинций, только что потопил в Мексиканском заливе галионы с золотыми слитками, оцениваемыми больше чем в двенадцать миллионов. Испания так задыхается, что маленький савойский герцог, горбатый Карл Эммануил, кого в насмешку называют принцем Сурков, дважды держал в руках судьбу этой спесивой империи, над которой, как хвастливо заявлял Карл V, никогда не заходит солнце. Сегодня она превратилась в ничто, перестала даже быть кассиром Фердинанда II, заявив, что не может больше давать ему денег. Костры Филиппа II, огненного короля, истощили жизненную силу народа, в былые века бившую через край; Филипп III, изгнав мавров, уничтожил иноземную прививку, с помощью которой эта сила могла возродиться. Однажды Испании пришлось сговориться с грабителями, чтобы поджечь Венецию. Главный военачальник Испании — итальянский кондотьер Спинола, ее посол — фламандский художник Рубенс.
Германия с начала Тридцатилетней войны, то есть с 1618 года, стала рынком живого товара. На востоке, на севере, на западе, в центре страны открыто несколько контор, торгующих человеческой плотью. Любому отчаявшемуся, кто не хочет покончить с собой или стать монахом (один из способов самоубийства в средние века), из какой бы страны он ни был, достаточно пересечь Рейн, Вислу или Дунай и он сможет продать себя.
Восточный рынок находится в руках старого Габора Бетлена, кому предстоит вскоре умереть; он был участником сорока двух сражений регулярных армий, заставил провозгласить себя королем и изобрел все эти необычные военные наряды — меховые шапки уланов, развевающиеся рукава гусаров, — стараясь напугать противника с их помощью. Его армия — это школа, из которой вышла легкая кавалерия. Что обещает он завербовавшимся? Ни жалованья, ни еды — они сами должны искать пропитание и содержать себя так, как умеют. Он предоставляет им войну без закона и бесконечность случая!
На севере рынок в руках Густава Адольфа — доброго, веселого Густава; он, в противоположность Габору Бетлену, вешает грабителей. Прославленный военачальник, ученик француза Ла Гарди, он только что одержал ряд побед над Польшей, заставив ее уступить крепости в Ливонии и польской Пруссии. Сейчас он занят созданием союза с германскими протестантами против императора Фердинанда II. Император — смертельный враг протестантства, издавший против него "Эдикт о реституции" (он сможет послужить образцом для Людовика XIV, отменившего Нантский эдикт пятьдесят лет спустя). Это — мы говорим о Густаве Адольфе — властитель душ своего времени. Если говорить о боевом искусстве, то он создатель современной войны. В его характере нет ни угрюмости Колиньи, ни суровости Вильгельма I Молчаливого, ни яростной резкости Морица Нассауского. Он непоколебимо спокоен, и улыбка играет на его губах в самой гуще боя. В нем шесть футов роста, он толст, следовательно, ему нужны огромные лошади. Тучность иногда стесняет его, но оказывается и полезной: пуля, которая убила бы тощего генуэзца Спинолу, застряла в жире Густава Адольфа, жир обволок ее, и разговоров больше о ней не было слышно.
Западный рынок находится в руках Голландии, сбитой с толку и охваченной расколом. У нее были две головы: Барневельдт и Мориц. Она только что отрубила их обе. Барневельдт, человек спокойного ума, друг свободы и особенно мира, глава партии провинций, сторонник децентрализации, а следовательно, слабости, посол при дворах Елизаветы, Генриха IV и Якова I (причем последнего он заставил вернуть Соединенным провинциям Брил, Флиссинген и Реммекенс), умирает на эшафоте как еретик и изменник. Мориц десять раз спасал Голландию, но убил Барневельдта и из-за этого убийства потерял свою популярность. Мориц думает, что его любят, тогда как его ненавидят. Однажды утром он проходит по рынку и, улыбаясь, приветствует народ. Он думает, что тот в ответ подбросит шапки в воздух с криками: "Да здравствует Нассау!" Народ молчит, шапки остаются на головах. С этого часа потеря популярности его убивает. Неутомимый часовой, нечувствительный к опасности полководец, тучный человек, обладающий крепким сном, худеет, перестает спать и умирает. Ему наследует младший брат Фридрих Генрих; к нему же переходит и людской рынок. Контора небольшая, вербующихся мало, но их тщательно отбирают, хорошо одевают, хорошо кормят, им регулярно платят жалованье; они ведут вполне стратегическую войну на болотистых дорогах и в течение двух лет по всем правилам науки осаждают какое-нибудь слабо укрепленное местечко, стоя в воде по колено. Храбрецы щадят себя, но экономное правительство Голландии щадит их еще больше; стоит им высунуться под пушечные или ружейные выстрелы, как командиры кричат: "Эй, вы там! Не дайте, чтобы вас убили, ведь каждый из вас представляет собой для нас капитал в три тысячи франков".
Но главный рынок не на востоке, не на севере, не на западе. Он расположен в самом центре Германии, и ведает им человек непонятной национальности, главарь грабителей и бандитов, превращенный Шиллером в героя. Кто он: славянин? немец? Его круглая голова и голубые глаза говорят: "Я славянин!" Светло-рыжие волосы говорят: "Я немец!" Смуглый цвет лица говорит: "Я цыган!" На самом деле этот худощавый солдат, этот полководец с мрачным лицом, подписывающийся "Валленштейн", родился в Праге. Он появился на свет среди развалин, пожаров и резни, поэтому у него нет ни стыда ни совести. Однако у него есть верование, даже целых три. Он верит звездам. Он верит в случай. Он верит в деньги. Он установил господство солдат над Европой, как папа установил господство смерти над миром. Обогатившись благодаря войне, пользуясь покровительством Фердинанда II (позже тот прикажет убить его, облаченного в княжескую мантию), он не обладает ни спокойствием Густава, ни отзывчивостью Спинолы в ответ на крики, плач и жалобы женщин. Упреки, угрозы, обвинения мужчин не вызывают у него ни волнения, ни гнева; это слепой и глухой призрак, хуже того — это игрок, угадавший, что миром правит лотерея. Он позволяет солдату играть всем: жизнью людей, честью женщин, кровью народов; тот, у кого в руке кнут, — князь; тот, у кого на боку шпага, — король. Ришелье долго изучал этого демона. В похвальном слове ему он приводит целый ряд преступлений, которые тот не совершил, но позволил совершить, и, характеризуя это дьявольское безразличие, пишет выразительную фразу: "И при этом не злой человек!"
Чтобы закончить разговор о Германии, скажем, что Тридцатилетняя война идет своим ходом. Ее первый период — пфальцский — закончился в 1623 году. Курфюрст Пфальцский Фридрих V, разбитый императором, в результате этого поражения потерял корону Богемии. Сейчас подходит к концу датский период. Христиан IV, датский король, сражается с Валленштейном и Тилли, а через год начнется шведский период.
Перейдем теперь к Англии.
Хотя Англия богаче Испании, она тоже серьезно больна. Король враждует одновременно со всей страной и со своей женой: он наполовину рассорился со своим парламентом, собираясь его распустить, и с женой, намереваясь отослать ее обратно к нам.
Женой Карла I была Генриетта Французская — единственная из законных детей Генриха IV, рожденная бесспорно от него. Мадам Генриетта была брюнетка небольшого роста, живая, остроумная, скорее приятная, чем соблазнительная, скорее хорошенькая, чем красивая; бестолковая и упрямая, чувственная и игривая. У нее была довольно бурная юность. Берюль, сопровождавший ее в Англию, ставил ей, семнадцатилетней, в пример кающуюся Магдалину. Покинув Францию, она нашла Англию унылой и дикой; привыкшая к нашему шумному и веселому народу, она нашла англичан суровыми и скучными. К мужу она не испытывала особой приязни. Она восприняла как наказание этот брак с ворчливым и вспыльчивым королем, чье лицо всегда было застывшим, высокомерным и холодным. У Карла I, датчанина по матери, было в крови нечто от полярного холода, но при всем этом он оставался порядочным человеком. Она решила попробовать свою силу на мелких ссорах, увидела, что король всегда вдет на примирение первым, и, ничего уже не боясь, приступила к ссорам крупным.
Ее брак был настоящим католическим нашествием. Берюль, сопровождавший ее к супругу и давший добрый совет — в своем раскаянии взять за образец Магдалину, — не знал, какую ненависть все еще сохраняет Англия к папизму; полный надежд, поданных ему одним французским епископом, получившим от слабовольного Якова позволение совершать службы в Лондоне и сумевшим за один день конфирмировать восемнадцать тысяч человек по католическому обряду, Берюль решил, что можно требовать всего. И он потребовал, чтобы дети, которым предстоит родиться у королевской четы, были католиками, чтобы они оставались под материнским присмотром до тринадцати лет; чтобы у молодой королевы был собственный епископ, имеющий право вместе с клиром появляться на улицах Лондона в своем одеянии. После того как все эти требования были приняты, королева перестала верно оценивать происходящее и, вместо нежной, ласковой и покорной супруги, Карл I нашел в ней унылую и сухую католичку, превращающую брачное ложе в богословскую кафедру и подвергающую желания короля постам не только церковным, но и плотским.
И это было еще не все. Как-то прекрасным майским утром молодая королева пересекла Лондон из конца в конец и отправилась вместе со своим епископом, священниками и придворными дамами преклонить колена перед Тайбёрнской виселицей, где за двадцать лет до того, во время Порохового заговора, были повешены отец Гёрнет и его иезуиты. Там она на глазах возмущенных лондонцев вознесла молитву за упокой души тех знаменитых убийц, что с помощью тридцати шести бочек пороха хотели взорвать сразу короля, министров и парламент. Король не мог поверить в это оскорбление, нанесенное одновременно и общественной нравственности, и государственной религии. Он впал в тот яростный гнев, что заставляет обо всем забыть или, вернее, обо всем вспомнить. "Прогнать их как диких зверей, — писал он, — этих священников и этих женщин, возносящих моления под виселицей убийц!" Королева кричала. Королева плакала. Ее епископы и священники отлучали и проклинали. Ее придворные дамы стенали, словно дочери Сиона, уводимые в рабство, хотя в глубине души умирали от желания вернуться во Францию. Королева подбежала к окну, чтобы послать им прощальный привет. Вошедший к ней в эту минуту Карл I стал просить ее отказаться от этого скандального намерения, столь противоречащего английским нравам. Королева закричала громче. Карл I обхватил ее поперек туловища, чтобы оттащить от окна. Королева вцепилась в прутья оконного переплета. Карл с силой рванул ее. Королева, теряя сознание, простерла к небу окровавленные руки, призывая на мужа Господнее мщение. И Господь ответил — ответил в тот день, когда через другое окно, окно Уайтхолла, король Карл взошел на эшафот.
С этого раздора между мужем и женой начинается наша ссора с Англией. Карл I оказался в опале у христианских королев, как британский Синяя борода, и Урбан VIII, услышав смутные сведения о сомнительной царапине, полученной Генриеттой, сказал испанскому послу: "Ваш повелитель обязан обнажить шпагу в защиту страдающей принцессы, иначе он не католик и не рыцарь". В свою очередь, юная королева Испании, сестра Генриетты, собственноручно пишет кардиналу де Ришелье, призывая его оказать рыцарскую помощь угнетенной королеве. Брюссельская инфанта и королева-мать обратились к королю. Берюль старался больше всех. Не составило труда внушить Людовику XIII, слабохарактерному, как все люди небольшого ума, что высылка этих французов — оскорбление, нанесенное его короне. Один лишь Ришелье держался стойко. Отсюда помощь, оказанная Англией протестантам Ла-Рошели, убийство Бекингема, сердечный траур Анны Австрийской и эта всеобщая лига королев и принцесс против Ришелье.
Теперь вернемся в Италию, где нам предстоит найти объяснение тем письмам, что граф де Море, как мы видели, передал королеве, королеве-матери и Гастону Орлеанскому; объяснение это кроется в политическом положении Монферрата и Пьемонта, в соперничестве интересов герцога Мантуанского и герцога Савойского.
Герцог Савойский Карл Эммануил, чьи амбиции были столь же велики, сколь малы его владения, насильственно увеличил последние за счет маркизата Салуццо. Поскольку, прибыв во Францию, чтобы обсудить законность своего завоевания, он не смог ничего добиться на этот счет от Генриха IV, герцог вступил с Бироном в заговор, представлявший собой не только государственную измену, направленную против короля, но и преступление, направленное против Франции: речь шла о том, чтобы расчленить ее.
Все южные провинции должны были отойти к Филиппу III.
Бирон получал Бургундию и Франш-Конте и брал в супруги испанскую инфанту.
Герцогу Савойскому доставались Лионне, Прованс и Дофине.
Заговор был раскрыт — голова Бирона слетела.
Генрих IV не тронул бы герцога Савойского в его владениях, если бы тот не оказался втянут в войну Австрией. Нужда в деньгах заставила ускорить брак Генриха IV с Марией Медичи. Генрих решился, получил приданое, разгромил герцога Савойского, заставил его вступить в переговоры и, оставив ему маркизат Салуццо, отобрал у него всю область Брее, Бюже, область Жекс, оба берега Роны от Женевы до Сен-Жени и, наконец, Шато-Дофен, расположенный над долиной Гоито.
Если не считать Шато-Дофена, Карл Эммануил ничего не потерял из территории Пьемонта. Вместо того чтобы сидеть верхом на Альпах, он теперь сторожил только их восточный склон, причем у него в руках оставались проходы, ведущие из Франции в Италию.
Вот по этому случаю наш остроумный беарнец и окрестил Карла Эммануила принцем Сурков — именем, что так за ним и осталось.
Начиная с этого времени принц Сурков должен был рассматривать себя как итальянского государя.
Увеличить свою территорию теперь он мог только в Италии.
Он предпринял уже несколько бесплодных попыток, как вдруг представился случай, на взгляд Карла Эммануила не только благоприятный, но даже неизбежный.
Франческо Гонзага, герцог Мантуи и Монферрата, умер, оставив от своего брака с Маргаритой Савойской (дочерью Карла Эммануила) единственную дочь. Дед потребовал, чтобы опекуншей ребенка стала вдовствующая герцогиня Монферратская, рассчитывая позже выдать девочку замуж за своего старшего сына Виктора Амедея и присоединить таким образом Мантую и Монферрат к Пьемонту. Но кардинал Фердинандо Гонзага, брат покойного герцога, спешно прибыл из Рима, объявил себя регентом и велел запереть племянницу в замке Гоито, боясь, как бы она не оказалась в руках своего деда по материнской линии.
Когда умер кардинал Фердинандо, у Карла Эммануила вновь появилась надежда; но явился третий брат, Винченцо Гонзага, потребовал свое наследие и без споров завладел им.
Карл Эммануил вооружился терпением: изнуренный недугами, новый герцог не мог прожить долго. Он действительно заболел, и Карл Эммануил уже считал себя хозяином Монферрата и Мантуи.
Но он не видел, какая гроза собирается над ним по эту сторону гор.
Во Франции был некий Луи Гонзага, герцог Неверский, глава младшей линии. У него был сын Карл де Невер, приходившийся дядей трем последним властителям Монферрата. Его сын, герцог Ретельский, приходился кузеном Марии Гонзага, наследнице Мантуи и Монферрата.
В интересах кардинала де Ришелье — а интересы кардинала де Ришелье всегда были интересами Франции, — так вот, в интересах кардинала де Ришелье было иметь ревностного сторонника французских лилий среди ломбардских государей, всегда готовых стать на сторону Австрии или Испании. Маркиз де Сен-Шамон, наш посол при дворе Винченцо Гонзага, получил необходимые инструкции, и герцог Винченцо, умирая, назначил герцога Неверского своим единственным наследником.
Герцог Ретельский прибыл, чтобы вступить во владение наследством от имени своего отца, обладая титулом генерального викария, а принцессу Марию отослали во Францию, где поручили заботам Екатерины Гонзага, вдовствующей герцогини де Лонгвиль, супруги Генриха I Орлеанского; она приходилась Марии теткой, будучи дочерью того самого Карла де Невера, которого только что призвали на мантуанский престол.
Одним из соперников Карла де Невера был Чезаре Гонзага, герцог Гвастальский, чей дед был обвинен в отравлении дофина — старшего брата Генриха II — и в убийстве гнусного Пьетро Луиджи Фарнезе, герцога Пармского, сына папы Павла III.
Другим соперником Карла де Невера — мы это знаем — был герцог Савойский.
Политика Франции сблизила его одновременно с Испанией и Австрией. Австрийская армия под командованием Спинолы оккупировала Мантуанское герцогство, а дон Гонсалес Кордовский взялся отобрать у французов занятые ими Казань, Ниццу, де ла Пай, Монкальво и Понтестуру.
Все это испанцы отвоевали, за исключением Казаля, и герцог Савойский на два месяца стал хозяином всей территории между Танаро и Бельбо.
Все это происходило в то время, когда мы вели осаду Ла-Рошели.
Именно тогда Франция послала герцогу Ретельскому шестнадцать тысяч солдат под командованием маркиза д’Юкзеля; лишенные продовольствия и жалованья по небрежности, а вернее — вследствие измены Креки, они были разбиты Карлом Эммануилом, к великой досаде кардинала.
Но оставался в центре Пьемонта один стойко державшийся город, над которым по-прежнему развевалось французское знамя; это был Казаль, обороняемый храбрым и преданным военачальником по имени шевалье де Гюрон.
Несмотря на твердое заявление Ришелье о том, что Франция поддерживает права Карла де Невера, герцог Савойский питал большую надежду на то, что Людовик XIII не сегодня-завтра отвернется от этого претендента. Карлу Эммануилу известно было, как ненавидит Карла Мария Медичи: когда-то он отказался жениться на ней под тем предлогом, что Медичи недостаточно знатны для союза с Гонзага, которые стали князьями раньше, чем Медичи — простыми дворянами.
Теперь мы знаем причину не покидающей кардинала злости и досады, на что он так горько жаловался своей племяннице.
Королева-мать ненавидит кардинала де Ришелье по множеству причин: за то (это первая и самая болезненная из них), что он перестал быть ее любовником; за то, что вначале он ей во всем повиновался, а теперь во всем противостоит; за то, что Ришелье хочет величия Франции и упадка Австрии, тогда как она хочет величия Австрии и упадка Франции; наконец, за то, что Ришелье хочет утвердить на мантуанском престоле герцога Неверского, для кого она не желает ничего делать из-за давней злобы к нему.
Королева Анна Австрийская ненавидит кардинала де Ришелье за то, что он препятствовал ее любви с Бекингемом, предал огласке скандальную сцену в амьенских садах, удалил от нее услужливую подругу г-жу де Шеврез, разбил англичан, а с ними было ее сердце, никогда не принадлежавшее Франции; ненавидит, ибо смутно подозревает, не решаясь сказать вслух, что это он направил нож Фелтона в грудь красавца-герцога; ненавидит, потому что кардинал упорно следит за ее новыми любовными привязанностями, и она знает: ни одно ее действие, даже самое скрытое, от него не ускользает.
Герцог Орлеанский ненавидит кардинала де Ришелье, ибо тому известно, что он честолюбив, труслив и злобен, с нетерпением ждет смерти своего брата и способен при случае ее ускорить; ибо тот закрыл ему доступ в Совет, заточил в тюрьму его наставника Орнано, обезглавил его сподвижника Шале, а в качестве наказания за участие в заговоре, имевшем целью смерть кардинала, обогатил герцога и лишил его чести; что до остального, то герцог не рассчитывает в случае смерти своего брата жениться на королеве (ведь она старше его на семь лет), разве только она окажется беременной.
Наконец, король ненавидит кардинала де Ришелье, ибо он чувствует, что тот проникнут патриотизмом, истинной любовью к Франции, тогда как в нем, Людовике, главное — эгоизм, равнодушие, неполноценность; ибо он чувствует, что не будет править, пока кардинал жив, и будет править плохо, если кардинал умрет. Но есть нечто, постоянно притягивающее его к кардиналу, от которого его постоянно отдаляют. Все спрашивают себя, что за приворотное зелье дает королю пить кардинал, какой талисман повесил ему на шею, какое волшебное кольцо надел ему на палец? Его чары — касса, полная золота и всегда открытая для короля. Кончини держал его в нищете, Мария Медичи — в бедности; Людовик XIII никогда не видел денег. Волшебник коснулся земли своей палочкой — и Пактол засверкал перед восхищенными глазами короля; с тех пор у него всегда были деньги, даже когда у Ришелье их не было.
Надеясь, что теперь положение на шахматной доске так же ясно нашим читателям, как и Ришелье, мы возобновляем наше повествование там, где прервали его в конце первой части.
II
МАРИЯ ГОНЗАГА
Чтобы сделать то, что мы обещали, то есть чтобы возобновить наш рассказ с того места, где он был прерван в конце предыдущей части, просим читателей войти вместе с нами в особняк Лонгвиль, который обращен задом к особняку маркизы де Рамбуйе и вместе с ним разрезает надвое пространство между улицами Сен-Тома-дю-Лувр и Сен-Никез — иными словами, он, как и особняк Рамбуйе, расположен между церковью святого Фомы Луврского и больницей Трехсот. Однако вход в него находится на улице Сен-Никез напротив Тюильри, тогда как вход в особняк маркизы — мы об этом упоминали — на улице Сен-Тома-дю-Лувр.
Со времени последних событий, описанных нами в первой части, прошла неделя.
Особняк принадлежит принцу Генриху де Конде — тому самому, что принял Шаплена за скульптора. Принц жил здесь вместе со своей супругой, госпожой принцессой (мы познакомились с ней на вечере у г-жи де Рамбуйе), и выехал отсюда в 1612 году (через два года после своей женитьбы на мадемуазель де Монморанси), купив на улице Нёв-Сен-Ламбер великолепный особняк, давший ей новое имя — улица Конде, какое она носит до сих пор. А прежний дом принца в то время, о котором идет речь в нашем рассказе, то есть 13 декабря 1628 года (события в эту эпоху настолько важны, что лучше приводить точные даты), занимает госпожа вдовствующая герцогиня де Лонгвиль со своей воспитанницей — ее высочеством принцессой Марией, дочерью Франческо Гонзага (чье наследие вызвало столько тревог не только в Италии, но и в Австрии и в Испании) и Маргариты Савойской, дочери Карла Эммануила.
Марии Гонзага, родившейся в 1612 году, было шестнадцать лет. Все историки того времени единогласно утверждают, что она была восхитительно красива, а те из летописцев, кто склонен к большей точности, сообщают нам, в чем эта красота заключалась: средний рост и стройная талия, матовая кожа лица, присущая уроженкам Мантуи (они, как и арлезианки, обязаны этим свойством испарениям окружающих болот); черные волосы, голубые глаза, бархатные брови и ресницы, жемчужные зубы, греческий нос безупречной формы и коралловые губы, не нуждающиеся в помощи голоса, чтобы дарить самые сладкие обещания.
Излишне говорить, сколь важную роль в будущих событиях предстояло ей сыграть как невесте герцога Ретельского — сына Карла де Невера, оказавшегося наследником герцога Винченцо. Марии Гонзага, как Полярной звезде, было бы достаточно ее красоты, чтобы притягивать к себе взоры всех молодых придворных кавалеров; она в то же время привлекала взгляды тех, кого возраст, серьезность или честолюбие побуждали заниматься политикой.
Прежде всего, было известно, что ей весьма покровительствует кардинал де Ришелье; для тех, кто хотел сделать приятное кардиналу, это был еще один повод упорно ухаживать за прекрасной Марией Гонзага.
Очевидно, этим покровительством кардинала (а оно доказывалось уже присутствием г-жи де Комбале) объясняется то, что, как мы видим, около семи часов вечера самые выдающиеся личности той эпохи прибывают на улицу Сен-Никез и высаживаются у дверей особняка Лонгвиль: одни из своих карет, другие из нового изобретения, появившегося накануне, — портшезов, привилегию на которые Сукарьер делит с г-жой Кавуа. Прибывающих гостей провожают в гостиную, где потолок украшен живописными кессонами, изображающими деяния и подвиги бастарда Дюнуа, основателя дома Лонгвилей, а на стенах висят гобелены; где едва хватает света огромной люстры, повешенной в центре потолка, и канделябров, размещенных на каминах и консолях, — короче, в гостиную, где находится принцесса Мария.
Одним из первых прибыл господин принц.
Поскольку ему принадлежит определенная роль в нашем повествовании (еще большей она была в предыдущей эпохе и будет в последующей), роль печальная и мрачная, да будет нам позволено познакомить читателя с этим сомнительным отпрыском первой ветви Конде.
Первые Конде были храбрецы и весельчаки, этот был труслив и угрюм. Он говорил: "Я трус, это правда, но Вандом еще больший трус, чем я", и это его утешало, если предположить, что он нуждался в утешениях.
Объясним это изменение в наследственном характере принца.
После битвы при Жарнаке был убит очаровательный принц де Конде. Невысокий ростом и немного горбатый, он был, однако, любимцем женщин; о нем говорили:
О юный принц, ты так хорош,
Всегда смеешься и поешь,
И с милой весело шалишь;
Храни Господь тебя, малыш!
Итак, умирая после битвы при Жарнаке, этот очаровательный, не вышедший ростом принц де Конде оставил сына, ставшего вместе с юным Генрихом Наваррским главой протестантской партии.
Это был достойный сын своего отца. Тот в битве при Жарнаке во главе пятисот дворян мчался в атаку с рукой на перевязи и со сломанной ногой — с костью, прорвавшей сапог. А этот во время Варфоломеевской ночи, когда Карл IX кричал ему: "Смерть или месса!", отвечал: "Смерть", тогда как более осторожный Генрих произнес: "Месса".
Это был последний из великих Конде первой ветви.
Ему не суждено было умереть на поле боя со славой, израненным и убитым еще одним Монтескью: он был просто отравлен собственной женой.
Когда он после пятимесячного отсутствия вернулся в свой замок Андели, его жена — урожденная девица де ла Тремуй — была беременна от гасконского пажа. Она устроила обед в честь возвращения мужа и во время десерта протянула ему персик.
Два часа спустя принц был мертв.
Той же ночью паж бежал в Испанию.
Все громко обвиняли отравительницу; она была арестована.
Внебрачный сын родился в тюрьме, где его мать пробыла восемь лет, ибо не решались устроить суд, настолько все были уверены, что она окажется виновной. Через восемь лет Генрих IV, не желавший, чтобы угас род Конде — эта великолепная ветвь родословного древа Бурбонов, — приказал выпустить без суда из тюрьмы вдову, помилованную королевским милосердием, но осужденную общественным мнением.
Расскажем в двух словах о том, как принц Генрих де Конде — второй из носивших это имя, тот, что принял Шаплена за скульптора, — женился на мадемуазель де Монморанси. История эта любопытна и стоит сделать отступление, чтобы ее рассказать, даже если это отступление будет несколько долгим. К тому же неплохо узнать от романистов некоторые детали, о которых забыли рассказать историки — то ли потому, что сочли их недостойными истории, то ли потому, что сами их, вероятно, не знали.
В 1609 году королева Мария Медичи ставила балет, и Генрих IV был сердит, потому что она отказалась взять в число танцовщиц (ими были самые красивые придворные дамы) Жаклину де Бёй, мать графа де Море. И поскольку блистательные танцовщицы, занятые в балете, идя на репетицию в театральный зал, должны были проходить перед дверью короля, Генрих IV в знак дурного настроения ее закрывал.
Однажды он оставил ее приоткрытой.
Через эту приоткрытую дверь он увидел проходящую мимо мадемуазель Шарлотту де Монморанси.
"А на свете, — пишет Бассомпьер в своих мемуарах, — не было ничего прекраснее мадемуазель де Монморанси, ничего более грациозного, ничего более совершенного".
Это видение показалось ему столь лучезарным, что его дурное настроение немедленно упорхнуло, словно бабочка. Он встал с кресла, где сидел надувшись, и последовал за девушкой, как пошел бы за Венерой, закутанной в облако.
Таким образом, он в тот день впервые присутствовал на балете.
В одной его сцене дамы, одетые нимфами — а как ни легок в наши дни костюм нимфы, он был еще легче в XVII веке, — в одной его сцене, повторяем, дамы, одетые нимфами, поднимали свои копья, будто собираясь метнуть их в какую-то цель. Мадемуазель де Монморанси, подняв свое копье, повернулась к королю и сделала вид, что собирается пронзить его. Король, не подозревавший, какой опасности он подвергнется, явился без свиты; но прекрасная Шарлотта, заявил он, так милостиво угрожала ему своим копьем, что оно проникло в глубину его сердца.
Госпожа де Рамбуйе и мадемуазель Поле тоже участвовали в этом балете; с того дня началась их дружба с мадемуазель де Монморанси, хотя они были на пять-шесть лет старше ее.
Отныне добрый король Генрих IV забыл Жаклину де Бёй. Он был, как известно, весьма забывчив и теперь думал лишь о том, чтобы обеспечить себе обладание мадемуазель де Монморанси. Для этого нужно было только найти прекрасной Шарлотте сговорчивого мужа, чтобы тот при помощи приданого в четыреста или пятьсот тысяч франков тем крепче закрывал глаза, чем шире раскрывал бы их король. Так он поступил с графиней де Море, выдав ее за г-на де Сези и отослав его с дипломатическим поручением сразу же после свадьбы.
Генрих считал, что нужный человек у него под рукой.
Он имел в виду Генриха де Конде, это дитя убийства и адюльтера. Если сам король женит его, да еще на дочери коннетабля, пятно с рождения принца будет смыто.
С ним обо всем условились; он обещал все, что от него хотели. Коннетабль давал за дочерью сто тысяч экю, Генрих IV — полмиллиона, и Генрих II де Конде, имевший накануне десять тысяч ренты, утром свадебного дня стал обладателем ренты в пятьдесят тысяч.
Правда, вечером он должен был уехать. Он не уехал.
Однако правила приличия были им соблюдены: брачную ночь он провел в комнате, не имевшей сообщения с комнатой его жены, и та, чтобы доказать бедному пятидесятилетнему влюбленному, что она сейчас одна и сама себе хозяйка, вышла на балкон с распущенными волосами, освещенная двумя факелами.
Увидев ее, король едва не умер от радости.
Было бы слишком долго следовать за Генрихом в безумствах, которые заставляла его совершать эта последняя любовь, прерванная в самом разгаре ножом Равальяка, когда король направлялся к прекрасной мадемуазель Поле за утешениями; прекрасная Львица была на них щедра, но они его не утешали.
После смерти короля г-н де Конде вернулся во Францию со своей женой; она оставалась по-прежнему мадемуазель де Монморанси и стала по-настоящему г-жой де Конде в те три года, что ее муж провел в Бастилии.
Вероятно, что из-за хорошо известных склонностей г-на де Конде к школярам Буржа, ни Великий Конде, ни г-жа де Лонгвиль не увидели бы свет без этих трех лет, проведенных им в Бастилии.
Господин принц был особенно известен своей скупостью. Когда у него бывали тяжбы и надо было воздействовать на судей, он ездил по Парижу верхом на иноходце с одним-единственным слугой. К Ламартельеру, прославленному адвокату того времени, он являлся в те дни, когда тот, словно врач, давал консультации бесплатно.
Всегда весьма скверно одетый, он в этот вечер позаботился о своем туалете больше, чем обычно; возможно, он знал, что увидит у принцессы Марии брата своей жены герцога де Монморанси, и оделся специально для него, ибо герцог однажды сказал, что в первый же раз, встретив его одетым не так, как подобает принцу крови, он сделает вид, что незнаком с ним.
Дело в том, что Генрих II, герцог де Монморанси, был антиподом Генриха II, принца де Конде. Брат прекрасной Шарлотты был настолько же элегантен, насколько г-н де Конде неряшлив, настолько же щедр, насколько г-н де Конде был скуп. Однажды он услышал, как некий дворянин говорил, что, если бы ему удалось достать взаймы двадцать тысяч экю на два года, он сумел бы составить себе состояние.
— Не ищите, — сказал герцог ему, — вы их уже нашли.
И на клочке бумаги написал карандашом: "Ордер на двадцать тысяч экю".
— Отнесите это завтра моему управляющему, — сказал он дворянину, — и постарайтесь преуспеть.
Два года спустя дворянин принес г-ну де Монморанси двадцать тысяч экю.
— Довольно, довольно, сударь, — сказал тот, — вполне достаточно, что вы мне их хотели вернуть; дарю их вам от всего сердца.
Он был сильно увлечен королевой в то же время, что и г-н де Бельгард, когда они едва не перерезали друг другу горло по этому поводу. Королева, кокетничавшая с обоими, не знала, кого из них слушать; но явившийся ко двору Бекингем привел их к согласию, хотя г-ну де Монморанси было всего тридцать лет, а г-ну де Бельгарду — шестьдесят. Кажется, что отставка, полученная старым дворянином, наделала не меньше шума, чем та, что была получена молодым герцогом, ибо в то время во всех альковах напевали такой куплет:
Сверкнув звездой падучей,
Роже разбился в пух,
И ныне ходит слух —
Его-де с луврской кручи,
Попав нежданно в случай,
Заморский сбил пастух.
Короли, женившись, начинают видеть так же плохо, как и остальные мужья, и Людовик XIII в связи с этой историей сослал г-на де Монморанси в Шантийи. Получив по ходатайству Марии Медичи милостивое позволение вернуться, он провел месяц при дворе и уехал в свое лангедокское губернаторство, где и получил известие о дуэли и публичной казни на Гревской площади своего кузена Франсуа де Монморанси, графа де Бутвиля.
По своей жене Марии Орсини, дочери того самого Вирджинио Орсини, что сопровождал Марию Медичи во Францию, он приходился племянником королеве-матери, чем и объясняется покровительство, которым она его удостаивала.
Ревнивая как истая итальянка, Мария Орсини, отличавшаяся, по словам поэта Теофиля, белизной небесных снегов, вначале сильно изводила своего мужа, который, согласно Таллеману де Рео, был в такой моде, что любая женщина, хоть немного думающая о любовных приключениях, всеми силами стремилась добиться его внимания. Наконец между герцогом и его женой был достигнут компромисс: она разрешала ему сколько угодно любовных шалостей при условии, что он будет ей о них рассказывать. Одна из ее подруг сказала ей как-то, что не может понять, почему она дает мужу такую свободу, а главное — почему требует рассказов.
— Ну как же! — ответила герцогиня. — Я приберегаю этот рассказ до того часа, когда мы окажемся в постели; мне это выгодно.
И в самом деле, не было ничего удивительного, что женщины — тем более женщины этой столь чувственной эпохи — проникались страстью к красивому тридцатитрехлетнему принцу, отпрыску одной из первых фамилий Франции, богачу-миллионеру, губернатору провинции, ставшему адмиралом Франции в семнадцать лет, герцогом и пэром в восемнадцать, кавалером ордена Святого Духа в двадцать пять, насчитывавшему среди своих предков четырех коннетаблей и шесть маршалов, а в своей обычной свите — сотню дворян и три десятка пажей.
В этот вечер герцог де Монморанси был красивее, чем когда-либо; поэтому, едва он вошел, все взоры обратились на него. К немалому удивлению собравшихся, он, поклонившись принцессе Марии, подошел почтительно поцеловать руку г-же де Комбале.
Со времени смерти его кузена Бутвиля (когда не столько были задеты родственные чувства герцога, сколько оскорблена его гордость тем, что одному из Монморанси отрубили голову на Гревской площади) то был первый шаг Генриха навстречу кардиналу. Однако этот демонстративный жест никого не ввел в заблуждение: неминуема была война с Савойей, Испанией, Австрией, и герцог де Монморанси собирался оспаривать у г-на де Креки меч коннетабля — тот, что во время всех больших церемоний его отец и дед несли перед королем, а затем возлагали себе на колено.
Лучше всех понял намерение герцога и больше всех уязвлен был в своих надеждах Карл Лотарингский, герцог де Г из, сын Меченого, устроившего Варфоломеевскую ночь, который родился в 1571 году, то есть за год до резни. Он, правда, больше известен был своими любовными похождениями, нежели военными подвигами, хотя мужественно проявил себя при осаде Ла-Рошели, продолжая сражаться на охваченном огнем корабле. Он претендовал если не на звание коннетабля, то, по крайней мере, на высокий пост в армии. В самом деле, если речь шла о простых дворянах, как Бассомпьер, Бельгард, Крамай и даже Шомберг, он мог командовать ими; но рядом с герцогом де Монморанси он мог быть только на вторых ролях, ибо победы герцога де Монморанси над кальвинистами (он уничтожил их флот, находившийся под командованием герцога де Субиза, отвоевал острова Олерон и Ре) в еще большей степени, чем происхождение, давали ему преимущество над всеми современными ему военачальниками.
Было между двумя герцогами и еще одно соперничество — в любовных триумфах. Хотя г-н де Гиз был курнос и невысок ростом, он унаследовал от своего отца некоторую царственность манер, сделавшую его волокитой; женщины, правда, находили у него один большой недостаток, но многие не обращали внимания на этот недостаток, который, вводя их в моду, превращался в достоинство. В царствование Генриха IV (сейчас герцог де Гиз, как мы видим по дате его рождения, приближался к своему шестидесятилетию) с ним произошло одно приключение, весьма развеселившее короля.
Однажды ночью, когда он занял — не в судейском кресле, а в постели — место некоего советника парламента (тот был в отъезде, и возвращения его ожидали лишь к полудню), этот советник неожиданно вернулся около пяти часов утра. Открыв наружную дверь своим ключом, он идет в спальню жены; по счастью, дверь закрыта на задвижку. Советнику приходится постучать и назваться; жена, спеша открыть, чтобы не быть заподозренной, едва успевает втолкнуть г-на де Гиза, голого, в комнатку, где советник хранит свои одеяния, убрать кружевной воротник герцога и осмотреть карманы его одежды, лежащей на кресле (отнести ее времени не остается); затем, протирая глаза, словно внезапно разбуженная, она открывает советнику, думая, что он сразу ляжет и заснет; тем временем она сможет выпустить любовника.
Первое, что видит советник, войдя и раздвинув оконные шторы, чтобы впустить в спальню свет, — это одежда монсеньера.
— Ба! — восклицает он, нахмурясь. — Что это за одежда, милая?
— Этот костюм принесла перекупщица; я могу его приобрести почти даром, если он вам подойдет. Но ложитесь же, отдохните, вы, должно быть, устали.
— Нет, нет, — отвечает советник, — у меня рано утром встреча во Дворце, я хочу примерить это платье прямо сейчас.
Он тут же сбрасывает свой костюм, выпачканный дорожной грязью, надевает одежду герцога и, самодовольно оглядывая себя, говорит:
— Ей-ей, это платье идет мне, будто на меня сшито. Заплатите вашей перекупщице, милая, и, если у нее есть еще одежда из того же источника, пусть принесет вам ее. А я иду во Дворец.
И действительно, задержавшись на мгновение лишь для того, чтобы найти и взять в секретере некоторые бумаги, он отбывает во Дворец, надев поверх костюма свою мантию.
Жена запирает за ним дверь спальни и идет отворить дверь комнатки.
— Ну, монсеньер, — говорит она герцогу, — вы, должно быть, совсем замерзли!
— Ничуть, — отвечает тот, — я нашел в этой комнатке одеяния вашего мужа и, пока он облачался в мое платье, проделал здесь то же самое с его одеждой. Чем я не красавец-законник?
С этими словами он выходит из комнатки в полном облачении советника, включая шапочку на голове.
Советница расхохоталась, найдя проделку забавной. Но самым забавным было то, что герцогу де Гизу (тоже рано утром) была назначена аудиенция у короля Генриха IV в Лувре, и он решил шутки ради явиться туда в костюме советника.
Король сначала не мог его узнать, а когда узнал, то полусмеясь, полусерьезно спросил о причинах этого маскарада.
Господин де Гиз рассказал ему о приключении, а поскольку рассказчиком он был отменным, король очень смеялся, но поверить отказывался.
— Ну, государь, — сказал герцог, — если вы сомневаетесь, пошлите стражника во Дворец и прикажите привести советника в Лувр. Вы увидите, что он с ног до головы одет в мое платье.
Король, никогда не упускавший возможности развлечься, счел случай вполне подходящим и послал сказать советнику, что желает немедленно с ним говорить.
Изумленный советник, терявшийся в догадках, чему он обязан такой чести, со всех ног помчался в Лувр.
Короля ничто не могло смутить, если речь шла о том, чтобы позубоскальничать (воспользуемся эти старинным словом, весьма распространенным в то время и почти изгнанным из языка, к большому нашему сожалению); он отводит советника в сторону, разговаривает с ним обо всякой всячине и в то же время расстегивает его мантию. Весьма удивленный советник смотрит и не решается ничего сказать. Вдруг король восклицает:
— Э, черт возьми! Господин советник, да на вас платье господина де Гиза!
— Как господина де Гиза? — спрашивает советник, думая, уж не помешался ли король. — Моя жена приобрела его у перекупщицы.
— Ей-Богу, — говорит король, — я не думал, что дом Гизов терпит такой крах и его глава вынужден продавать свое старое платье. Благодарю вас, господин советник: вы сообщили мне то, чего я не знал.
И он отпустил достойного советника; тот был вне себя от гордости, узнав, что на нем костюм лотарингского принца. Вернувшись домой, он прежде всего сказал жене:
— Знаете ли, милая, чья на мне одежда?
— Ей-Богу, нет, — отвечала она в некотором беспокойстве.
— Так вот, — гордо выпрямляясь, произнес советник, — это одежда монсеньера герцога де Гиза.
— Кто вам это сказал? — в ужасе проговорила советница.
— Король, и если вы можете купить другие костюмы герцога по той же цене, покупайте.
— Хорошо, друг мой, — отвечала советница, — теперь, когда у меня есть ваше разрешение, я попытаюсь по той же цене скупить весь его гардероб.
Господин де Гиз был весьма рассеян; именно рассеянности обязан он был одним из своих приключений. Однажды он, отослав свою карету, засиделся за картами у г-на де Креки. Чтобы гостю не пришлось возвращаться пешком в свой особняк, расположенный достаточно далеко, Креки велел оседлать для принца свою лошадь. Господин де Гиз садится на иноходца и, ни о чем больше не заботясь, вместо того чтобы управлять конем, погружается в мечтания и предоставляет ему везти себя. А тот, привыкший в этот час доставлять г-на де Креки к его любовнице, везет г-на де Гиза прямо туда и останавливается у ее двери. Тут г-н де Гиз приходит в себя и, хоть не узнает дома, догадывается, что здесь его ждет славное приключение. Он сходит с коня, закутывается в плащ и стучит.
Хорошенькая служанка открывает дверь, дает легкий шлепок иноходцу, который направляется прямо в конюшню, где его ждет порция овса, и по лестнице, освещенной ровно настолько, чтобы не сломать шею, ведет г-на де Гиза в комнату, освещенную не лучше лестницы. Чувствуется, что кавалера, как и коня, в этом доме привыкли хорошо принимать. Кавалер был встречен с распростертыми объятиями. Говорили шепотом. Двигались в темноте. Господин де Гиз, будучи другом г-на де Креки, в общении с ним, вероятно, перенял его повадки, так что дама уснула, не заметив своей ошибки. Но утром ее разбудило то, что г-н де Гиз переворачивался с боку на бок.
— Господи, что с вами, друг мой? — спросила она.
— Я хотел бы, — отвечал г-н де Гиз (он был столь же нескромен, сколь рассеян), — я хотел бы уже встать и пойти рассказать всем моим друзьям о том, как вы провели ночь с господином де Гизом, думая, что проводите ее с господином де Креки.
При всех недостатках г-н де Гиз обладал важным достоинством: он был очень щедр. Как-то утром президент де Шеври прислал ему с Рафаэлем Корбинелли (отцом Жана Корбинелли, получившего известность благодаря дружескому расположению к нему г-жи де Севинье) пятьдесят тысяч ливров, выигранных герцогом накануне. Деньги лежали в пяти мешках: четырех больших по десять тысяч ливров серебром в каждом и одном маленьком, где было десять тысяч ливров золотом.
Корбинелли хотел пересчитать деньги, но герцог не позволил ему. Однако, заметив маленький мешок и не поинтересовавшись, что в нем находится, он сказал:
— Возьмите, друг мой, это вам за труды.
Корбинелли, вернувшись к себе, открыл мешок и обнаружил в нем десять тысяч ливров золотом. Он тут же вернулся к г-ну де Гизу.
— Монсеньер, — сказал он, — вы, видимо, ошиблись: дали мне мешок с золотом, думая, что в нем серебро.
Но герцог де Гиз, выпрямившись во весь свой небольшой рост, ответил:
— Берите, берите, сударь. Принцы моего дома не имеют обыкновения брать назад то, что дали.
И Корбинелли взял эти десять тысяч франков.
В ту минуту, когда доложили о г-не де Монморанси, г-н де Гиз искал ссоры с г-ном де Граммоном так, как умел это делать только он.
— Позвольте сказать вам, дорогой мой, — обратился он к г-ну де Граммону, — что я вами недоволен.
— Но не по поводу игры, герцог? — ответил тот. — Вы у меня выигрываете ежегодно в среднем около ста тысяч ливров, так что моя жена предложила вам, в обмен на слово не играть больше со мной, годовую ренту в десять тысяч экю.
— Чтобы я отказался?! Нет, клянусь честью! Я бы слишком много потерял. Но речь вовсе не об этом.
— О чем же тогда?
— Как? Я неделю назад сказал вам — ибо знаю, что после меня вы самый болтливый человек, — что добился высших свидетельств благосклонности от госпожи де Сабле; вы должны были разнести это по Парижу и не сказали ни слова!
— Я боялся, — ответил, смеясь, г-н де Граммон, — поссорить вас с господином де Монморанси.
— Неужели? — сказал г-н де Гиз. — Я думал, между ними все кончено.
— Вы же видите, что нет: вон они спорят.
И действительно, между маркизой и герцогом шел спор.
— Постарайтесь узнать, о чем, дорогой граф, — попросил герцог де Гиз, — и потом скажите мне.
Граф приблизился к спорящим.
— Сударь, — говорила маркиза, — это нестерпимо. Мне рассказали, как на последнем балу в Лувре, пользуясь тем, что я была больна, вы танцевали только с самыми красивыми дамами двора.
— Но, дорогая маркиза, что я, по-вашему, должен был делать? — спросил герцог.
— Танцевать с самыми уродливыми, сударь!
Граф де Граммон, подошедший как раз во время этого диалога, рассказал о нем герцогу.
— По правде говоря, граф, — сказал тот, — я считаю, сейчас вам самое время сообщить господину де Монморанси секрет, о котором я вам рассказал; вы ему окажете услугу.
— Клянусь честью, нет! — ответил граф. — Я не сказал бы об этом мужу, а тем более любовнику.
— Ну что ж, — вздохнул герцог, — тогда я пойду скажу ему сам.
И он сделал несколько шагов в направлении герцога де Монморанси; но тут двери гостиной распахнулись настежь и придверник возгласил:
— Его королевское высочество монсеньер Гастон Орлеанский!
Все разговоры смолкли; те, кто стоял, застыли; те, кто сидел, встали, в том числе и принцесса Мария.
"Ну вот, — сказала себе, вставая, г-жа де Комбале, наперсница кардинала, — комедия начинается. Постараемся не пропустить ни слова из того, что будет сказано на сцене, а если удастся, увидеть то, что произойдет за кулисами".
III
НАЧАЛО КОМЕДИИ
В самом деле, это был первый случай, когда герцог Орлеанский открыто, на большом званом вечере появился у принцессы Марии Гонзага.
Было заметно, что он уделил своему туалету необыкновенное внимание. На нем был белый бархатный камзол с золотыми позументами, такой же плащ, подбитый вишневым атласом, и бархатные штаны того же цвета, что и подкладка плаща. На голове у него — нет, в руке, ибо он вопреки своим привычкам, входя в гостиную, обнажил голову, что было всеми замечено, — итак, в руке у него была белая фетровая шляпа с бриллиантовой петлицей и вишневого цвета перьями. Завершали этот туалет шелковые чулки и белые атласные туфли. Масса лент двух выбранных им цветов обильно и изящно выступала из всех прорезей камзола и возле подвязок.
Монсеньера Гастона мало любили и еще меньше уважали. Мы уже говорили, какой вред нанесло ему в этом смелом, изящном и рыцарственном обществе его поведение на процессе Шале; поэтому встречен он был всеобщим молчанием.
Слыша, что докладывают о нем, принцесса Мария бросила понимающий взгляд на вдовствующую герцогиню де Лонгвиль. Днем пришло письмо от его королевского высочества: принц извещал г-жу де Лонгвиль о своем вечернем визите и просил, если это возможно, предоставить ему несколько минут для разговора с принцессой Марией, для которой, по его словам, у него есть сообщение чрезвычайной важности.
Он подошел к принцессе Марии, насвистывая какой-то охотничий мотивчик; но, поскольку было известно, что даже присутствие королевы не мешает ему свистеть, никто не обратил внимания на это нарушение приличий, в том числе и принцесса Мария, грациозно протянувшая ему руку.
Принц прильнул к ней долгим и крепким поцелуем. Затем он учтиво приветствовал госпожу вдовствующую герцогиню де Лонгвиль, слегка поклонился г-же де Комбале и обратился к кавалерам и дамам, окружавшим принцессу Марию:
— Право же, дамы и господа, рекомендую вам новое изобретение господина Сукарьера; нет ничего удобнее, клянусь честью. Вы с ним уже знакомы, принцесса?
— Нет, монсеньер, я только слышала о нем от нескольких человек, прибывших сегодня ко мне в этом средстве передвижения.
— Это в самом деле удобнейшая вещь, и, хотя мы с господином де Ришелье не столь уж большие друзья, я могу только радоваться этому изобретению, на которое он дал привилегию господину де Бельгарду. Его отец, великий конюший, за всю жизнь не изобрел ничего подобного, и я предложил бы отдать доходы от всех его должностей сыну за услугу, какую он нам оказывает. Вообразите, принцесса: нечто вроде ручной тележки, очень чистой, внутри обитой бархатом, со стеклами, если вы хотите смотреть, и занавесками, если не хотите, чтобы вас видели; сидеть очень удобно. Есть портшезы на одного, есть на двоих. Несут это сооружение овернцы, двигающиеся шагом, рысью или галопом, смотря по необходимости… и по оплате экипажа. Я испробовал шаг, пока был в Лувре, и рысь, когда покинул дворец. Шаг у них очень размеренный, рысь очень мягкая. И что удобно — в плохую погоду они могут зайти за вами прямо в вестибюль, куда не могут въехать кареты; чудесно и то, что нет подножки, так что вы не рискуете запачкаться. Ваш стул — это устройство называется стулом — опускают, и, когда вы выходите, ваши ноги оказываются на уровне пола. Клянусь, не я буду виной, если это изобретение не войдет в моду. Я вам его рекомендую, герцог, — обратился он к Монморанси, приветствуя его кивком.
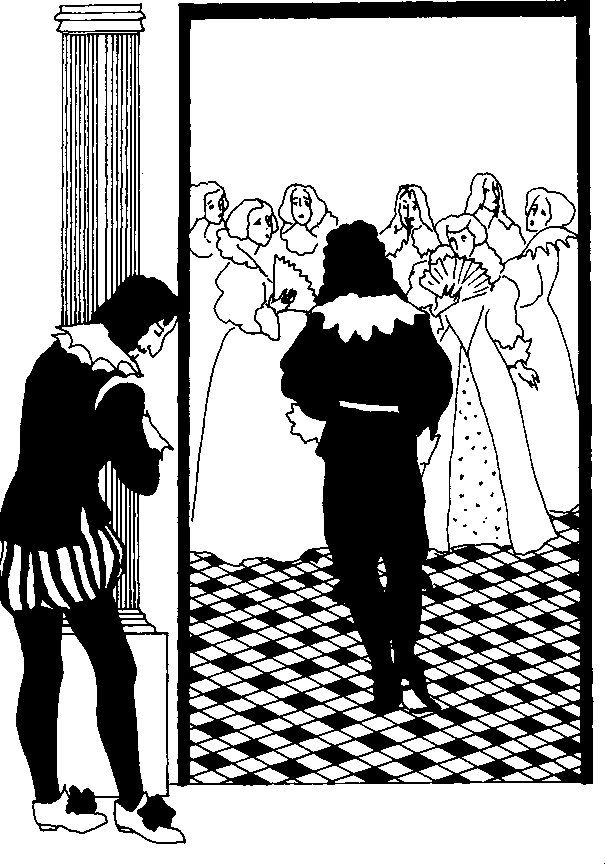
— Я как раз сегодня им воспользовался, — ответил герцог с поклоном, — и полностью разделяю мнение вашего высочества.
Гастон повернулся к герцогу де Гизу:
— Здравствуйте, кузен. Каковы военные новости?
— Об этом надо спрашивать вас, монсеньер. Чем ближе к нам солнечные лучи, тем лучше они нам все освещают.
— Да, если не ослепляют нас. Я же от политики один глаз, по меньшей мере, потерял и, если так будет продолжаться, попрошу принцессу Марию, чтобы она выхлопотала мне комнату у своих соседей, господ Трехсот.
— Если вашему высочеству угодно знать новости, мы можем их сообщить: меня уведомили, что мадемуазель Изабелла де Лотрек после дежурства у королевы прибудет сюда, чтобы сообщить нам содержание письма, полученного от ее отца барона де Лотрека, — он, как вам известно, находится в Мантуе при герцоге Ретельском.
— Но можно ли объявлять эти новости во всеуслышание? — спросил монсеньер Гастон.
— Барон считает, что можно, монсеньер, и говорит в письме об этом.
— В обмен, — сказал Гастон, — я расскажу вам альковные новости, единственные интересующие меня с тех пор, как я отказался от политики.
— Расскажите, монсеньер! Расскажите! — смеясь, воскликнули дамы.
Госпожа де Комбале, по обыкновению, прикрыла лицо веером.
— Держу пари, — сказал герцог де Гиз, — что речь пойдет о моем негодяе-сыне.
— Именно. Вы знаете, что он заставляет подавать себе рубашку, точно принцу крови. Восемь или десять человек по глупости взяли на себя эту обязанность. Но несколько дней назад он поручил это аббату де Рецу; тот, делая вид, что хочет согреть рубашку, уронил ее в огонь, где она и сгорела; после чего аббат взял шляпу и с поклоном удалился.
— Клянусь, он отлично поступил, — сказал герцог де Гиз, — и я его с этим поздравлю, как только увижу.
— Позволю себе заметить, — произнесла г-жа де Комбале, — что ваш сын совершил нечто еще худшее.
— О, расскажите, расскажите, сударыня! — попросил г-н де Гиз.
— Так вот: когда он в последний раз навещал в Реймсе свою сестру, госпожу де Сен-Пьер, то, пообедав с нею в приемной, вошел затем на территорию монастыря как принц. Там он с резвостью своих шестнадцати лет начал бегать за монахинями, поймал самую красивую и насильно поцеловал ее. "Брат мой! — закричала госпожа де Сен-Пьер. — Брат мой! Что вы делаете! Это Христовы невесты!" — "Ну и что? — ответил негодник. — Бог достаточно могуществен, он не позволил бы целовать своих невест, не будь на то его воли". — "Я пожалуюсь королеве!" — сказала оскорбленная монахиня (она была очень красива). Аббатиса испугалась. "Поцелуйте и вон ту тоже", — сказала она принцу. "Ах, сестра моя! Она очень уродлива!" — "Тем более; все будет выглядеть бессознательной детской шалостью". — "Нужно ли это, сестра моя?" — "Обязательно, иначе красавица пожалуется". — "Ну что ж, как она ни уродлива, раз вы этого хотите, я ее поцелую". И поцеловал. Уродина была весьма признательна и предотвратила жалобу красавицы.
— Откуда вам это известно, прекрасная вдова? — спросил герцог г-жу де Комбале.
— Госпожа де Сен-Пьер прислала отчет моему дяде; но он питает такую слабость к дому де Гизов, что только посмеялся над этим происшествием.
— Я встретил вашего сына примерно месяц назад, — сказал принц де Конде, — у него на шляпе вместо пера был желтый шелковый чулок. Что означает эта новая выходка?
— Это означает, — ответил герцог Орлеанский, — что тогда он был влюблен в Вилье из Бургундского отеля, а на ней в одной из ролей были желтые чулки. Он передал ей через Тристана л’Эрмита комплименты по поводу ее ножки. Она сняла один чулок и отдала его Тристану со словами: "Если господин де Жуэнвиль согласится три дня носить этот чулок на своей шляпе вместо перьев, он может после этого требовать от меня что угодно".
— И что же? — спросила г-жа де Сабле.
— Так вот, он носил чулок три дня, и мой кузен де Гиз, его отец, скажет вам, что на четвертый день его сын вернулся в особняк Гизов лишь в одиннадцать часов утра.
— Ничего себе жизнь для будущего архиепископа! — произнесла г-жа де Сабле.
— А сейчас, — продолжал его королевское высочество, — он влюблен в мадемуазель де Понс, пышную толстощекую блондинку из штата королевы. На днях она принимала слабительное. Он узнал адрес ее аптекаря, взял то же самое лекарство и написал ей: "Никто не сможет сказать, что вы принимали слабительное, а я не делал этого одновременно с вами".
— Ах, теперь я понимаю, — сказал герцог, — почему метр сумасброд созвал в особняк Гизов всех парижских вожаков ученых собак. Вообразите, на днях я возвращаюсь домой и вижу, что двор полон собак в самых разнообразных костюмах. Их там было не меньше трехсот, и при них три десятка уличных комедиантов; каждый держал свою свору. "Что это ты делаешь, Жуэнвиль?" — спросил я его. "Я устроил себе спектакль, отец", — ответил он. Вы догадываетесь, зачем он созвал всех этих фигляров? Чтобы пообещать им по луидору, если через три месяца три сотни парижских ученых собак будут прыгать только в честь мадемуазель де Понс.
— Кстати, — сказал Гастон, из-за своего беспокойного характера считавший, что незачем так долго говорить об одном и том же, — дорогая герцогиня, вы, как соседка, должны знать, как дела у бедного Пизани? Вуатюр сказал мне вчера, что они не так уж плохи.
— Я справлялась сегодня утром, и мне ответили, что теперь врачи не опасаются за его жизнь.
— Сейчас у нас будут свежие новости, — вступил в разговор герцог де Монморанси. — Я покинул графа де Море у дверей особняка Рамбуйе, где он хотел сам все разузнать.
— Как? Граф де Море? — спросила г-жа де Комбале. — А говорили, что Пизани хотел подослать к нему убийцу?
— Да, — отозвался герцог, — но, кажется, это было недоразумение.
В эту минуту отворилась дверь и слуга объявил:
— Монсеньер Антуан де Бурбон, граф де Море.
— Ну вот и он, — сказал герцог. — Он сам все вам расскажет, притом лучше, чем я, начинающий спотыкаться, если приходится сказать подряд двадцать слов.
Вошел граф де Море, и все взоры обратились на него (прежде всего, мы должны сказать, что то были взоры женщин).
Не будучи пока представлен принцессе Марии, он остановился в дверях, ожидая г-на де Монморанси; тот, подойдя, отвел графа к принцессе, проделав все это быстро и с присущим ему изяществом.
Молодой принц не менее грациозно поклонился принцессе, поцеловал ей руку, в нескольких словах рассказал ей о герцоге Ретельском, с которым он виделся, проезжая через Мантую; поцеловал руку г-же де Лонгвиль; поднял букет, упавший с апостольника г-жи де Комбале, когда она посторонилась, давая графу дорогу, и отдал ей этот букет с очаровательным поклоном; низко поклонился монсеньеру Гастону и скромно занял свое место возле герцога де Монморанси.
— Дорогой принц, — сказал ему тот, когда церемония поклонов была закончена, — перед самым вашим приходом здесь говорили о вас.
— Полно! Неужели я такая значительная особа, чтобы мною занималось столь приятное общество?
— Вы совершенно правы, монсеньер, — послышался женский голос, — стоит ли заниматься человеком, которого хотели убить за то, что он любовник сестры Марион Делорм?
— О-о! — воскликнул принц, — этот голос мне знаком. Не принадлежит ли он моей кузине?
— Ну да, метр Жакелино! — сказала г-жа де Фаржи, подойдя к нему и протянув руку.
Граф де Море, пожимая ей руку, тихо сказал:
— Знаете, мне нужно вас увидеть — необходимо с вами поговорить. Я влюблен.
— В меня?
— Немного, но в другую — очень.
— Наглец! Как ее зовут?
— Я не знаю ее имени.
— Она, по крайней мере, красива?
— Я ни разу ее не видел.
— Молода?
— Должно быть.
— Почему вы так думаете?
— Я слышал ее голос, я касался ее руки, я впивал ее дыхание.
— Ах, кузен, как вы об этом говорите!
— Мне двадцать один год. Я говорю об этом так, как чувствую.
— О юность, юность! — произнесла г-жа де Фаржи. — Бесценный алмаз, что так быстро тускнеет!
— Дорогой граф, — прервал их герцог, — да будет вам известно, что все дамы завидуют вашей кузине — по-моему, вы так назвали госпожу де Фаржи — и хотят знать, почему вы решили нанести визит человеку, хотевшему, чтобы вас убили.
— Во-первых, — ответил граф де Море со своим очаровательным легкомыслием, — потому, что я еще не стал кузеном госпожи де Рамбуйе, но когда-нибудь непременно стану.
— Через кого? — спросил герцог Орлеанский, хваставшийся знанием всех генеалогий. — Объясните нам, господин де Море!
— Да через мою кузину де Фаржи, вышедшую замуж за господина де Фаржи д’Анженна, кузена госпожи де Рамбуйе.
— Но каким образом вы приходитесь кузеном госпоже де Фаржи?
— А вот это, — отвечал граф де Море, — наш секрет, не правда ли, кузина Марина?
— Да, кузен Жакелино, — подтвердила со смехом г-жа де Фаржи.
— Кроме того, прежде чем стать кузеном госпожи де Рамбуйе, я был одним из ее добрых друзей.
— Но я, — возразила г-жа де Комбале, — всего раз или два видела вас у нее.
— Она попросила меня прекратить визиты.
— Почему? — заинтересовалась г-жа де Сабле.
— Потому что господин де Шеврез ревновал меня.
— К кому?
— Сколько нас в этой гостиной? Примерно тридцать. Даю любому за этот секрет по тысяче. Это составит тридцать тысяч.
— Мы отказываемся разгадать, — заявил Месье.
— К своей жене.
Слова графа были встречены громким раскатом хохота.
— Однако, — сказала г-жа де Монбазон, опасавшаяся, что от ее падчерицы перейдут к ней, — граф не досказал историю о том, как его хотели убить.
— Ах, черт возьми, все очень просто. Скомпрометирую ли я госпожу де ла Монтань, сказав, что был ее любовником?
— Не больше, чем госпожу де Шеврез, — сказала г-жа де Сабле.
— Так вот, бедный Пизани решил, что мое счастье составила госпожа де Можирон. Искривление фигуры делает его обидчивым, беспристрастный голос зеркала делает его раздражительным. Вместо того чтобы вызвать меня на поединок — я бы охотно согласился, — он поручил свою месть сбиру. Тот был честным человеком и отказался. Вы видите, что Пизани не везет. Он хотел убить сбира — не удалось, хотел убить Сукарьера — тот чуть не убил его. Вот и вся история.
— Нет, это не вся история, — настаивал Месье. — Почему вы решили нанести визит человеку, хотевшему вас убить?
— Да потому, что он-то не мог ко мне прийти. У меня добрая душа, монсеньер. Я подумал: может быть, бедный Пизани думает, что я на него сержусь и что это может стать его кошмаром. Я пришел, чтобы откровенно пожать ему руку и сказать, что, если впредь он или кто-то другой будет мною недоволен, пусть вызовет меня на поединок. Я всего лишь простой дворянин и не считаю себя вправе отказать в удовлетворении тому, кого оскорблю. Но я постараюсь не оскорблять никого.
Молодой человек произнес эти слова так мягко и вместе с тем решительно, что в ответ на его открытую и честную улыбку послышался одобрительный шепот.
Едва он умолк, как дверь отворилась и слуга доложил:
— Мадемуазель Изабелла де Лотрек.
Она появилась в дверях; за ней можно было различить сопровождавшего ее выездного лакея в дворцовой ливрее.
При виде молодой девушки граф де Море испытал какое-то непонятное притяжение и сделал шаг вперед, будто собираясь подойти к ней.
Она, грациозная и смущенная, приблизилась к принцессе Марии, сидевшей в кресле, и, почтительно склонившись, произнесла:
— Сударыня, ее величество отпустила меня, чтобы я передала вашему высочеству письмо моего отца, содержащее хорошие новости для вас; я пользуюсь высочайшим разрешением, чтобы почтительно повергнуть это письмо к вашим стопам.
При первых же словах, произнесенных мадемуазель де Лотрек, графа де Море охватил трепет. Схватив и с силой сжав руку г-жи де Фаржи, он прошептал:
— О, это она!.. Это она!.. Та, которую я люблю!
IV
ИЗАБЕЛЛА И МАРИНА
Как уже решил граф де Море, не зная ни девушки, ни ее имени, и решил благодаря той чудесной интуиции юности, что оказывается непогрешимее чувств, мадемуазель Изабелла де Лотрек обладала совершенной красотой, но совсем не такой, как у принцессы Марии.
Принцесса Мария была брюнетка с голубыми глазами, Изабелла де Лотрек — блондинка с черными глазами и черными бровями и ресницами. Ее кожа удивительной белизны, тонкая едва не до прозрачности, имела нежный оттенок розового лепестка; немного длинная шея отличалась очаровательным изгибом, какой мы находим у женщин Перуджино и на ранних полотнах его ученика Санти. Кисти ее рук, удлиненные, тонкие и белые, казались слепком с рук "Ферроньеры" Леонардо да Винчи. Платье со шлейфом не позволяло увидеть даже очертания ее ног, но по стремительности движений, по гибкости и тонкости талии можно было угадать, что нога должна гармонировать с рукой, то есть быть тонкой, изящной, с красивым выгибом ступни.
Когда она склонилась перед принцессой, та обняла ее и поцеловала в лоб.
— Боже меня сохрани от того, — сказала она, — чтобы я позволила склоняться передо мной дочери одного из вернейших слуг нашей семьи, приславшего мне добрые вести. Скажите, милая дочь нашего друга, что пишет вам отец: это новости для меня одной или я могу ими поделиться с теми, кого мы любим?
— Вы увидите из постскриптума, сударыня, что моему отцу позволено господином де Ла Салюди, послом его величества, открыто распространить в Италии новости, что он вам сообщает, а ваше высочество, со своей стороны, может распространить их во Франции.
Принцесса Мария вопросительно взглянула на г-жу де Комбале; та едва заметным кивком подтвердила слова прекрасной вестницы.
Мария сначала прочла письмо про себя.
Пока она читала, девушка, видевшая до сих пор одну принцессу — остальные двадцать пять или тридцать человек, находившиеся в гостиной, промелькнули перед ней подобием миража, — обернулась и, если можно так сказать, отважилась обвести глазами собравшееся общество.
Она увидела графа де Море; в их встретившихся взглядах вспыхнула та стремительная электрическая искра, что подчиняет своей власти сердце, получает удар и наносит его.
Изабелла, побледнев, оперлась о кресло принцессы.
Граф де Море видел ее волнение; ему казалось, будто он слышит небесное пение ангелов, славящих Бога.
Придверник объявил ее имя; она принадлежала к старинному и славному роду Лотреков, по известности в истории почти равному принцам.
Она еще никого не любила; до сих пор он на это надеялся, теперь был в этом уверен.
Тем временем принцесса Мария дочитала письмо.
— Господа, — сказала она, — вот что сообщает нам отец моей дорогой Изабеллы. Он виделся с находившимся проездом в Мантуе господином де Ла Салюди, чрезвычайным послом его величества при итальянских дворах. Господину де Ла Салюди было поручено от имени кардинала объявить герцогу Мантуанскому и сенату Венеции о взятии Ла-Рошели. Кроме того, ему поручено было заявить, что Франция собирается защищать Казаль и обеспечить герцогу Карлу де Неверу обладание его землями. Проезжая через Турин, он виделся с герцогом Савойским Карлом Эммануилом и предложил ему от имени короля, шурина его сына, и от имени кардинала отказаться от попыток завладеть Монферратом. Ему было поручено пообещать герцогу Савойскому в качестве возмещения город Трино с его двенадцатью тысячами экю ренты от суверенных земель.
Господин де Ботрю отправился в Испанию, а господин де Шарнасе — в Австрию, Германию и Швецию с теми же инструкциями.
— Что ж, — сказал Месье, — надеюсь, кардинал не втянет нас в союз с протестантами.
— Однако же, — возразил принц де Конде, — если бы это оказалось единственным средством удержать в Германии Валленштейна и его бандитов, я бы не стал возражать.
— Ну вот, — проворчал Гастон Орлеанский, — заговорила гугенотская кровь.
— Полагаю, — возразил, смеясь, принц, — что в жилах вашего высочества столько же гугенотской крови, сколько в моих: единственная разница между Генрихом Наваррским и Генрихом де Конде в том, что одному месса принесла королевство, а другому — ровным счетом ничего.
— Все равно, господа, — сказал герцог де Монморанси, — новость важная. Намечен ли уже тот генерал, кому будет доверено командование армией, посылаемой в Италию?
— Еще нет, — ответил Месье, — но есть вероятность, господин герцог, что кардинал, купивший у вас за миллион ваши обязанности адмирала, чтобы иметь возможность вести осаду Ла-Рошели по своему усмотрению, купит за миллион право лично руководить итальянской кампанией, и даже за два миллиона, если будет нужно.
— Признайтесь, монсеньер, — сказала г-жа де Комбале, — что, если бы он руководил этой кампанией так же, как осадой Ла-Рошели, ни у короля, ни у Франции не было бы оснований жаловаться и многие из тех, кто просит миллион, вместо того чтобы дать его, возможно, не справились бы с делом так успешно.
Гастон закусил губы. Вытребовав себе пятьсот тысяч франков на походные издержки, он так и не появился при осаде Ла-Рошели.
— Надеюсь, монсеньер, — сказал герцог де Гиз, — что вы не упустите случая заявить о своих правах.
— Если добьюсь я, — отвечал Месье, — то вместе со мной будете вы, мой кузен. Я достаточно получил от дома Гизов при посредстве мадемуазель де Монпансье и счастлив доказать вам, что не отношусь к числу неблагодарных. И вам тоже, мой дорогой герцог, — продолжал Гастон, подходя к г-ну де Монморанси, — я был бы особенно рад прекрасному случаю загладить несправедливости, совершавшиеся до сих пор в отношении вас. В собрании оружия вашего отца есть меч коннетабля, и он не кажется мне слишком тяжелым для руки сына. Однако если это произойдет, не забудьте, дорогой герцог: мне будет приятно видеть, что мой дражайший брат граф де Море находится рядом с вами и получает боевое крещение под таким прекрасным руководством.
Граф де Море поклонился. Герцог, чьим заветным чаяниям польстило обещание Гастона, ответил:
— Вот слова, сказанные не впустую, монсеньер. Как только представится случай, ваше высочество убедится, что у меня хорошая память.
В эту минуту появившийся из боковой двери придверник тихонько сказал несколько слов госпоже вдовствующей герцогине де Лонгвиль, и она тотчас вышла в эту же дверь.
Мужчины столпились вокруг Месье. Уверенность в предстоящей войне — ибо ясно было, что Савоец не даст снять блокаду Казаля, испанцы не отдадут Монферрат и Фердинанд будет препятствовать тому, чтобы герцог Неверский утвердился в Мантуе, — делала Месье весьма значительной фигурой. Немыслимо было, чтобы подобная кампания состоялась без него; а высокий пост в армии позволит ему распоряжаться не одной прекрасной командной должностью.
Придверник через мгновение появился снова и что-то тихо сказал принцессе Марии; она вышла вместе с ним в ту же дверь, что и г-жа де Лонгвиль.
Госпожа де Комбале, стоявшая около принцессы, вздрогнула, расслышав имя Вотье. Как мы помним, Вотье был тайным поверенным королевы-матери.
Через пять минут тот же придверник пригласил монсеньера Гастона присоединиться к вдовствующей герцогине де Лонгвиль и принцессе Марии.
— Господа, — сказал принц, поклонившись собеседникам, — не забывайте, что я ничего не знаю, что я стремлюсь к единственной цели на свете — быть рыцарем принцессы Марии и что, будучи ничем, я ничего никому не обещал!
С этими словами, надев шляпу, он удалился подпрыгивающей походкой, заложив, по обыкновению, руки в карманы штанов.
Едва он скрылся, как граф де Море, воспользовавшись всеобщим изумлением от последовательного исчезновения вдовствующей герцогини де Лонгвиль, принцессы Марии и его королевского высочества Месье, пересек гостиную, подошел к Изабелле де Лотрек и, склонившись перед покрасневшей от смущения девушкой, сказал:
— Мадемуазель, будьте твердо уверены в том, что на свете есть человек, давший в ту ночь, когда он встретился с вами, не видя вас, клятву принадлежать вам в жизни и в смерти; сегодня, увидев вас, он повторяет свою клятву. Этот человек — граф де Море.
И не ожидая ответа девушки, еще больше покрасневшей и еще сильнее смущенной, он, почтительно поклонившись, вышел.
Проходя темным коридором в едва освещенную (как было обычно в ту эпоху) переднюю, граф де Море почувствовал, что его берут под руку; затем по его лицу пронеслось обжигающее дыхание, исходившее из-под черного капюшона, подбитого розовым атласом, и чей-то голос с мягким упреком произнес:
— Итак, бедная Марина принесена в жертву.
Он узнал голос, но еще больше — жаркое дыхание г-жи де Фаржи, уже однажды, в гостинице "Крашеная борода", на миг коснувшееся его лица.
— Граф де Море от нее ускользает, это правда, — сказал он, склоняясь к этому ненасытному дыханию, исходящему, казалось, из уст самой Венеры — Астарты, — но…
— Но что? — спросила спутница, поднявшись на цыпочки, так что, несмотря на темноту, молодой человек смог различить под капюшоном глаза, сверкающие, как два черных алмаза, и зубы, подобные нитке жемчуга.
— Но, — продолжал граф де Море, — ей остается Жакелино, и если она этим удовольствуется…
— Она этим удовольствуется, — сказала чаровница.
И тут же молодой человек ощутил на своих губах острый и сладкий укус той любви, какую античность, имевшая название для каждого предмета и имя для каждого чувства, звала словом "эрос".
В то время как, едва держась на ногах от страстной дрожи, пробежавшей по его венам и, казалось, заставившей всю кровь до последней капли прихлынуть к сердцу, Антуан де Бурбон, зажмурясь, с полуоткрытым ртом и откинутой назад головой прижался к стене, издав вздох, похожий на жалобу, прекрасная Марина высвободила свою руку и, легкая, как птица Венеры, юркнула в портшез, сказав:
— В Лувр.
— Ей-Богу, — сказал граф де Море, отделяясь от стены, куда он, казалось, врос, — да здравствует Франция, страна любовных связей! В них, по крайней мере, есть разнообразие. Всего две недели как я вернулся, а я уже связан с тремя женщинами, хотя на самом деле люблю только одну. Но, черт возьми, быть сыном Генриха Четвертого не пустяк! И если бы у меня было шесть любовных увлечений вместо трех, я постарался бы достойно их встретить!
Опьяненный, ничего не видя, спотыкаясь, он вышел на крыльцо, подозвал свой портшез и, размышляя об этой тройной любви, велел доставить себя в особняк Монморанси.
V
ГЛАВА, В КОТОРОЙ МОНСЕНЬЕР ГАСТОН, ПОДОБНО КОРОЛЮ КАРЛУ IX, ИСПОЛНЯЕТ СВОЮ МАЛЕНЬКУЮ РОЛЬ
Видя, как вдовствующая герцогиня де Лонгвиль, принцесса Мария и монсеньер Гастон скрылись за одной и той же дверью по зову одного и того же слуги, собравшиеся решили, что произошло нечто из ряда вон выходящее, и — то ли из скромности, то ли потому, что часы, пробив одиннадцать, указывали время ухода, — подождав несколько минут, удалились.
Вместе с другими собиралась уйти и г-жа де Комбале, но придверник, поджидавший ее в уже упомянутом нами темном коридоре, тихо сказал ей:
— Госпожа вдовствующая герцогиня будет вам очень обязана, если вы перед уходом заглянете к ней.
С этими словами он открыл дверь маленького будуара, попросив подождать.
Госпожа де Комбале не ошибалась, думая, что услышала имя Вотье.
Вотье действительно был послан к г-же де Лонгвиль, чтобы предупредить ее, что королева-мать с сожалением видит, как два-три визита Гастона Орлеанского к Марии Гонзага превращаются в регулярные и частые.
Поэтому г-жа де Лонгвиль позвала племянницу, желая передать ей слова королевы-матери.
Принцесса Мария, обладавшая искренним и честным характером, предложила немедленно позвать принца и попросить у него объяснений. Вотье хотел удалиться, но вдовствующая герцогиня и принцесса потребовали, чтобы он остался и повторил принцу то, что сказал им.
Мы видели, как принц вышел из гостиной.
Придверник проводил Гастона в кабинет, где его ждали.
Увидя Вотье, он изобразил крайнее удивление, окинул посланца королевы суровым взглядом и, подойдя к нему, спросил:
— Что вы здесь делаете, сударь, и кто вас прислал?
Вотье, несомненно, знал, что гнев королевы был притворным, ибо вместе с ней он прочел совет герцога Савойского, исполняемый в эти минуты, но не знал, насколько Гастон посвящен в эту мнимую распрю, что должна была в глазах всех разъединить мать и сына.
— Монсеньер, — отвечал он, — я всего лишь нижайший слуга королевы, вашей августейшей матери и, следовательно, обязан исполнять ее приказания. Я пришел по ее повелению, чтобы просить госпожу вдовствующую герцогиню де Лонгвиль и госпожу принцессу Марию не поощрять любовь, противоречащую воле короля и королевы-матери.
— Вы слышали, монсеньер, — сказала г-жа де Лонгвиль. — Королевское желание, выраженное подобным образом, — это почти обвинение. Зная вашу искренность, мы ожидаем, что ваше высочество без утайки расскажет ее величеству королеве о причине ваших визитов и о том, с какой целью они делались.
— Господин Вотье, — произнес герцог тем крайне высокомерным тоном, какой он умел принимать в нужных случаях (а еще чаще безо всякого повода), — вы достаточно осведомлены о важных событиях, происшедших при французском дворе с начала этого столетия, и не можете не знать день и год моего рождения.
— Боже меня избави забыть, монсеньер. Ваше высочество родились двадцать пятого апреля тысяча шестьсот восьмого года.
— Так вот, сударь, сегодня тринадцатое декабря тысяча шестьсот двадцать восьмого года — иными словами, мне двадцать лет семь месяцев и девятнадцать дней. И я уже тринадцать лет семь месяцев и девятнадцать дней тому назад вышел из-под женской опеки. К тому же первый раз меня женили против моей воли. Я достаточно богат, чтобы сделать богатой мою жену, если она бедна, достаточно родовит, чтобы сделать ее благородной, если она простого звания, и я рассчитываю во второй раз — поскольку интересы государства не имеют отношения к младшему в семье, — я рассчитываю во второй раз жениться по своему усмотрению.
— Монсеньер, — сказали одновременно г-жа де Лонгвиль и ее племянница, — хотя бы ради нас не требуйте, чтобы господин Вотье вернулся с подобным ответом к ее величеству королеве, вашей матери.
— Господин Вотье, если это его устроит, может сказать, что я не ответил; тогда я, вернувшись в Лувр, сам отвечу госпоже моей матери.
И он сделал Вотье знак удалиться. Тот, опустив голову, повиновался.
— Монсеньер… — начала г-жа де Лонгвиль.
Но Гастон прервал ее:
— Сударыня, уже многие месяцы, а вернее — с тех пор как ее увидел, я люблю принцессу Марию. Из уважения к ней и к вам я, вероятно, не сделал бы этого признания, пока мне не исполнился бы двадцать один год, ибо ей, благодарение Богу, всего шестнадцать лет и она может ждать; но, поскольку, с одной стороны, недобрая воля моей матери пытается удалить меня от принцессы, а с другой стороны, политика требует, чтобы та, которую я люблю, стала женой какого-то мелкого итальянского государя, я говорю ее высочеству: сударыня, мои румяные щеки противоречат царящей ныне галантности, когда полагается притворяться больным, быть бледным и постоянно близким к обмороку; но от этого я люблю вас не меньше. Подумайте над моим предложением, ибо, как вы понимаете, предлагая вам свое сердце, я предлагаю свою руку. Сделайте выбор между герцогом Ретельским и мной, между Мантуей и Парижем, между мелким итальянским государем и братом французского короля.
— О монсеньер, — сказала г-жа де Лонгвиль, — если бы вы были свободны в своих действиях, как простой дворянин, если бы вы не зависели от королевы, от кардинала, от короля…
— От короля, сударыня? Я завишу от короля, это правда. Мое дело — добиться от него разрешения на наш брак, и я использую для этого все средства. Что же касается кардинала и королевы, то, может быть, скоро они будут зависеть от меня.
— Каким образом, монсеньер? — спросили обе дамы.
— Ах, Боже мой, сейчас я вам скажу, — отвечал Гастон, разыгрывая откровенность. — Мой брат Людовик Тринадцатый, женатый уже тринадцать лет и не имевший детей за тринадцать лет брака, не будет их иметь никогда; вы знаете, какое у него здоровье, и, очевидно, в один прекрасный день он оставит мне французский трон.
— Значит, — спросила г-жа де Лонгвиль, — вы считаете, монсеньер, что смерть короля, вашего брата, может произойти скоро?
Принцесса Мария промолчала; но если сердце ее безмолвствовало, то в юной головке зарождалось честолюбие: она не пропускала ни слова из того, что говорил Месье.
— Бувар считает его человеком конченым, сударыня, и изумляется, что он еще жив. И в этом отношении предсказатели согласны с Буваром.
— Предсказатели? — переспросила г-жа де Лонгвиль.
Мария удвоила внимание.
— Моя мать обратилась к первому астрологу Италии Фаброни, и он ответил, что король Людовик простится с этим миром раньше, чем солнце пройдет знак Рака в тысяча шестьсот тридцатом году. Следовательно, Фаброни дает ему полтора года жизни. И то же самое говорил мне и многим моим слугам некий врач по имени Дюваль. Правда, его постигла беда: кардинал, узнав, что он составил гороскоп короля, приказал его арестовать и тайно сослать на галеры, пользуясь древними римскими законами, запрещавшими узнавать, сколько лет осталось жить государю. Так вот, сударыня, моя мать все это знает. Моя мать надеется — как королева Анна и как я — на смерть своего старшего сына; вот почему она хочет, имея в виду оказывать давление на меня, как она делала это с моим братом, дать мне в жены тосканскую принцессу, чтобы та была обязана ей короной. Но так не будет, клянусь Богом! Я люблю вас, и, если только вы не испытываете ко мне непобедимого отвращения, вы будете моей женой.
— Но, монсеньер, — спросила вдовствующая герцогиня, — что, по-вашему, думает кардинал об этом браке?
— Не беспокойтесь о кардинале, мы с ним справимся.
— Каким же образом?
— Конечно, справимся, но в этом вы должны мне немного помочь.
— Чем именно?
— Графу де Суасону наскучило его изгнание, не правда ли?
— Он в отчаянии, но не может ничего добиться от господина де Ришелье.
— А если граф женится на его племяннице?
— На госпоже де Комбале?
Женщины переглянулись.
— Кардинал, — продолжал Гастон, — ради того, чтобы породниться с королевским домом, переступит через что угодно.
Женщины снова переглянулись.
— Монсеньер говорит серьезно? — спросила г-жа де Лонгвиль.
— Как нельзя более серьезно.
— Тогда я поговорю с моей дочерью, она имеет большое влияние на своего брата.
— Поговорите с нею, сударыня.
Затем Гастон обернулся к принцессе Марии:
— Но все это — бесполезный проект, сударыня, если ваше сердце не станет в этом заговоре сообщником моего.
— Ваше высочество знает, что я невеста герцога Ретельского, — отвечала принцесса Мария. — Я сама не могу ничего поделать с цепью, что связывает меня и не дает мне говорить; но в тот день, когда моя цепь будет разбита и мое слово станет свободным, поверьте, ваше высочество, вы не пожалеете о моем ответе.
Принцесса, сделав реверанс, собиралась уйти, но Гастон быстро схватил ее руку и запечатлел на ней страстный поцелуй.
— Ах, сударыня, — сказал он, — вы сделали меня счастливейшим из людей, и я ничуть не сомневаюсь в успехе замысла, от которого зависит мое счастье.
И пока принцесса Мария выходила через одну дверь, Гастон устремился в другую с быстротой человека, кому необходим свежий воздух, чтобы успокоить порыв страсти.
Госпожа де Лонгвиль, вспомнив, что она просила г-жу де Комбале подождать ее, взялась за ручку находившейся перед ней двери; неплотно притворенная дверь уступила первому же нажиму. Герцогиня едва сдержала крик изумления, увидев племянницу кардинала: придверник неосторожно ввел ее в комнату, смежную с той, где только что состоялось объяснение с монсеньером Гастоном Орлеанским.
— Сударыня, — сказала ей вдовствующая герцогиня, — зная монсеньера кардинала как нашего друга и покровителя и не желая делать ничего тайного или неприятного ему, я попросила вас дождаться окончания объяснения между нами и ее величеством королевой-матерью, объяснения, вызванного двумя или тремя визитами, нанесенными нам его королевским высочеством Месье.
— Благодарю, дорогая герцогиня, — сказала г-жа де Комбале, — и, прошу поверить, я очень ценю деликатность, с какой вы приоткрыли дверь этого кабинета, чтобы я не упустила ни слова из вашего разговора.
— И вы, — спросила с некоторым колебанием герцогиня, — слышали, я полагаю, ту его часть, что касалась вас? Если говорить обо мне, то, помимо чести увидеть мою племянницу герцогиней Орлеанской, сестрой короля, может быть, королевой, я была бы просто счастлива, сударыня, если бы вы вошли в нашу семью; госпожа де Лонгвиль и я употребим все наше влияние на графа де Суасона, если — в чем я сомневаюсь — это потребуется.
— Благодарю, сударыня, — отвечала г-жа де Комбале, — я чрезвычайно ценю честь, какой был бы для меня брак с принцем крови. Но, надев вдовье платье, я дала два обета: во-первых, не выходить снова замуж; во-вторых, полностью посвятить себя моему дяде. Я сдержу оба своих обета, сударыня, и если пожалею, то лишь о том, что из-за меня не удастся проект Месье.
И, поклонившись, она с самой ласковой, но и самой спокойной на свете улыбкой покинула честолюбивую вдовствующую герцогиню, не понимавшую, как может какой-то обет устоять перед гордой перспективой стать графиней де Суасон.
VI
ЕВА И ЗМЕЙ
"В Лувр!" произнесла, как мы помним, г-жа де Фаржи. Повинуясь этому приказу, носильщики высадили ее у боковой лестницы, что вела одновременно к королю и к королеве и после десяти часов вечера заменяла запертую главную лестницу.
Сегодня вечером у г-жи де Фаржи начиналась неделя службы при королеве.
Королева очень любила ее — так же как любила и продолжала любить г-жу де Шеврез. Но за г-жой де Шеврез, прославившейся всевозможными неосторожностями, следили и король и кардинал. Эта вечно смеющаяся женщина была антипатична Людовику XIII: даже если считать детство, он не смеялся и десяти раз в жизни. Когда г-жа де Шеврез была отправлена в изгнание, о чем мы уже говорили, ее заменили г-жой де Фаржи — еще более услужливой, чем г-жа де Шеврез, красивой, пылкой, дерзкой, вполне способной своим примером воинственно настроить королеву. Это неожиданное счастье оказаться возле государыни досталось ей, во-первых, благодаря положению ее мужа де Фаржи д’Анженна, кузена г-жи де Рамбуйе и нашего посла в Мадриде; но главным, что сослужило службу ее честолюбию, оказалось трехлетнее пребывание у кармелиток на улице Сен-Жак, где она подружилась с г-жой де Комбале, рекомендовавшей ее кардиналу.
Сейчас королева ожидала ее с нетерпением: она любила приключения, но, все еще жалея и оплакивая Бекингема, жаждала если не приключений, то хотя бы новых волнений. Это двадцатишестилетнее сердце, где ее муж не попытался занять даже маленькое место, требовало хотя бы подобия любви, коль скоро не было реальных страстей; подобно эоловой арфе, помещенной на вершине башни, оно звучало то плачем, то жалобой, то радостным звуком, а чаще всего смутно вибрировало под любым пролетающим ветром.
И будущее ее было не веселее настоящего. Этот угрюмый король, этот печальный повелитель, этот муж, лишенный желаний, был для нее еще относительным счастьем. Наименьшей бедой для нее в случае этой смерти, казавшейся настолько неотвратимой, что все ее ждали и к ней готовились, оказался бы брак с Месье; он был на семь лет моложе королевы и тешил ее надеждой на эту женитьбу только из опасения, как бы она в минуту отчаяния или любовной страсти не нашла выход из своего положения, делающий ее регентшей и навсегда отстраняющий Гастона от престола.
Действительно, в случае смерти короля перед нею были только три возможности: выйти замуж за Гастона Орлеанского, стать регентшей или быть отосланной в Испанию.
Грустная и задумчивая, она сидела в смежной со спальней маленькой комнате, куда имели доступ лишь самые близкие и дамы ее штата, бессознательно скользя глазами по строчкам новой трагикомедии Гильена де Кастро, полученной от г-на де Мирабеля, испанского посла, и озаглавленной "Юность Сида".
По манере скрестись в дверь она узнала г-жу де Фаржи и, отбросив книгу (которая несколькими годами позже окажет такое сильное влияние на ее жизнь), отрывисто и радостно воскликнула:
— Войдите!
Ободренная этим возгласом, г-жа де Фаржи не вошла, а ворвалась в комнату, бросилась к ногам Анны Австрийской, завладела ее прекрасными руками и стала целовать их со страстью, заставившей королеву улыбнуться.
— Знаешь, — сказала она, — иногда мне кажется, прелестная моя Фаржи, что ты переодетый любовник и что в один прекрасный день, еще больше уверившись в моей дружбе, внезапно мне откроешься.
— А если бы это произошло, мое прекрасное величество, моя милостивая повелительница, — отвечала г-жа де Фаржи (ее огненный взгляд был устремлен на Анну Австрийскую, зубы сжаты, губы приоткрыты, она нервно сжимала руки королевы), — вы были бы очень разочарованы?
— О да, очень разочарована, ибо мне пришлось бы позвонить, приказать вывести тебя отсюда и больше никогда с тобой не видеться, к большому моему сожалению, ибо кроме Шеврез ты единственная, кто меня развлекает.
— Боже мой, до чего же добродетель жестока и противоестественна, если она разлучает любящие сердца; а по-моему, снисходительные души, вроде моей, куда больше угодны Богу, чем ваша показная стыдливость, которой не по нраву малейший комплимент.
— Ты ведь знаешь, что я целых семь дней тебя не видела, Фаржи!
— Еще бы! Боже мой, мне кажется, добрая моя королева, что прошло семь веков!
— И что ты сделала за эту неделю?
— Мало хорошего, мое дорогое величество. Кажется, я влюбилась.
— Тебе кажется?
— Да.
— Боже, до чего ты безрассудна, говоря подобные вещи; надо, чтобы тебе зажимали рот рукой на первом же слове.
— Попробуйте, ваше величество, и вы увидите, как будет принята ваша рука.
Анна, смеясь, приложила к ее губам ладонь, которую г-жа де Фаржи, по-прежнему стоявшая на коленях перед королевой, страстно поцеловала.
Анна поспешно отдернула руку.
— Не целуй меня так, милая, — сказала она, — ты передаешь мне свое возбуждение. И в кого же ты влюбилась?
— В мечту.
— Как в мечту?
— Ну да; ведь это мечта — в нашу эпоху, в век Вандомов, Конде, Граммонов, Куртанво и Барада найти молодого человека двадцати двух лет, красивого, юного, благородного и влюбленного.
— В тебя?
— В меня, может быть, да. Но любит он другую.
— Ты и вправду сошла с ума, Фаржи; я не понимаю ни слова из того, что ты говоришь.
— Еще бы, ведь ваше величество настоящая монахиня.
— А ты-то сама кто? Не ты ли была у кармелиток?
— Да, вместе с госпожой де Комбале.
— Итак, ты говоришь, что влюбилась в мечту?
— Да, и эту мечту вы знаете.
— Я?
— Думаю, что если я буду проклята за этот грех, то погублю свою душу за ваше величество.
— Но немножко и за себя тоже, бедная моя Фаржи.
— Разве ваше величество не находит его очаровательным?
— Кого?
— Нашего вестника, графа де Море.
— А! Действительно, это достойный дворянин; он показался мне истинным рыцарем.
— Ах, моя дорогая королева, если бы все сыновья Генриха Четвертого были такими, как он, французский трон не испытывал бы нужды в наследнике, как сейчас.
— По поводу наследника, — задумчиво сказала королева, — надо показать тебе письмо, которое граф мне передал. Оно от моего брата Филиппа Четвертого, и в нем есть совет, который я не очень хорошо поняла.
— Я вам его объясню! Знаете, мало есть такого, чего бы я не поняла.
— Сивилла! — произнесла королева, глядя на нее с улыбкой, показывающей, что она нисколько не сомневается в ее проницательности.
И с обычной медлительностью она сделала движение, собираясь встать.
— Могу я чем-нибудь помочь вашему величеству? — спросила г-жа де Фаржи.
— Нет, я одна знаю секрет ящика, где находится письмо.
Анна Австрийская подошла к маленькому шкафчику, открывавшемуся обычным образом, выдвинула ящик, нажала секретную пружину и достала из-под двойного дна депешу, переданную ей графом и содержавшую, как мы помним, помимо видимого письма дона Гонсалеса Кордовского еще одно письмо, предназначенное только для королевы.
С письмом в руках она вернулась к дивану, где сидела до этого.
— Садись сюда, — сказала она Фаржи, указывая место рядом с собой.
— Как! Мне сидеть на том же диване, что и королева?
— Да, нам придется говорить тихо.
Госпожа де Фаржи бросила взгляд на листок в руках королевы.
— Что ж, я внимательно слушаю, — сказала г-жа де Фаржи. — Прежде всего, что говорят эти три-четыре строчки?
— Ничего. Мне советуют как можно дольше удержать твоего мужа в Испании.
— Ничего! И ваше величество говорит об этом "ничего"? Но это, наоборот, очень важно. Конечно, нужно, чтобы господин де Фаржи оставался в Испании, и как можно дольше. Десять лет, двадцать лет, навсегда. Вот это человек, умеющий дать хороший совет! Посмотрим, каков другой, и если он не уступает первому, то я заявляю, что у вашего величества в советниках сам царь Соломон! Ну, скорее, скорее, скорее!
— Неужели ты никогда не будешь серьезной даже в самых важных делах?
И королева слегка пожала плечами.
— Теперь то, что пишет мне мой брат Филипп Четвертый.
— И что ваше величество не очень хорошо поняли.
— Я просто ничего не поняла, Фаржи, — ответила королева с великолепно разыгранным простодушием.
— Ну-ка, посмотрим.
"Сестра моя, — начала читать королева, — я узнал от нашего доброго друга г-на де Фаржи о том, что существует замысел — в случае смерти короля Людовика XIII дать Вам в мужья его брата и наследника его короны Гастона Орлеанского".
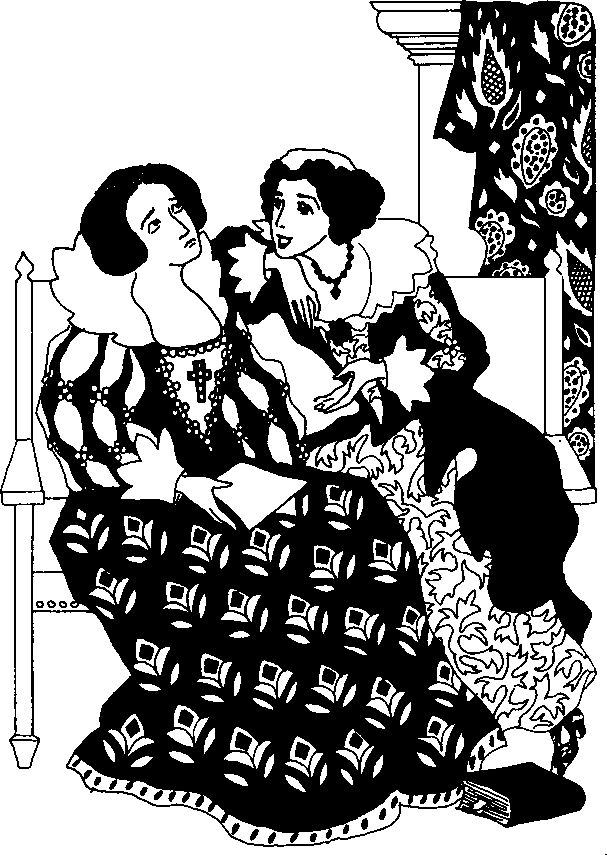
— Гнусный замысел, — прервала ее г-жа де Фаржи, — заслуживающий столь же скверного отношения, если не хуже.
— Подожди, — сказала королева и продолжала читать:
"Но было бы гораздо лучше, если бы ко времени этой смерти Вы оказались беременной".
— О да, — прошептала г-жа де Фаржи, — это было бы лучше всего.
"У французских королев, — продолжала Анна Австрийская, словно пытаясь понять смысл слов, которые читала, — есть большое преимущество перед их мужьями: они могут иметь дофина без участия мужа, тогда как король этого не может".
— И вот этого не может понять ваше величество?
— Во всяком случае мне это кажется неисполнимым, милая Фаржи.
— Что за несчастье, — воскликнула г-жа де Фаржи, возведя глаза к небу, — в подобных обстоятельствах, когда идет речь не просто о счастье великой королевы, но и о благе великого народа, иметь дело со слишком честной женщиной!
— Что ты хочешь сказать?
— Я хочу сказать, что если бы в амьенских садах — помните? — вы сделали то, что сделала бы я на вашем месте, ведь ваше величество имели дело с человеком, любившим вас больше жизни, ибо он отдал за ваше величество жизнь; если бы, вместо того чтобы звать не то Л апорта, не то Пютанжа, вы не позвали бы никого…
— И что же?
— А то, что, может быть, сегодня вашему брату не было бы нужды советовать вам то, что он советует, и дофин, которому так трудно появиться на свет, давно бы уже родился.
— Но это было бы двойным преступлением!
— Каким образом ваше величество видит два преступления в том, что ей советует не просто великий король, но государь, известный своим благочестием?
— Во-первых, я обманула бы своего мужа, а во-вторых, возвела бы на французский трон сына англичанина.
— Прежде всего, обмануть мужа считается во всех странах мира грехом простительным; вашему величеству достаточно бросить взгляд кругом, чтобы убедиться, что таково мнение большинства ее подданных, если не мужчин, то женщин. И потом, обмануть такого супруга, как король Людовик Тринадцатый, который вовсе не муж или муж в столь малой степени, что об этом и говорить не стоит, — не только простительный грех, но похвальное деяние.
— Фаржи!
— Вы это хорошо знаете, мадам, и в глубине души упрекаете себя за тот злосчастный возглас, вызвавший такой скандал, в то время как молчание бы все уладило.
— Увы!
— Итак, первое возражение обсуждено, и ваше "увы", государыня, доказывает, что я права. Остается второе, и тут я вынуждена полностью признать правоту вашего величества.
— Вот видишь.
— Но предположим, например, что вы имели бы дело не с англичанином — очаровательным мужчиной, но иностранцем, — а с мужчиной не менее очаровательным, чем он (Анна вздохнула), но французом по рождению, больше того, мужчиной королевского рода, например настоящим сыном Генриха Четвертого, в то время как король Людовик Тринадцатый по своим вкусам, привычкам, характеру кажется мне потомком небезызвестного Вирджинио Орсини.
— И ты, Фаржи, тоже веришь этой клевете!
— Если это и клевета, то, во всяком случае, она исходит из страны вашего величества. Итак, предположим, что граф де Море оказался бы на месте герцога Бекингема, вы думаете, что преступление было бы столь же велико? А может быть, наоборот, Провидение воспользовалось бы этим средством, чтобы возвести на французский трон истинную кровь Генриха Четвертого?
— Но, Фаржи, я же не люблю графа де Море!
— Ну и что же? В этом, мадам, было бы искупление греха, потому что имела бы место жертва; в этом случае вы пожертвовали бы собой ради славы и благоденствия Франции, а не ради личного интереса.
— Фаржи, я не понимаю, как может женщина отдаться кому-то кроме своего мужа и не умереть со стыда в первый же раз, как встретит средь белого дня этого человека лицом к лицу.
— О мадам, мадам! — воскликнула Фаржи, — если бы все женщины думали так же, как ваше величество, сколько мужей надели бы траур, не зная, от какой болезни скончались их жены! Да, когда-то можно было увидеть такое, но, с тех пор как изобрели веера, подобные несчастные случаи стали куда более редкими.
— Фаржи, Фаржи! Ты самая безнравственная особа на свете, и я не уверена, что сама Шеврез так же испорчена, как ты. А в кого влюблен предмет твоей мечты?
— В вашу протеже Изабеллу.
— В Изабеллу де Лотрек, что привела его ко мне на днях? Но где он ее видел?
— Он ее не видел. Эта любовь пришла к нему, когда они играли в жмурки, проходя по темным коридорам и не менее темным комнатам.
— Бедный мальчик! Его любовь ждут испытания. По-моему, ее отец уже условился с неким виконтом де Понтисом. Но мы еще поговорим об этом, Фаржи. Я хотела бы отблагодарить его за услугу, что он мне оказал.
— И за ту, что еще сможет вам оказать.
— Фаржи!
— Да, мадам?
— Поистине, она отвечает так спокойно, словно и не говорила неслыханных вещей! Фаржи, помоги мне лечь, дитя мое. О Господи, ты своими сказками навела меня на глупые мечтания.
И королева, теперь уже поднявшись, прошла в спальню, еще более медлительная и вялая, чем обычно, опираясь на плечо своей советницы Фаржи, которой можно поставить в вину многое, но уж, конечно, не эгоизм в любовных делах.
Назад: XI КРАСНЫЙ СФИНКС
Дальше: VII ГЛАВА, В КОТОРОЙ КАРДИНАЛ ИСПОЛЬЗУЕТ ДЛЯ СЕБЯ ПРИВИЛЕГИЮ, ДАННУЮ ИМ СУКАРЬЕРУ

