Книга: А. Дюма - Собрание сочинений. Том 12. Женская война. Сильвандир. 1993
Назад: VII
Дальше: Часть вторая Принцесса Конде
XI
На другой день Каноль казался веселее, чем накануне; с другой стороны, и виконт де Канб открыто веселился. Даже Помпей смеялся, рассказывая о своих походах Касторену. Все утро прошло как нельзя лучше.
За завтраком Каноль извинился и попросил позволения расстаться на время с виконтом, сказав, что ему нужно написать длинное письмо одному из друзей, жившему в этих краях. В то же время барон объявил, что должен будет заехать к приятелю, дом которого находится в трех или четырех льё от Пуатье, почти на большой дороге.
Справившись у трактирщика, которому он назвал имя своего приятеля, Каноль услышал в ответ, что увидит этот дом немного не доезжая селения Жольне и узнает его по двум башенкам.
Поскольку Касторен должен был покинуть маленький отряд, чтобы отвезти письмо, а самому Канолю предстояло отклониться от маршрута, виконта просили сказать заранее, где он намерен ужинать. Виконт взял дорожную карту, которую вез Помпей, и предложил селение Жольне. Каноль не противился этому и был так коварен, что даже прибавил:
— Помпей, если тебя снова пошлют квартирмейстером, так постарайся, если можно, занять для меня комнату возле комнаты твоего господина, чтобы мы могли поговорить.
Хитрый слуга взглянул на виконта и улыбнулся, решив ни в коем случае не исполнять просьбы барона. А когда Касторен, получивший необходимые наставления, пришел за письмом, он получил приказание быть вечером в Жольне.
Ошибиться было нельзя: в Жольне была только одна гостиница "Великого Карла Мартелла".
Путешественники пустились в дорогу. Шагах в пятистах от Пуатье, где они обедали, Касторен поехал по проселочной дороге вправо. Потом еще два часа ехали дальше, и наконец по несомненным признакам Каноль узнал дом своего друга, показал его виконту, простился с ним, повторил Помпею приказание о своей комнате и поехал по проселочной дороге налево.
Виконт совершенно успокоился; о вчерашней вечерней сцене не было сказано ни слова, и весь день прошел без малейших на нее намеков. Стало быть, де Канб уже не боялся, что Каноль станет противиться его желаниям. А с той минуты как барон стал для него просто спутником, добрым, веселым и умным, виконт не хотел ничего лучшего, как доехать вместе с ним до Парижа. Поэтому он или не счел нужным принимать меры предосторожности, или не хотел разлучаться с Помпеем и оставаться на большой дороге один, но так или иначе он не послал его вперед.
В Жольне приехали ночью, дождь лил потоком. По счастью, в одной комнате топили. Виконт, желая тотчас переменить платье, занял ее и приказал Помпею занять другую комнату для барона.
— Ну, это дело сделано, — сказал эгоист Помпей, очень хотевший заснуть поскорее, — хозяйка гостиницы обещала им сама заняться.
— Хорошо. Где моя шкатулка?
— Вот она.
— Мои флаконы?
— Вот они.
— Спасибо, а где ты ляжешь, Помпей?
— В конце коридора.
— А если мне что-нибудь понадобится?
— Вот колокольчик. Хозяйка тотчас явится.
— Хорошо. Дверь запирается крепко?
— Сами изволите видеть.
— Нет задвижки!
— Зато есть замок.
— Хорошо. Я запрусь изнутри. В эту комнату нет другого входа?
— Кажется, нег.
Помпей взял свечку и осмотрел комнату.
— Посмотри, крепки ли ставни?
— Крепки, с крючками.
— Хорошо. Ступай, Помпей.
Слуга вышел, и виконт запер комнату.
Через час Касторен, который приехал в гостиницу и первым поместился в комнате возле Помпея (о чем тот совершенно не подозревал), вышел на цыпочках и отворил дверь Канолю.
Каноль с бьющимся сердцем проскользнул в гостиницу; оставив Касторена запирать дверь, он велел показать, где комната виконта, и стал подниматься по лестнице.
Виконт ложился в постель, когда услышал шаги в коридоре. Он, как мы уже заметили, боялся всего, поэтому, услышав шаги, вздрогнул и начал внимательно прислушиваться.
Шаги затихли перед дверью.
В следующую секунду кто-то постучал.
— Кто там? — спросил виконт таким испуганным голосом, что Каноль не узнал бы его, если бы не имел раньше случаев изучать его во всех модуляциях.
— Я, — отвечал Каноль.
— Как вы? — отвечал голос, в котором слышался явный страх.
— Да я, Каноль; представьте, виконт, что во всей гостинице нет ни одной свободной комнаты, все занято. Ваш глупый Помпей забыл обо мне. Во всем селении нет другой гостиницы, а в вашей комнате стоят две кровати…
Виконт с невыразимым ужасом взглянул на две кровати, стоявшие в его комнате рядом; их разделял только стол.
— Так вы понимаете? — продолжал Каноль. — Я пришел просить у вас ночлега, сделайте одолжение, отворите скорее, или я умру от холода.
Тут в комнате виконта послышалась какая-то суматоха, шорох платья и быстрые шаги.
— Хорошо, сейчас, барон, — говорил виконт все более испуганным голосом, — позвольте, сейчас, через минуту отопру!
— Я подожду, но сделайте милость, мой друг, отоприте поскорей, если не хотите, чтобы я замерз.
— Извините, но я ведь уже спал…
— Ну? А мне показалось, что у вас огонь…
— Нет, вы ошиблись.
Огонь тотчас погас.
Каноль об этом не пожалел.
— Я ищу, но никак не могу найти двери, — сказал виконт.
— Я в этом не сомневаюсь, — отвечал Каноль. — Так, должно быть, я слышу ваш голос на другом конце комнаты… Сюда, сюда.
— Постойте, я ищу колокольчик… Хочу позвать Помпея.
— Помпей на том конце коридора и не услышит вас. Я хотел разбудить его, но никак не мог. Он спит как убитый.
— Так я позову хозяйку.
— Ба! Хозяйка уступила свою постель какому-то путешественнику и отправилась спать на чердак. Стало быть, никто не придет, друг мой. Притом зачем же звать людей? Мне не нужно никого.
— Но как же быть?
— Вы отворите мне дверь, я поблагодарю вас, потом ощупью найду кровать, лягу спать, и все. Отворите же, прошу вас.
— Но, — возразил виконт в отчаянии, — верно, есть какие-нибудь другие комнаты, хоть бы даже без кроватей. Не может быть, чтобы не было другой комнаты… Позовем людей, поищем…
— Но, любезный виконт, пробило половину одиннадцатого. Вы поднимете на ноги всю гостиницу, подумают, что в доме пожар. После этой суматохи мы не уснем всю ночь, а это очень жалко, потому что я едва держусь на ногах.
Эти последние слова несколько успокоили виконта. Легкие шаги раздались у двери, и она отворилась.
Каноль вошел и запер дверь за собой.
Виконт же, отперев дверь, поспешил отпрянуть от нее.
Барон, войдя, оказался в комнате, почти темной: последние уголья в камине потухали. Теплый воздух был наполнен благоуханиями — свидетельством крайней заботливости о туалете.
— Покорно вас благодарю, виконт, — сказал Каноль, — признаюсь, здесь гораздо лучше, чем в коридоре.
— Вам хочется спать, барон? — спросил виконт.
— Разумеется. Укажите мне мою постель, ведь вы знаете комнату, или позвольте мне зажечь свечку.
— Нет, нет, не нужно! — вскричал виконт. — Ваша постель здесь, налево.
Конечно, левая сторона от виконта приходилась по правую сторону от барона. Поэтому он пошел направо, наткнулся на окно, возле которого находился небольшой стол, а на столе нащупал колокольчик, который виконт искал так старательно. На всякий случай Каноль положил колокольчик в карман.
— Да что же вы мне говорите, виконт? — сказал он. — Мы, верно, играем в жмурки? Так кричите, по крайней мере, "ку-ку"! Но какого дьявола ищете вы там впотьмах?
— Ищу колокольчик… позвать Помпея.
— Да на кой черт он вам?
— Я хочу… я хочу, чтобы он приготовил здесь постель.
— Кому?
— Себе.
— Ему постель! Да что вы такое говорите, виконт? Лакей будет спать в нашей комнате! Вы точно трусливая девочка!.. Фи! Ведь мы не дети, и сами можем защитить себя в случае нужды. Нет, дайте мне только руку и доведите меня до постели, которую я никак не могу найти… Или лучше всего… позвольте зажечь свечку.
— Нет! Нет! Нет! — вскричал виконт.
— Если не хотите дать мне руку, — ответил Каноль, — так, по крайней мере, дали бы мне какую-нибудь путеводную нить: ведь я здесь словно в лабиринте.
Он пошел, вытянув руки вперед, туда, откуда раздавался голос виконта, но мимо стрелой проскользнула какая-то тень и пронеслось благоухание; он свел руки, но, подобно Вергилиеву Орфею, обнял только воздух.
— Тут! Тут! — донесся голос виконта из другого угла комнаты, — вы перед вашей постелью, барон.
— Которая из двух моя?
— Любая, я не лягу.
— Как! Вы не будете спать? — спросил Каноль, оборачиваясь при этих неосторожных словах. — Так что же вы намерены делать?
— Посижу на стуле.
— Что вы! — вскричал Каноль. — Разве я позволю вам так ребячиться? Извольте ложиться спать.
Тут Каноль при последней вспышке угольев в камине увидел, что виконт стоит в углу между окном и комодом, закрываясь своим плащом.
Свет камина блеснул как молния, но и этого было достаточно, чтобы осветить путь барону. Виконт понял, что ему нет спасения. Каноль шел прямо к нему, и, хотя в комнате стало темно по-прежнему, бедный виконт ясно видел, что на этот раз уйти от преследователя нельзя.
— Барон, барон, — шептал виконт, — остановитесь, умоляю вас! Барон, не сходите с места, стойте там, где вы теперь! Ни шагу вперед, если вы дворянин!
Каноль остановился; виконт стоял так близко от него, что было слышно биение его сердца и чувствовалось его теплое дыхание; в то же время барона обдало благоуханием невыразимым, необъяснимым, тем благоуханием, которое всегда сопровождает молодость и красоту. В тысячу раз более нежное, чем аромат цветов, оно, казалось, отнимало у него всякую возможность повиноваться виконту, если бы у Каноля и было такое намерение.
Барон простоял с минуту на месте, простирая руки к тем рукам, которые уже отталкивали его. Он чувствовал, что ему остается сделать один шаг, чтобы оказаться возле прелестного создания, которым он столько восхищался в продолжение двух дней.
— Сжальтесь, сжальтесь! — прошептал виконт голосом, в котором нежность смешивалась с трепетом. — Сжальтесь надо мной!
Голос замер на его устах. Каноль почувствовал, как прекрасное тело скользнуло вдоль стенной панели, чтобы упасть на колени.
Барон перевел дух; какой-то внутренний голос подсказывал ему, что победа на его стороне.
Он сделал шаг вперед, протянул руки и встретил умоляюще сложенные руки юноши, у которого уже не было сил даже закричать. Ему послышался только скорбный вздох.
В ту же минуту под окном раздался конский топот, сильные удары послышались в дверь гостиницы, за ударами последовали крики. Кто-то стучал и кричал.
— Здесь ли господин барон де Каноль? — спрашивали за дверью.
— Слава Богу! Я спасен! — прошептал виконт.
— Холера возьми эту скотину! — пробормотал Каноль. — Не мог он прийти завтра?
— Господин барон де Каноль! — продолжали взывать за дверью. — Господин барон де Каноль! Мне непременно нужно переговорить с вами сейчас же!
— Ну что такое? — спросил барон, делая шаг назад.
— Вас спрашивают, сударь, — отвечал подошедший Касторен, — вас ищут…
— Да кто ищет, бездельник?
— Курьер.
— От кого?
— От господина герцога д’Эпернона.
— Зачем?
— Для службы королю.
При этих магических словах, которым нельзя было не повиноваться, Каноль с досадой отворил дверь и сошел с лестницы.
Можно было слышать, как храпел Помпей.
Курьер между тем вошел в гостиницу и ждал в зале внизу.
Каноль приблизился к нему и, побледнев, прочел письмо Нанон.
Читатель уже догадался, что курьер был Куртово, который выехал часов на десять позже Каноля и при всем своем усердии мог догнать его не прежде, чем на втором перегоне.
Каноль задал курьеру несколько вопросов и убедился, что с доставкой депеши непременно нужно спешить. Он во второй раз прочел письмо Нанон, и концовка его, где она называла себя сестрой барона, позволила ему понять все, что случилось, то есть что мадемуазель де Лартиг выпуталась из затруднительного положения, выдав Каноля за своего брата.
Каноль несколько раз слыхал, как Нанон говорила не в очень лестных выражениях об этом брате, место которого он теперь занимал. Это еще более увеличило досаду, с которой он принял поручение герцога д’Эпернона.
— Хорошо, — сказал он удивленному Куртово, не открывая ему кредита в гостинице и не вручая ему своего кошелька, что непременно сделал бы во всяком другом случае. — Хорошо, скажи своему господину, что ты догнал меня и что я тотчас же повинуюсь его приказаниям.
— А мадемуазель де Лартиг вы ничего не прикажете передать?
— Скажи ей, что брат ее ценит чувство, по которому она действовала, и много ей обязан. Касторен, седлай лошадей!
И не сказав более ни слова посланному, который стоял в изумлении от такого холодного приема, Каноль пошел наверх, где застал виконта, бледного, трепещущего и уже одетого. На камине горели две свечи.
Барон с глубоким сожалением посмотрел на этот альков и особенно на две подобные близнецам кровати, одна из которых была слегка смята. Молодой человек следил за его взглядом, стыдливо краснея.
— Будьте довольны, виконт, — сказал Каноль. — Теперь вы избавитесь от меня на все остальное время вашего путешествия… Я сейчас еду на почтовых для службы королю.
— Когда вы едете? — спросил виконт голосом, еще не совсем твердым.
— Сию минуту; я еду в Мант, где теперь, по-видимому, находится двор.
— Прощайте! — едва мог ответить молодой человек и опустился в кресло, не смея поднять глаза на своего спутника.
Каноль подошел к нему.
— Я уж, верно, не увижусь больше с вами! — сказал он дрожащим голосом.
— Как знать? — отвечал виконт, стараясь улыбнуться.
— Дайте одно обещание человеку, который вечно будет помнить вас, — сказал Каноль, положив руку на сердце, так ласково и нежно, что ни голос его, ни жест не оставляли никакого сомнения по поводу его искренности.
— Какое?
— Что вы будете иногда обо мне думать.
— Обещаю.
— Без… гнева?
— Да.
— А где доказательство? — спросил Каноль.
Виконт подал ему руку.
Каноль взял дрожащую ручку с намерением только пожать ее, но невольно с жаром прижал ее к губам и выбежал из комнаты как безумный, прошептав:
— Ах, Нанон, Нанон! Сможешь ли ты когда-нибудь вознаградить меня за то, что я теряю теперь?
XII
Теперь, если мы последуем за принцессами Конде в Шантийи в место их ссылки, которую Ришон достаточно мрачно описал виконту, вот что мы увидим.
На аллеях, под красивыми каштановыми деревьями, усыпанными, как снегом, белыми цветами, на зеленых лугах, лежащих около синих прудов, беспрестанно гуляет толпа: смеется, разговаривает и поет. Кое-где в высокой траве скрываются фигуры людей, любящих чтение, фигуры, утопающие в зелени, из которой выглядывают только белые страницы — "Клеопатры" господина де ла Кальпренеда, "Астреи" господина д’Юрфе или "Великого Кира" мадемуазель де Скюдери. В беседках из роз и жасмина раздаются звуки лютни и голоса невидимых певцов. По большой аллее, которая ведет к замку, иногда проносится с быстротою молнии всадник, доставляющий какое-нибудь приказание.
В это самое время на террасе три дамы, в шелковых платьях, надменные и величавые, медленно прогуливаются, сопровождаемые на некотором расстоянии молчаливыми и почтительными конюшими.
В середине группы движется самая старшая дама, имеющая, несмотря на свои пятьдесят семь лет, весьма представительную наружность, и важно рассуждает о государственных делах. Справа от нее высокая молодая женщина со строгим видом слушает, нахмурив брови, ученую теорию своей соседки. Слева — другая старуха, менее всех знаменитая, говорит, слушает и размышляет одновременно.
Дама в середине группы — вдовствующая принцесса Конде, мать победителя при Рокруа, Нёрдлингене и Лансе, которого после преследования, приведшего его в Венсенский замок, стали называть Великим Конде, именем, сохранившимся за ним в потомстве. В ней еще можно заметить остатки той красоты, которая вызвала последнюю и, может быть, самую безумную любовь Генриха IV. Теперь она унижена и как мать, и как гордая женщина, facchino italiano, которого звали Мазарини, когда он был слугой у кардинала Бентивольо, а теперь зовут его высокопреосвященством кардиналом Мазарини, с тех пор как он стал любовником Анны Австрийской и первым министром французского королевства.
Это он осмелился посадить Великого Конде в тюрьму и сослать в Шантийи мать и жену благородного пленника.
Другая дама, помоложе, Клер-Клеманс де Майе-Брезе, принцесса Конде, которую по тогдашней аристократической манере называли просто принцессой. Это означало, что жену главы дома Конде считали первой принцессой королевской крови, настоящей принцессой. Она как настоящая принцесса всегда была горда, но, с тех пор как ее стали преследовать, ее гордость еще возросла и принцесса стала надменной. Действительно, пока принц был на свободе, она была обречена играть вторую роль, но заключение мужа в тюрьму подняло ее до положения героини. Она стала вызывать участие более вдовы, а сын ее, герцог Энгиенский, которому скоро будет семь лет, возбуждает сострадание более всякого сироты. Она у всех на виду, и если б не боялась насмешек, то надела бы траур. С той минуты, как Анна Австрийская отправила обеих принцесс в ссылку, их громкие жалобы превратились в глухие угрозы: из угнетенных они скоро превратятся в бунтовщиц. У принцессы, у этого Фемистокла в чепце, есть свой Мильтиад в юбке. И лавры герцогини де Лонгвиль, некоторое время как королева правившей Парижем, не дают ей спать.
Дуэнья с левой стороны — маркиза де Турвиль; она не отваживается писать романов, но сочиняет в политике. Она не сражалась лично, как храбрый Помпей, и, подобно ему, не получала раны в битве при Корби; зато муж ее, довольно уважаемый военачальник, был ранен при Ла-Рошели и убит при Фрейбурге. Получив в наследство его родовое имение, маркиза вообразила, что одновременно унаследовала и его военный гений. С тех пор как она приехала к принцессам в Шантийи, она составила уже три плана кампании, которые поочередно возбуждали восторг у придворных дам и от которых не то чтобы отказались, а, так сказать, отложили их до той минуты, когда будут обнажены шпаги и отброшены ножны. Она не смеет надеть мундир мужа, хотя ей очень хочется этого; но его меч висит в ее комнате над изголовьем постели, и иногда, когда маркиза бывает одна, она с самым воинственным видом вынимает его из ножен.
Шантийи, несмотря на свой праздничный вид, на самом деле огромная казарма, и если поискать хорошенько, то найдешь там порох в погребах и штыки в чаще деревьев.
Все три дамы во время печальной прогулки при каждом повороте подходят к главным воротам и, кажется, поджидают появления какого-то важного вестника; уже несколько раз вдовствующая принцесса повторила, покачивая головой и вздыхая:
— Нам не будет удачи, дочь моя, мы только опозорим себя.
— Надобно хоть чем-нибудь платить за великую славу, — возразила маркиза де Турвиль со своим обычным неприятным выражением лица. — Нет победы без борьбы!
— Если нам не будет удачи, если мы будем побеждены, — сказала молодая принцесса, — мы отомстим за себя.
— Сударыня, — сказала вдовствующая принцесса, — если мы потерпим неудачу, это будет означать, что принца победил Бог. Не намерены же вы мстить Богу?
Молодая принцесса склонилась перед величественным смирением свекрови. Эти три дамы, раскланиваясь таким образом и состязаясь в лести, весьма смахивали на епископа с двумя дьяконами, использующих обращение к Богу как предлог для взаимных восхвалений.
— Никто ничего не пишет нам, — пробормотала вдовствующая принцесса, — ни Тюренн, ни Ларошфуко, ни Буйон! Все замолкли разом!
— Нет и денег! — прибавила маркиза де Турвиль.
— И на кого надеяться, — сказала молодая принцесса, — если даже Клер забыла нас?
— Да кто же сказал вам, дочь моя, что виконтесса де Канб вас забыла?
— Она не едет!
— Может быть, ее задержали: все дороги охраняются армией господина де Сент-Эньяна, вы сами это знаете.
— Так она могла бы написать.
— Как может доверить она бумаге такую важную тайну — переход такого большого города, как Бордо, на сторону принцев!.. Нет, не это беспокоит меня более всего.
— Притом же, — прибавила маркиза, — в одном из трех планов, которые я имела счастье представить на рассмотрение вашего высочества, предполагалось поднять всю Гиень.
— Да, да, и мы воспользуемся им, если будет нужно, — отвечала принцесса. — Но я соглашаюсь с мнением матушки и начинаю думать, что с Клер случилось какое-нибудь несчастье, иначе она была бы уже здесь. Может быть, ее фермеры не сдержали слова: эти дрянные люди всегда пользуются случаем не платить денег, когда такой случай представляется. Притом откуда нам знать, как поведут себя жители Гиени, несмотря на все свои обещания?.. Ведь они гасконцы!
— Болтуны! — прибавила маркиза де Турвиль. — Лично они очень храбры, это правда, но они прескверные солдаты, годные только на то, чтобы кричать "Да здравствует принц!", когда они боятся Испанца; и больше ничего.
— Однако ж они питают сильное отвращение к герцогу д’Эпернону, — сказала вдовствующая принцесса. — Они повесили его чучело в Ажене и обещали повесить его самого в Бордо, если он туда вернется когда-нибудь.
— А он, верно, вернулся и повесил их самих, — возразила молодая принцесса с досадой.
— И во всем этом виноват, — заявила маркиза де Турвиль, — господин Ленэ. Господин Пьер Ленэ, — добавила она со страстью, — этот упрямый советник, которого вам непременно угодно держать при себе, а он только мешает исполнению наших намерений. Если б он не отверг второго моего плана, который имел целью, как вы изволите помнить, внезапное взятие замка Вер, острова Сен-Жорж и крепости Бле, то мы держали бы теперь Бордо в осаде и город вынужден был бы сдаться.
— А по-моему, с дозволения их высочеств, будет гораздо лучше, если Бордо сам отдаст себя в наше распоряжение, — послышался за спиной маркизы де Турвиль голос, в котором уважение смешивалось с иронией. — Город капитулирующий уступает силе и ничем не обязывает себя; город, который открывает ворота добровольно, поневоле должен быть верным тому, на чью сторону перешел, до конца.
Все три дамы обернулись и увидели Пьера Ленэ, который приблизился к ним, когда они шли к главным воротам замка, куда то и дело обращались их взгляды. Он вышел из маленькой двери, расположенной на одном уровне с террасой, и подошел к ним сзади.
Слова маркизы де Турвиль были отчасти справедливы. Пьер Ленэ, советник принца Конде, человек холодный, ученый и серьезный, получил от заключенного принца поручение наблюдать за друзьями и врагами; и надо признаться, ему было труднее удерживать безрассудное усердие приверженцев принца, которые только могли повредить делу, чем разрушать враждебные происки его противников. Но он был ловок и предусмотрителен, как адвокат, привык и к судейскому крючкотворству, и к дворцовым хитростям. Обычно он торжествовал над ними победу, подведя какую-нибудь ловкую контрмину или благодаря своей непоколебимой твердости. Впрочем, лучшие и упорнейшие битвы приходилось ему выдерживать в самом Шантийи. Самолюбие маркизы де Турвиль, нетерпение молодой и аристократическое упрямство вдовствующей принцессы были сравнимы с хитростью Мазарини, с надменностью Анны Австрийской и с нерешительностью парламента.
Ленэ, которому принцы поручили всю корреспонденцию, принял за правило сообщать принцессам новости только по мере необходимости и оставил за собой право судить о сроке этой необходимости. Он решил так потому, что множество его планов из-за болтливости друзей стали известны его врагам, ибо женская дипломатия не всегда основана на тайне, этом первейшем правиле дипломатии мужчин.
Обе принцессы, ценившие, несмотря на частые его возражения, усердие и особенно услуги Пьера Ленэ, встретили советника дружеским жестом. На устах вдовы показалась даже улыбка.
— Ну, любезный Ленэ, — сказала она, — вы слышали, маркиза де Турвиль жаловалась или, лучше сказать, жалела нас: все идет хуже и хуже… Ах! Наши дела, любезный Ленэ, наши дела!
— Обстоятельства представляются мне не такими мрачными, как они кажутся вашему высочеству, — отвечал Ленэ. — Я очень надеюсь на время и на изменчивое счастье. Вы изволите знать поговорку: "Кто умеет ждать, тому все приходит вовремя".
— Время, перемена счастья — все это философия, господин Ленэ, а не политика, — сказала принцесса.
Ленэ улыбнулся.
— Философия полезна всегда и везде, — отвечал он, — и особенно в политике. Она учит не заноситься при успехе и не падать духом в беде.
— Все равно, — возразила маркиза де Турвиль, — по-моему, лучше бы увидеть курьера, чем слушать ваши истины. Не так ли, ваше высочество?
— Конечно. Я согласна с вами, — отвечала мадам Конде.
— Так ваше высочество будете довольны, потому что увидите сегодня трех курьеров, — сказал Пьер Ленэ с прежним хладнокровием.
— Как? Трех?
— Точно так, ваше высочество. Первого видели на дороге из Бордо, второй едет из Стене, а третий — от Ларошфуко.
Обе принцессы вскрикнули от радостного удивления. Маркиза закусила губы.
— Мне кажется, дорогой господин Пьер, — сказала она с ужимками, желая скрыть досаду и позолотить свои колкие слова, — такой искусный колдун, как вы, не должен останавливаться на половине пути. Рассказав нам о курьерах, он должен бы в то же время и передать, что содержится в депешах.
— Мое колдовство, — скромно отвечал Ленэ, — не простирается так далеко и ограничивается желанием быть верным слугой. Я докладываю, а не угадываю.
В ту же минуту (как будто действительно ему служил какой-то дух-покровитель) показались два всадника, скакавшие вдоль решетки сада. Тотчас толпа любопытных, оставив цветники и газоны, бросилась к решеткам, чтобы получить свою долю новостей.
Оба всадника сошли с лошадей. Первый, бросив поводья лошади, взмокшей от пота, второму, который казался его лакеем, подошел — вернее, подбежал — к принцессам, которые шли ему навстречу и которых он заметил в дальнем углу галереи, входя в нее с другого конца.
— Клер! — вскричала принцесса.
— Да, я, ваше высочество, примите мое покорнейшее уважение.
И, упав на колени, всадник хотел почтительно поцеловать руку супруги Конде.
— Нет! Нет! В мои объятья, дорогая виконтесса! В мои объятья! — восклицала принцесса, поднимая Клер.
Когда принцесса расцеловала всадника, он с величайшим почтением повернулся к вдовствующей принцессе и низко поклонился ей.
— Говорите скорей, милая Клер, — сказала она.
— Да, говори, — прибавила принцесса Конде. — Виделась ты с Ришоном?
— Виделась, и он дал мне поручение к вашему высочеству.
— Приятное?
— Сама не знаю, всего два слова.
— Что такое? Скорей, скорей!
Самое живое любопытство выразилось на лицах обеих принцесс.
— Бордо. — Да! — произнесла Клер со смущением, не зная, какое действие произведут ее слова.
Но она скоро успокоилась: на эти два слова принцессы отвечали торжествующим криком. Услышав его, тотчас подбежал Ленэ.
— Ленэ! Ленэ! Подите сюда! — кричала молодая принцесса. — Вы не знаете, какую новость привезла нам наша добрая Клер?
— Знаю, — отвечал Ленэ, улыбаясь, — знаю, вот почему я не спешил сюда.
— Как! Вы знали?
— Бордо. — Да! Не правда ли? — сказал Ленэ.
— Ну, вы в самом деле колдун, дорогой Пьер! — вскричала вдовствующая принцесса.
— Но, если вы знали эту новость, Ленэ, — сказала младшая принцесса с упреком, — почему же вы не вывели нас из томительного беспокойства этими двумя словами?
— Я хотел оставить виконтессе де Канб награду за ее труды, — отвечал Ленэ, кланяясь взволнованной Клер, — притом же я боялся, что на террасе вы станете радоваться при всех.
— Вы всегда правы, всегда правы, мой добрый Пьер, — сказала принцесса. — Будем молчать!
— И всем этим обязаны мы храброму Ришону, — начала вдовствующая принцесса. — Вы довольны им, он превосходно действовал, не так ли, кум?
Старшая Конде говорила "кум", когда хотела выразить свое благоволение; она выучилась этому слову у Генриха IV, который очень часто употреблял его.
— Ришон — человек умный и притом в высшей степени исполнительный, — отвечал Ленэ. — Верьте мне, ваше высочество, если б я не был уверен в нем, как в самом себе, то не рекомендовал бы вам его.
— Чем наградить его? — спросила принцесса.
— Надобно дать ему какое-нибудь важное место, — отвечала свекровь.
— Важное место! — колко повторила маркиза де Турвиль. — Помилуйте, ваше высочество, Ришон не дворянин.
— Да ведь и я тоже не дворянин, — возразил Ленэ, — а все-таки принц оказывал мне полное доверие. Разумеется, я очень уважаю французское дворянство; но бывают обстоятельства, в которых, я осмелюсь сказать, великая душа лучше старого герба.
— А отчего сам он не приехал с этой важной вестью? — спросила принцесса.
— Он остался в Гиени, чтобы набрать несколько сот солдат. Он сказал мне, что может уже надеяться на триста человек, только они из-за недостатка времени будут плохо подготовлены к кампании, и что лучше всего, если он получит место коменданта какой-нибудь крепости, например, Вера или острова Сен-Жорж. "Я уверен, — говорил он мне, — что там я буду полезен их высочествам".
— Но каким образом исполнить его желание? — спросила принцесса. — Нас так не любят при дворе, что мы сейчас никого не можем рекомендовать, а если кого порекомендуем, то он в ту же минуту станет человеком подозрительным.
— Может быть, ваше высочество, — сказала виконтесса, — есть средство, о котором говорил мне сам Ришон.
— Какое?
— Герцог д’Эпернон, — отвечала виконтесса, покраснев, — говорят, влюблен в одну девицу…
— Да, в красавицу Нанон, — перебила принцесса с презрением, — мы это знаем.
— Говорят, что герцог д’Эпернон ни в чем не отказывает этой женщине, а эта женщина продает все что угодно. Нельзя ли купить у нее место для Ришона?
— Это была бы разумная трата, — сказал Ленэ.
— Да, правда, но наша касса пуста, вы это знаете, господин советник, — заметила маркиза де Турвиль.
Ленэ с улыбкой повернулся к Клер.
— Теперь вы можете, виконтесса, показать их высочествам, что вы обо всем позаботились.
— Что вы хотите сказать, Ленэ?
— Вот что хочет он сказать: я так счастлива, что могу предложить вашему высочеству небольшую сумму, которую я с трудом вытянула у моих фермеров; приношение очень скромно, но я не могла достать больше. Двадцать тысяч ливров! — нерешительно прибавила виконтесса, краснея и стыдясь, что предлагает такую незначительную сумму первым после королевы дамам страны.
— Двадцать тысяч! — повторили обе принцессы.
— Но это просто богатство в наше время! — продолжала старшая с радостью.
— Милая Клер! — вскричала молодая принцесса. — Как мы заплатим тебе за усердие… чем?
— Ваше высочество, вы подумаете об этом после.
— А где деньги? — спросила маркиза де Турвиль.
— В комнате ее высочества, куда отнес их мой слуга Помпей.
— Ленэ, — сказала принцесса, — вы не забудете, что мы должны двадцать тысяч ливров виконтессе де Канб?
— Они уже записаны среди наших долгов, — отвечал Ленэ, вынимая записную книжку и показывая, что эти двадцать тысяч ливров, помеченные сегодняшним днем, уже стоят в длинном ряду цифр, который, вероятно, несколько испугал бы принцесс, если о они вздумали сложить их.
— Но как могла ты пробраться сюда, дорогая красавица? — спросила принцесса у Клер. — Здесь говорят, что господин де Сент-Эньян занял дорогу, осматривает людей и их пожитки, как настоящий таможенник.
— Благодаря благоразумию моего Помпея мы сумели избежать этой опасности: отправились в объезд; это задержало нас в дороге на лишних полтора дня, но сделало наш путь безопасным. Иначе я уже вчера имела бы счастье видеть ваше высочество.
— Успокойтесь, виконтесса, — сказал Ленэ, — время не потеряно, стоит только хорошо употребить нынешний день и завтрашний. Сегодня, как изволит помнить ее высочество, мы ждем трех курьеров. Один приехал, остаются еще два.
— А нельзя ли узнать имена этих двух курьеров? — спросила маркиза де Турвиль, надеясь как-нибудь поймать советника, с которым она соперничала, хотя между ними не было явной распри.
— Прежде, если расчеты не обманут меня, — отвечал Ленэ, — приедет Гурвиль от герцога де Ларошфуко.
— То есть от принца де Марсильяка, хотите вы сказать? — перебила маркиза.
— Принц де Марсильяк теперь называется уже герцогом де Ларошфуко.
— Стало быть, отец его умер?
— Уже с неделю назад.
— Где?
— В Вертёе.
— А второй курьер? — спросила принцесса.
— Второй курьер — капитан телохранителей принца, господин Бланшфор. Он приедет из Стене; его пришлет маршал Тюренн.
— В таком случае думаю, — сказала маркиза де Турвиль, — чтобы не терять времени, можно было бы привести в действие мой первый план, составленный в расчете на согласие Бордо и союз господ Тюренна и Марсильяка.
Ленэ улыбнулся, по обыкновению.
— Извините, маркиза, — сказал он чрезвычайно учтиво, — но планы, составленные принцем, теперь исполняются и обещают полный успех.
— Планы, составленные принцем! — язвительно повторила маркиза де Турвиль. — Принцем!.. Когда он сидит в Венсенской башне и ни с кем не может сообщаться!
— Вот приказания его высочества, написанные его собственной рукой и помеченные вчерашним днем, — возразил Ленэ, вынимая из кармана письмо принца Конде, — я получил их сегодня утром. Мы поддерживаем постоянную связь.
Обе принцессы почти вырвали бумагу из рук советника и прочли со слезами радости все, что там было написано.
— О, в карманах Ленэ найдешь всю Францию! — сказала с улыбкой вдовствующая принцесса.
— Нет еще, ваше высочество, нет еще, — отвечал советник, — но с Божьей помощью, может статься, так и будет. А теперь, — прибавил он, со значением указывая на Клер, — теперь виконтесса, после долгого пути, верно, нуждается в покое…
Виконтесса поняла, что Ленэ хочет остаться наедине с принцессами, и, увидев на лице старшей из них улыбку, подтверждающую это, поклонилась и вышла.
Маркиза де Турвиль осталась, надеясь собрать богатый урожай самых свежих известий, но вдовствующая принцесса подала знак невестке, и обе они сделали величественный реверанс по всем правилам этикета, показывая маркизе, что политическое заседание, на которое ее пригласили, уже кончилось.
Маркиза — любительница теорий — очень хорошо поняла намек; она сделала обеим дамам еще более низкий и церемонный реверанс и ушла, про себя призывая Бога в свидетели неблагодарности принцесс.
Вдова и ее невестка прошли в свой рабочий кабинет. Пьер Ленэ последовал за ними. Убедившись, что дверь крепко заперта, он начал:
— Если вашим высочествам угодно принять Гурвиля, то я скажу, что он только приехал и теперь переодевается, потому что не смеет показаться в дорожном платье.
— А какие новости он привез?
— Важное известие: герцог де Ларошфуко будет здесь завтра или, может быть, даже сегодня вечером с пятьюстами дворянами.
— С пятьюстами дворянами! — вскричала принцесса. — Да это целая армия!
— Однако ж это затруднит нам путь. По-моему, лучше бы пять-шесть слуг, чем вся эта толпа. Мы легче бы скрылись от господина де Сент-Эньяна. Теперь почти невозможно проехать в Южную Францию без досмотра.
— Тем лучше, тем лучше, пусть осматривают! — вскричала принцесса. Если они попытаются сделать это, мы будем сражаться и останемся победителями: дух принца Конце будет вести нас.
Ленэ взглянул на вдовствующую принцессу, как бы желая знать ее мнение; но Шарлотта де Монморанси, вскормленная во время междоусобных войн царствования Людовика XIII, видевшая стольких аристократов, попавших в тюрьмы или сложивших свои головы на эшафоте, потому что не хотели склонить их и желали сохранить свои права, — лишь печально провела рукой по лбу, отягченному самыми горькими воспоминаниями.
— Да, — сказала она, — вот до чего мы доведены: приходится скрываться или сражаться… Страшное дело! Мы жили спокойно, со славой, которую Господь Бог послал нашему дому; мы хотели — надеюсь, что никто из нас не имел другого намерения, — мы хотели только сохранить высокое положение, данное нам по праву рождения, и вот… вот события принуждают нас сражаться против нашего суверена…
— О, я не так горько смотрю на эту необходимость, как ваше высочество! — возразила молодая принцесса. — Мой муж и мой брат в заточении без всякой причины, а мой муж и мой брат — ваши дети; кроме того, ваша дочь в изгнании. Вот чем оправдываются все наши замыслы, все, на какие мы вздумаем решиться.
— Да, — отвечала вдовствующая принцесса с печалью, полной покорности судьбе, — да, я переношу бедствие с большим терпением, чем вы, мадам, но, кажется, нам всем на роду написано быть пленниками или изгнанниками. Едва я вышла замуж за вашего свекра, как мне пришлось бежать из Франции, потому что меня преследовала любовь Генриха IV. Едва мы успели возвратиться, как попали в Венсен: теперь нас преследовала ненависть кардинала Ришелье. Сын мой, который теперь сидит в тюрьме, через тридцать два года смог увидеть ту самую камеру, в которой родился. Ваш свекор недаром пророчески сказал после победы при Рокруа, глядя на залу, украшенную испанскими знаменами: "Не могу сказать, как я радуюсь этой победе моего сына, но только помните слова мои: чем больше дом наш приобретет славы, тем больше подвергнется гонению. Если б я не сражался за Францию, герб которой слишком славен, чтобы отступить от него, я взял бы в свой герб ястреба с колокольчиками, везде извещающими о нем и в то же время помогающими ловить его; а к этому гербу я взял бы девиз "Fama nocet". Мы слишком много наделали шуму, дочь моя, и вот это вредит нам. Вы согласны со мной, Ленэ?
— Ваше высочество правы, — отвечал Ленэ, опечаленный воспоминаниями, которые пробудила в нем старшая принцесса, — но мы зашли так далеко, что теперь не можем вернуться назад. Скажу более: в таком положении, каково наше, нужно решиться на что-нибудь как можно скорее, нельзя закрывать глаза на обстоятельства. Мы свободны только по видимости; королева не спускает с нас глаз, а господин де Сент-Эньян держит нас в блокаде. В чем же дело? Надобно уехать из Шантийи, невзирая на надзор королевы и на блокаду Сент-Эньяна.
— Уедем из Шантийи, но открыто! — вскричала молодая принцесса.
— Я согласна с этим предложением, — прибавила старшая, — принцы Конде не испанцы и не умеют предавать; они не итальянцы и не умеют хитрить; они действуют открыто, при дневном свете.
— Ваше высочество, — возразил Ленэ убежденно, — Богом клянусь, что я первый готов исполнить всякое приказание ваше, но, чтобы уехать из Шантийи так, как вам угодно, надобно сражаться. Вы, без сомнения, в день битвы не будете иметь намерения вести себя по-женски после того, как показали себя мужами совета; вы пойдете впереди ваших приверженцев и станете ободрять воинов боевым кличем. Но вы забываете, что подле ваших бесценных особ находится особа, не менее бесценная: герцог Энгиенский — ваш сын, ваш внук; неужели вы решитесь сложить в одну могилу и настоящее и будущее вашей фамилии? Неужели вы думаете, что Мазарини не отомстит отцу за то, что будут предпринимать в пользу сына? Разве вы не знаете страшных тайн Венсенского замка, печально испытанных господином великим приором Вандомским, маршалом Орнано и Пюилореном? Разве вы забыли эту роковую комнату, которая ценится на вес мышьяка, как говорит госпожа Рамбуйе? Нет, ваше высочество, — продолжал Ленэ, умоляюще сложив руки, — нет, вы послушаете совета вашего старого слуги, вы уедете из Шантийи, как надлежит сделать женщинам, которых преследуют. Не забывайте, что самое сильное ваше оружие — ваша слабость: сын, лишенный отца, супруга, лишенная мужа, бегут, как могут, от угрожающей опасности. Чтобы действовать и говорить открыто, подождите до тех пор, пока вы будете в безопасности и приобретете более силы. Пока вы в плену, приверженцы ваши немы; когда вы освободитесь, они заговорят, перестанут бояться, что им предложат тяжкие условия вашего выкупа. План наш составлен с помощью Гурвиля. Мы уверены, что у нас будет хороший конвой, он защитит нас во время пути. Ведь сейчас на вашем пути действуют двадцать различных отрядов, которые живут тем, что собирают дань с друзей и с врагов. Согласитесь на мое предложение, все готово.
— Уехать тайком! Бежать, как убегают преступники! — вскричала молодая принцесса. — О, что скажет принц, когда узнает, что его мать, жена и сын перенесли такой стыд и позор?
— Не знаю, что он скажет, но, если вам улыбнется удача, он будет обязан вам своим освобождением. Если же вы не будете иметь успеха, то все же не истощите ваших средств и не подвергнете опасности ни своих помощников, ни тем более свое положение: ведь вы не будете вести войны.
Старшая принцесса поразмыслила с минуту и сказала с задумчивой грустью:
— Дорогой господин Ленэ, убедите дочь мою, потому что я вынуждена остаться здесь. До сих пор я крепилась, скрывала свою болезнь, чтобы не отнять последней бодрости у наших приверженцев, но теперь изнемогаю. Меня ждет ложе страдания, на котором я, может быть, умру… Но вы сказали правду: прежде всего надобно спасти будущее дома Конде. Дочь моя и внук мой уедут из Шантийи и, надеюсь, будут так умны, что станут считаться с вашими советами, скажу более — с вашими приказаниями. Приказывайте, добрый Ленэ, все будет исполнено!
— Как вы побледнели! — вскричал Ленэ, поддерживая вдову. Невестка, прежде заметившая это, уже приняла ее в свои объятия.
— Да, — сказала принцесса, все более ослабевая, — да, добрые сегодняшние известия поразили меня более, чем все, что мы вытерпели в последнее время. Я чувствую жестокую лихорадку. Но скроем мое положение. Известие о нем могло бы очень повредить нам в настоящее время.
— Нездоровье вашего высочества, — сказал Ленэ, — было бы милостью Неба, если б только вы не страдали. Оставайтесь в постели, распустите слух, что вы больны. А вы, — прибавил он, обращаясь к молодой принцессе, — прикажите послать за вашим доктором Бурдло. Нам понадобятся экипажи и лошади; поэтому позвольте объявить, что вы намерены повеселить нас травлей оленей. Таким образом, никто не удивится, если увидит необычное движение, оружие и лошадей.
— Распорядитесь сами, Ленэ. Но как вы, столь предусмотрительный человек, не подумали о том, что всякий невольно удивится этой странной охоте, назначенной именно тоща, когда матушка почувствовала себя нездоровой?
— Это также предусмотрено, ваше высочество. Послезавтра герцогу Энгиенскому исполняется семь лет; в этот день женщины должны передать его в руки мужчин.
— Да.
— Хорошо. Мы объявим так: охота назначается по случаю первого облачения маленького принца в мужское платье, и ее высочество настояли, чтобы ее болезнь не служила препятствием празднику. Мы же должны были покориться ее желанию.
— Бесподобная мысль! — вскричала вдовствующая принцесса в восторге оттого, что ее внук уже начинает становиться мужчиной. — Да, предлог придуман превосходно, и вы, Ленэ, удивительный советник.
— Но во время охоты герцог Энгиенский будет сидеть в карете? — спросила младшая принцесса.
— Нет, он поедет верхом. Но ваше материнское сердце может быть спокойно. Я придумал маленькое седло; Впала, конюший герцога, прикрепит его к своему седлу, таким образом все увидят герцога, а вечером мы сможем уехать в полной безопасности. Подумайте, в карете его остановит первое препятствие, а верхом он везде проедет, не так ли?
— Так когда вы хотите ехать?
— Послезавтра вечером, если ваше высочество не имеет причины откладывать отъезд.
— О нет, нет! Бежим из нашей тюрьмы как можно скорее, Ленэ.
— А что вы станете делать, выбравшись из Шантийи? — спросила вдовствующая принцесса.
— Мы прорвемся через армию господина де Сент-Эньяна, найдя средство отвести ему глаза. Затем, соединившись с герцогом де Ларошфуко и его эскортом, поедем в Бордо, где нас ждут. Когда мы будем во втором городе королевства, в столице Юга Франции, мы сможем вести войну или переговоры, как угодно будет вашим высочествам. Впрочем, имею честь уведомить вас, что даже и в Бордо мы продержимся весьма недолго, если близко от нас не будет какой-нибудь крепости, которая отвлечет внимание наших врагов. Две такие крепости для нас чрезвычайно важны: одна, Вер, господствует над Дордонью и обеспечивает подвоз продовольствия в Бордо; другая — остров Сен-Жорж, на который даже жители Бордо смотрят как на ключ к своему городу. Но мы после подумаем об этом; в настоящую минуту нам надобно думать только об отъезде отсюда.
— Это дело очень легкое, — сказала молодая принцесса. — Все-таки мы здесь одни и полные хозяева, что бы вы ни говорили.
— Не стройте никаких планов, пока мы не будем в Бордо: нет ничего легкого при дьявольском уме Мазарини. Я ждал момента, когда мы останемся наедине и я смогу сообщить мой план вашему высочеству, но эта предосторожность ничего не значит: я принял ее так, для очистки совести; даже в эту минуту я боюсь за свой план, за план, изобретенный моей собственной головой и сообщенный только вам. Мазарини не узнаёт новости, а угадывает их.
— О, пусть попробует помешать нам! — возразила молодая принцесса. — Но поможем матушке дойти до ее спальни. Сегодня же я стану рассказывать, что послезавтра у нас праздник и охота. Не забудьте написать приглашения, Ленэ.
— Положитесь на меня, мадам.
Вдовствующая принцесса прошла в свою спальню и слегла в постель. Тотчас позвали доктора принцев Конде и учителя герцога Энгиенского, господина Бурдло. Весть об этой неожиданной болезни в ту же минуту распространилась по Шантийи, и через четверть часа рощи, галереи, цветники — все опустело: гости спешили в приемную комнату узнать о здоровье вдовствующей принцессы.
Ленэ провел весь день за письменным столом, и в тот же вечер многочисленные слуги этой семьи королевской крови развезли в разные стороны более пятидесяти приглашений.
ХIII
На третий день было назначено исполнение планов метра Пьера Ленэ. Погода была чрезвычайно дурная, хотя стояла весна, которая обычно, особенно во Франции, считается лучшим временем года. Холодный и частый дождь падал на цветники в Шантийи через серый туман, покрывавший весь сад и парк. Вокруг коновязей на огромных дворах пятьдесят оседланных лошадей, свесив уши и печально опустив головы, нетерпеливо рыли копытами землю. Собаки, сбитые в своры по дюжинам, шумно дыша и зевая в ожидании травли, старались увлечь за собой слугу, который отирал своим любимцам мокрые уши.
Егеря, одетые в светло-желтые форменные костюмы, прохаживались тут же, заложив руки за спину. Несколько офицеров, привыкших к непогоде на бивуаках при Рокруа или при Лансе, не боялись дождя и, желая развлечься, разговаривали, стоя группами, на террасах или на крыльце.
Всем было объявлено, что в этот знаменательный день герцог Энгиенский выходит из рук женщин, поручается мужчинам и в первый раз будет травить оленя. Все офицеры, служившие принцу, все приближенные этого знаменитого дома, приглашенные посланиями Ленэ, почли за обязанность явиться в Шантийи. Сначала они очень беспокоились о здоровье вдовствующей принцессы, но бюллетень доктора Бурдло успокоил их: после кровопускания она в то же утро приняла рвотное — лекарство, считавшееся в то время универсальным средством.
В десять часов все гости, приглашенные лично принцессою Конде, уже приехали; каждого приняли, когда он предъявил пригласительную записку; а кто забыл захватить ее с собой, того встречал сам Ленэ, указывая швейцару, что гостя можно впустить. Приглашенные вместе со служителями дома могли составить отряд человек в восемьдесят или в девяносто. Почти все они столпились около прекрасной белой лошади, которая имела честь нести на седле небольшое обитое бархатом кресло для герцога Энгиенского. Герцог должен был занять свое место, когда его конюший Виала сядет на лошадь.
Однако ничто не указывало еще на начало охоты; казалось, кого-то ждали.
В половине одиннадцатого трое дворян в сопровождении шести лакеев, вооруженных с ног до головы, с чемоданами, в которых поместилось бы все, что нужно для путешествия по Европе, въехали в замок. Увидев во дворе коновязи, казалось, приготовленные для этого случая, они хотели привязать к ним своих лошадей.
Тотчас человек, одетый в голубой мундир, с серебряной перевязью, с алебардой в руках, подошел к приезжим, в которых легко можно было узнать путешественников, приехавших издалека, потому что они промокли до костей, а сапоги их были покрыты грязью.
— Откуда вы, господа? — спросил этот новоявленный швейцар, опираясь на алебарду.
— С севера! — отвечал один из всадников.
— И куда вы едете?
— На похороны.
— А доказательство?
— Вот наш креп.
Действительно, у всех трех дворян был креп на эфесе шпаги.
— Извините меня, господа, — ответил на это швейцар, — пожалуйте в замок. Стол приготовлен, комнаты натоплены, лакеи ждут ваших приказаний. Что же касается ваших слуг, то их будут угощать в людской.
Дворяне, настоящие провинциалы, голодные и любопытные, поклонились, сошли с лошадей, отдали поводья своим лакеям, спросили, где столовая, и направились туда. Камергер дожидался их у дверей и взялся служить им руководителем.
Между тем лакеи принцессы повели лошадей гостей в конюшню, где принялись чистить и холить их, а затем поставили перед яслями с овсом.
Едва трое прибывших дворян успели сесть за стол, как на двор въехали еще шесть всадников с шестью лакеями, вооруженными и снаряженными так, как мы уже описали. Увидев коновязи, они тоже захотели привязать лошадей. Но швейцар с алебардою, которому даны были строгие приказания, подошел к ним и спросил:
— Откуда вы, господа?
— Из Пикардии. Мы офицеры Тюренна.
— Куда едете?
— На похороны.
— Доказательство?
— Посмотрите на наш креп.
Подобно первым гостям, они показали креп на своих шпагах.
Новым гостям, как и первым, был оказан любезный прием, и они заняли место за столом; подобная же забота была проявлена об их лошадях, которые заняли место в конюшне.
Затем явились еще четверо, и повторилась та же сцена.
От десяти до двенадцати часов таким образом приехало сто всадников. Они приезжали по двое, по четыре или по пять разом, поодиночке или группами; некоторые были одеты великолепно, некоторые — очень бедно, но все были хорошо вооружены и сидели на хороших лошадях. Всех их швейцар расспрашивал прежним порядком; все они отвечали, что едут на похороны, и показывали креп.
Когда все они отобедали и познакомились, когда люди их наелись, а лошади освежились, Ленэ вошел в столовую и сказал:
— Господа, принцесса Конде поручила мне поблагодарить вас за честь, которую вы ей оказали своим посещением, заехав к ней по пути к господину герцогу де Ларошфуко: ведь вы отправляетесь на похороны его родителя. Считайте этот дворец вашим собственным домом и примите участие в травле, которая назначена сегодня после обеда по случаю нашего домашнего праздника: герцог Энгиенский сегодня переходит на воспитание мужчин.
Общее одобрение и самая искренняя благодарность встретили эту первую часть речи Ленэ; как искусный оратор, он остановился на сообщении, которое должно было возбудить громкий восторг.
— После охоты, — прибавил он, — вы будете ужинать за столом принцессы, она хочет лично поблагодарить вас, потом вы вольны продолжать ваш путь.
Некоторые из всадников с особенным вниманием выслушали эту программу, которая несколько стесняла свободу их действий. Но, очевидно, герцог де Ларошфуко уже предупредил их, так как ни один не возражал. Иные пошли проверить своих лошадей, другие распаковали свой багаж и стали готовиться к представлению принцессам; наконец, третьи остались за столом и повели разговор о тогдашних делах, имевших, видимо, некоторую связь с событиями этого дня.
Многие прохаживались под главным балконом, на котором по окончании туалета должен был показаться герцог Энгиенский, в последний раз находившийся на попечении женщин. Юный принц, сидевший в своих комнатах с кормилицами и няньками, не понимал, какую важную роль он сейчас играет. Но, уже полный аристократического тщеславия, он нетерпеливо смотрел на богатый костюм, который наденут на него впервые. То было черное бархатное платье, шитое серебром, что придавало костюму вид траура. Мать принца непременно хотела прослыть вдовой и задумала уже вставить в свое приветствие такие значительные слова:
— Бедный мой сирота!
Но не только принц с восторгом поглядывал на богатое платье, знак наступающего мужества. Возле него стоял другой мальчик, постарше несколькими месяцами, с розовыми щеками, белокурыми волосами, дышащий здоровьем, силой и живостью. Он пожирал глазами великолепие, окружавшее его счастливого товарища. Уже несколько раз, не имея сил сдержать свое любопытство, он подходил к стулу, на котором лежали богатые наряды, и потихоньку ощупывал материю и шитье в то время, как принц смотрел в другую сторону. Но случилось, что герцог Энгиенский взглянул слишком рано, а Пьерро отнял руку слишком поздно.
— Смотри, осторожнее, — вскричал маленький принц с досадой, — говорю тебе, Пьерро, осторожнее! Ты, пожалуй, испортишь мне платье, ведь это шитый бархат, и он тотчас портится, как только до него дотронешься. Запрещаю тебе трогать его!
Пьерро спрятал руку за спину, пожимая плечами, как всегда делают дети, когда они чем-нибудь недовольны.
— Не сердитесь, Луи, — сказала принцесса своему сыну, лицо которого исказилось довольно неприятной гримасой, — если Пьерро дотронется до твоего платья, мы прикажем высечь его.
Пьерро сердито надул губы и ответил с угрозой:
— Монсеньер — принц, да зато я садовник; если он не соблаговолит разрешить мне дотрагиваться до его платья, то я не позволю ему играть с моими цесарками. Да ведь я и посильнее монсеньера, и он это знает…
Едва он успел выговорить эти неосторожные слова, как кормилица принца, мать Пьерро, схватила непокорного подданного за руку и сказала:
— Ты забываешь, Пьерро, что монсеньер — твой господин, ему принадлежит все в замке и в его окрестностях, стало быть, твои цесарки принадлежат тоже ему.
— Ну вот, — пробормотал Пьерро, — а я думал, что он мне брат.
— Да, но брат молочный.
— Ну, если он мне брат, так мы все должны делить, и если мои цесарки принадлежат ему, то и его платье — мое.
Кормилица хотела пуститься в пространные объяснения, какова разница между братом единоутробным и братом молочным, но юный принц, желавший удивить Пьерро и вызвать зависть к себе, прервал ее речь и сказал:
— Не бойся, Пьерро, я не сержусь на тебя. Ты сейчас меня увидишь на большой белой лошади и в маленьком моем седле; я поеду на охоту и сам убью оленя.
— Как бы не так! — возразил Пьерро с очевидной насмешкой. — Долго усидите вы на лошади! Вы третьего дня хотели поездить на моем осле, да и тот сбросил вас.
— Правда, — отвечал герцог Энгиенский с величественным видом, который он принял, призвав на помощь воспоминания, — но сегодня я представляю принца Конде и, стало быть, не упаду; притом Впала будет держать меня обеими руками.
— Довольно, довольно, — сказала принцесса, желая прекратить спор Пьерро с герцогом Энгиенским. — Пора одевать его высочество. Вот уже бьет час, а дворяне наши ждут с нетерпением. Ленэ, прикажите подать сигнал.
XIV
В ту же минуту во дворе раздался звук рогов, который разнесся до самых дальних покоев замка. Все бросились к своим коням, свежим и отдохнувшим благодаря заботам конюхов, и сели в седла. Ловчий со своими загонщиками, егеря в сопровождении свор собак последовали за гостями. Затем дворяне выстроились в два ряда, и герцог Энгиенский, верхом на белой лошади, поддерживаемый Виала, появился в сопровождении придворных дам и кавалеров, а также конюших. За ним следовала его мать в роскошном туалете на черной, как вороново крыло, лошади. Рядом с ней, тоже верхом на коне, которым она управляла с восхитительной грацией, ехала виконтесса де Канб, очаровательная в своем женском наряде, который она наконец надела, к своей великой радости.
Что касается госпожи де Турвиль, то ее напрасно все пытались разыскать еще со вчерашнего дня; она исчезла, словно Ахилл, удалившийся в свою палатку.
Блестящая кавалькада была встречена единодушными кликами. Все показывали друг другу, поднимаясь на стременах, принцессу и герцога Энгиенского, которых большинство дворян не знали в лицо, потому что никогда не бывали при дворе и жили вдали от всего этого царственного великолепия. Мальчик приветствовал публику с очаровательной улыбкой, а принцесса — с кротким величием. Это были жена и сын того военачальника, кого даже враги называли первым полководцем Европы. Теперь же этот воитель подвергся преследованиям, был посажен в тюрьму теми, кого он спас от врага при Лансе и защитил против мятежников в Сен-Жермене. Всего этого было более чем достаточно, чтобы вызвать энтузиазм, сразу же достигший высшей степени.
Принцесса упивалась всеми этими свидетельствами своей популярности. Потом, после того как Ленэ потихоньку шепнул ей несколько слов на ухо, она подала сигнал к отправлению. Вскоре охотники въехали в парк, все ворота которого охранялись солдатами полка принца Конде. Решетки вслед за охотниками были заперты, но и эта предосторожность казалась недостаточной. Все как будто еще боялись, чтобы к празднику не пристроился какой-нибудь тайный враг. Поэтому солдаты остались на часах у решетки, а около каждой двери был поставлен швейцар с алебардой, которому было приказано отворять только тем, кто ответит на три вопроса, служившие паролем.
Спустя минуту после того, как заперли решетку, звук рогов и свирепый лай собак дали знать, что травля началась.
Между тем с наружной стороны парка, против стены, построенной коннетаблем Анн де Монморанси, шесть всадников, услышав звуки рогов и лай собак, остановились, поглаживая лошадей, и начали совещаться.
Глядя на их платья, совершенно новые, на богатую сбрую их лошадей, на плащи из блестящей ткани, которые спускались с их плеч на конские крупы, и богатое оружие, которое они ловко показывали, нельзя было не удивиться, что такие красивые и нарядные кавалеры составляют изолированную группу, в то время как все окрестное дворянство собралось в замке Шантийи.
Впрочем, блеск этих всадников бледнел перед роскошью, с которой был одет их начальник, или тот, кто казался их начальником: шляпа с плюмажем, позолоченная перевязь, сапоги из тонкой кожи и с золотыми шпорами, длинная шпага с резным эфесом и великолепный голубой испанский плащ составляли его наряд.
— Черт возьми, — сказал он после нескольких минут глубокого раздумья, во время которого прочие всадники смотрели на него с некоторым замешательством. — Как же попасть в парк? Войти в ворота или перелезть через решетку? Впрочем, подъедем к первым воротам или к первой калитке, и мы, верно, войдем. Таких прекрасно обмундированных молодцов, как мы, не оставят за воротами, если туда впускают людей, одетых так, как те, которых мы встречаем с самого утра.
— Повторяю вам, Ковиньяк, — отвечал тот всадник, к которому начальник обратился с речью, — повторяю, что эти плохо одетые люди, теперь разгуливающие в парке, несмотря на то, что их костюмы похожи черт знает на что, имели перед нами важное преимущество: они знали пароль. Мы же не знаем пароля и не попадем в парк.
— Ты так думаешь, Фергюзон? — спросил с уважением к мнению товарища первый всадник, в котором читатель узнал уже давнишнего нашего приятеля, являвшегося на первых страницах этой истории.
— Думаю! Нет, не только думаю, а даже совершенно уверен! Неужели вы полагаете, что эти люди охотятся просто для развлечения? Как бы не так! Они, верно, замышляют что-нибудь.
— Фергюзон прав, — сказал третий. — Они, по-видимому, замышляют заговор и не впустят нас.
— Однако ж не худо позабавиться травлей оленя, если он встретился на твоем пути.
— Особенно когда охота на людей надоела, не так ли, Барраба? — сказал Ковиньяк. — Ну хорошо. Ты увидишь, что сегодняшняя охота от нас не уйдет. У нас есть все, чтобы достойно участвовать в этом празднике; мы блестим, как новенькие экю. Если герцогу Энгиенскому нужны солдаты, где найдет он людей отчаяннее нас? Если он нуждается в заговорщиках, то где отыщет более элегантных? Самый скромный из нас похож на капитана.
— А вас, Ковиньяк, — подал голос Барраба, — в случае необходимости можно выдать за герцога и пэра.
Ферпозон молчал и думал.
— По несчастью, — продолжал Ковиньяк с улыбкой, — Ферпозону не хочется охотиться сегодня.
— Ну вот, — сказал Ферпозон, — с чего вы это взяли! Охота — дворянское развлечение, к которому я очень склонен. Поэтому я нисколько не пренебрегаю ею и не отговариваю других от нее. Я только говорю, что парк, в котором охотятся, защищен решетками, а ворота для нас заперты.
— Слышите! — вскричал Ковиньяк. — Слышите! Трубы дают знать, что зверь показался.
— Но, — продолжал Ферпозон, — это не значит, что мы не будем охотиться сегодня.
— А как же мы будем охотиться, ослиная ты голова, если не можем войти в парк?
— Я не говорил, что мы не можем войти, — хладнокровно возразил Ферпозон.
— Да как же мы войдем, если решетки и ворота открыты для других, но ты сам говоришь, что они заперты для нас?
— Да почему бы, например, нам не пробить брешь в этой стенке, такую орешь, чтобы мы и лошади наши могли проникнуть в парк? За стеной мы не найдем никого и никто не остановит нас.
— Ура! — закричал Ковиньяк, радостно размахивая шляпой. — Прости меня, Ферпозон: ты между нами самый смышленый человек! Когда я посажу принца на место короля Французского, я выпрошу для тебя место синьора Мазарино Мазарини. За работу, друзья, за работу!
С этими словами Ковиньяк спрыгнул на землю и вместе с товарищами, из которых один остался у лошадей, принялся ломать стену, и без того уже разрушенную временем.
В одну минуту пятеро тружеников проломали проход в три или четыре фута шириной. Потом они сели на лошадей и под предводительством Ковиньяка въехали в парк.
— Теперь, — сказал он, направляясь к месту, откуда неслись звуки рогов, — теперь будем учтивы и воспитанны, и я приглашаю вас ужинать у герцога Энгиенского.
Мы уже сказали, что наши новоиспеченные дворяне ехали на превосходных конях, имевших важное преимущество: они были свежее лошадей всадников, приехавших утром. Группа скоро примкнула к толпе охотников и без труда заняла место между ними. Гости съехались из разных провинций и не знали друг друга; стало быть, наши самозванцы, забравшись в парк, могли сойти за приглашенных.
Все обошлось бы благополучно, если б они держались на своем месте или даже если б они опередили других и смешались с псарями и ловчими. Но получилось иначе. Через минуту Ковиньяк вообразил, что охота устроена исключительно для него. Он выхватил из рук не осмелившегося возразить ему слуги трубу, обогнал всех охотников, скакал куда попало, всячески мешая главному ловчему, без устали трубил, сам не разбирая что, давил собак, опрокидывал слуг, приветливо кланялся встречавшимся дамам, кричал, бранился, выходил из себя и прискакал к оленю в ту самую минуту, когда бедное животное, переплыв большой пруд, совсем выбилось из сил.
— Сюда! Сюда! — кричал Ковиньяк. — Наконец-то мы затравили оленя! Он здесь!
— Ковиньяк, — твердил ему Фергюзон, не отстававший от него, — Ковиньяк, из-за вас выгонят нас всех. Ради Бога, потише!
Но Ковиньяк ничего не слышал и, увидев, что собаки не сладят с оленем, сошел с лошади, обнажил шпагу и закричал во все горло:
— Халлали! Халлали!
Товарищи его, все, кроме осторожного Ферпозона, ободренные его примером, готовились напасть на добычу, как вдруг главный ловчий, отстранив Ковиньяка своим ножом, сказал:
— Потише, сударь, управляет охотой сама госпожа принцесса. Стало быть, она сама перережет оленю горло или предоставит эту честь другому — как ей заблагорассудится.
Ковиньяк пришел в себя от этого резкого замечания; когда он неохотно отступил, прискакали все отставшие охотники; они окружили несчастного оленя, прижатого к подножью дуба и окруженного остервенело набрасывающимися на него собаками.
В ту же минуту на главной аллее показалась принцесса. За нею следовали герцог Энгиенский, придворные дамы и дворяне, желавшие иметь честь сопутствовать ее высочеству. Принцесса вся пылала, чувствуя, что этим подобием войны она начинает войну настоящую.
Прискакав в середину круга, она остановилась, гордо оглядела всех присутствовавших и заметила Ковиньяка с его товарищами, на которых с беспокойством и подозрением поглядывали охотники.
Главный ловчий поднес ей охотничий нож. Это оружие из лучшей стали, превосходно отделанное, служило принцу Конде.
— Ваше высочество изволите знать этого гостя? — тихо спросил он, указывая глазами на Ковиньяка.
— Нет, — отвечала она, — но если он здесь, так, верно, кто-нибудь знает его.
— Его не знает никто, и все, кого я спрашивал, видят его в первый раз.
— Но не мог же он въехать в ворота, не зная пароля?
— Без сомнения, не мог, — отвечал главный ловчий, — однако ж осмеливаюсь доложить вашему высочеству, что его надобно остерегаться.
— Прежде всего надобно узнать, кто он.
— Сейчас мы все узнаем, мадам, — отвечал с обыкновенной своей улыбкой Ленэ, который ехал за принцессой. — Я послал к нему Нормандца, Пикардийца и Бретонца; они основательно порасспросят его. Но теперь не извольте обращать на него внимания, или он ускользнет от нас.
— Вы совершенно правы, Ленэ, займемся охотой.
— Ковиньяк, — сказал Ферпозон, — кажется, высокие господа разговаривают о нас. Не худо бы нам скрыться.
— Ты думаешь? Тем хуже! — возразил Ковиньяк. — Я хочу видеть, как убьют оленя. Халлали! Что будет, то будет.
— Да, зрелище очень приятное, я знаю, — отвечал Фергюзон, — но мы можем заплатить здесь за места гораздо дороже, чем в театре.
— Ваше высочество, — сказал главный ловчий, подавая принцессе нож, — кому угодно вам предоставить честь убить оленя?
— Оставляю это для себя, — ответила принцесса, — женщина моего положения должна привыкать к железу и крови.
— Намюр, — сказал главный ловчий одному из аркебузиров, — приготовиться!
Стрелок вышел из рядов и с аркебузой наизготовку стал шагах в двадцати от зверя. Он должен был убить оленя, если б тот вздумал броситься на принцессу, как это иногда случалось.
Принцесса сошла с лошади, взяла нож; глаза ее горели, щеки пылали, губы дрожали. Так пошла она к оленю, который лежал под собаками и, казалось, был покрыт ими, как разноцветным ковром. Вероятно, бедный олень не понимал, что смерть идет к нему в виде красавицы-принцессы, из рук которой он много раз ел свой корм. Он, с крупными слезами, которые всегда сопровождают агонию оленя, лани и дикой козы, хотел приподняться, но не успел. Лезвие ножа, отразив блеск солнца, исчезло в горле оленя. Кровь брызнула на лицо принцессы. Олень поднял голову, жалобно застонал и, в последний раз с упреком взглянув на прелестную свою госпожу, повалился и околел.
В ту же минуту все трубы затрубили, сотни голосов закричали: "Да здравствует ее высочество!" — а маленький принц, припрыгивая в седле, с радостью бил в ладоши.
Принцесса вытащила нож из горла оленя, гордо, как амазонка, посмотрела кругом, отдала окровавленное оружие главному ловчему и села на лошадь.
Тут Ленэ подошел к ней.
— Не угодно ли вам, — сказал он со своей обыкновенной улыбкой, — не угодно ли, я скажу вашему высочеству, о ком вы думали, когда наносили удар бедному животному.
— Скажите, Ленэ, я буду очень довольна.
— Вы думали о Мазарини и желали, чтобы он был на месте оленя.
— Да, — вскричала принцесса, — именно так! Я убила бы его без жалости, как зверя. Но вы настоящий колдун, любезный Ленэ.
Потом она обернулась к гостям и сказала:
— Теперь, когда охота закончилась, господа, извольте идти за мной. Поздно уже травить другого оленя, притом ужин ждет нас.
Ковиньяк отвечал на это приглашение самым изящным поклоном.
— Что вы делаете, капитан? — спросил Ферпозон.
— Что? Принимаю приглашение, черт возьми! Разве ты не видишь, что принцесса пригласила нас к ужину, как я только что обещал тебе?
— Ковиньяк, послушайте меня: на вашем месте я поспешил бы убраться.
— Ферпозон, друг мой, на этот раз твоя обыкновенная проницательность изменяет тебе. Разве ты не заметил, как отдавал приказание этот одетый в черное господин, очень похожий на лисицу, когда он улыбается, и на хорька, когда не смеется? Поверь мне, Ферпозон, у пролома уже поставлен караул, и идти в ту сторону — значит показать, что мы хотим выйти тем же путем, каким вошли сюда.
— Так что же с нами будет?
— Не беспокойся, я за все отвечаю.
И все шесть авантюристов, возведенные своим начальником в ранг дворян и успокоенные его обещанием, смешались с остальными и двинулись вместе с ними по дороге ко дворцу.
Ковиньяк не ошибся: их не теряли из виду. На фланге у них был Ленэ, справа от него находился главный ловчий, а слева — интендант дома Конде.
— Вы точно уверены, что никто не знает этих кавалеров? — спросил Ленэ.
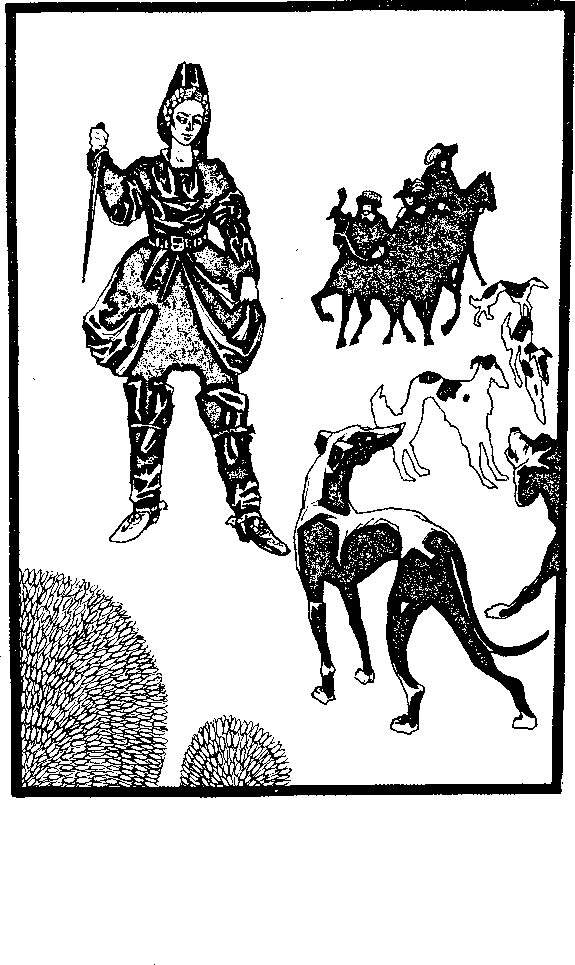
— Никто! Мы спрашивали уже у более чем пятидесяти человек, ответ один и тот же: "Не знаем!"
Нормандец, Пикардиец и Бретонец воротились; они ничего не могли сказать Ленэ. Только Нормандец обнаружил брешь в стене парка и, как человек предусмотрительный, приказал стеречь ее.
— Ну, — сказал Ленэ, — мы прибегнем к самому действенному средству. Неужели из-за горстки шпионов мы должны распустить сотню честных дворян? Вы, господин интендант, наблюдайте, чтобы никто не мог выйти ни из дворца, ни из галереи, куда войдет вся свита. Вы, господин главный ловчий, когда затворят дверь галереи, поставьте на всякий случай караул, человек двенадцать с заряженными ружьями. Теперь ступайте, я не спущу с них глаз.
Впрочем, господину Ленэ не трудно было исполнить дело, за которое он взялся. Ковиньяк и его товарищи вовсе не думали бежать. Ковиньяк шел в первом ряду и храбро крутил усы. Ферпозон следовал за ним, совершенно успокоенный его обещанием: он знал, что Ковиньяк не пошел бы в западню, если бы не был уверен, что из нее есть другой выход. Что же касается до Барраба и других его товарищей, то они шли следом за своим предводителем и его помощником, думая только о предстоящем превосходном ужине. Они интересовались лишь материальными благами и были совершенно беспечны во всех делах, требовавших размышления, полагаясь на двух своих начальников, в которых слепо верили.
Все случилось, как предвидел Ленэ, и исполнилось по его приказанию. Принцесса села в приемном зале под балдахин, в кресло, служившее ей троном; возле нее стал ее сын в том же костюме, о котором мы уже говорили.
Гости смотрели друг на друга: им обещали ужин, а очевидно было, что их хотят угостить речью.
Действительно, принцесса встала и начала говорить. Речь ее вызвала всеобщий энтузиазм. На этот раз Клемане де Майе-Брезе перестала скрывать чувства и щадить Мазарини. Гости, подстрекаемые воспоминанием об обиде, нанесенной принцам и в их лице всему французскому дворянству, а еще более надеждою, что в случае успеха можно будет выговорить выгодные условия у двора, два или три раза прерывали речь принцессы и громко клялись защищать дело знаменитого дома Конде и помочь ему выйти из унижения, в которое низвергнул его кардинал Мазарини.
— Итак, господа, — сказала наконец принцесса, — сирота мой просит вашего храброго содействия, просит принести ему в жертву вашу преданность. Вы наши друзья, по крайней мере, так вы нам представились. Что можете вы сделать для нас?
Затем после минуты торжественного молчания началась величественная и трогательная сцена.
Один из дворян подошел к принцессе, низко поклонился и почтительно сказал:
— Меня зовут Жерар де Монталан, я привез с собой четырех дворян, друзей моих. У всех у нас пять добрых шпаг и две тысячи пистолей; все это мы отдаем на службу вашему высочеству. Вот наше рекомендательное письмо, подписанное господином герцогом де Ларошфуко.
Принцесса в свою очередь поклонилась, приняла письмо из рук подателя, передала его Ленэ и показала рукой, чтобы рекомендованные дворяне перешли на правую сторону.
Едва успели они занять указанное место, как встал другой дворянин.
— Меня зовут Клод Рауль де Лессак, граф де Клермон, — сказал он. — Я приехал с шестью дворянами, друзьями моими. У каждого из нас по тысяче пистолей, просим милостивого дозволения внести их в казну вашего высочества. Мы вооружены, имеем хороших лошадей и будем довольствоваться обыкновенным содержанием. Вот наше рекомендательное письмо, подписанное господином герцогом Буйонским.
— Перейдите на правую сторону, господа, — отвечала принцесса, прочитав письмо и передав его Ленэ. — Будьте уверены в совершенной моей признательности.
Дворяне поклонились и отошли.
— Я Луи Фердинан де Лорж, граф де Дюра, — сказал третий дворянин. — Я приехал без друзей и без денег; богат и силен только моей шпагой, которой проложил себе дорогу сквозь неприятельские ряды, потому что был в осажденном Бельгарде. Вот мое письмо от господина виконта де Тюренна.
— Хорошо, добро пожаловать, — отвечала принцесса, одной рукой принимая письмо, а другую подавая ему для поцелуя. — Подойдите и станьте возле меня, я назначаю вас командиром бригады в моих войсках.
Прочие дворяне последовали этому примеру: они приходили с рекомендательными письмами от герцога де Ларошфуко, от герцога Буйонского или от виконта де Тюренна. Каждый отдавал письмо и переходил на правую сторону. Когда правая сторона вся была занята, принцесса приказала дворянам становиться на левую.
Таким образом середина зала понемногу опустела. Там остались только Ковиньяк и его сбиры; они составляли отдельную группу, на которую все смотрели недоверчиво, с гневом и угрозой.
Ленэ взглянул на дверь: она была тщательно заперта. Он знал, что за дверью стоит офицер с дюжиной хорошо вооруженных солдат.
Обернувшись к незнакомцам, он спросил:
— А вы, господа, что за люди? Сделайте одолжение, скажите, кто вы, и покажите нам ваши рекомендательные письма.
Начало этой сцены, исход которой, при несомненной сообразительности Фергюзона, весьма его тревожил, наложило на его лицо тень беспокойства. Это беспокойство передалось и его товарищам, которые, как и Ленэ, стали посматривать на дверь. Но их предводитель, величественно завернувшийся в плащ, оставался спокойным.
По приглашению Ленэ он выступил на два шага вперед, поклонился принцессе с вычурным изяществом и сказал:
— Я, Ролан де Ковиньяк, привел на службу вашего высочества этих пятерых дворян. Все они из знатнейших фамилий Гиени, но желают оставаться неизвестными.
— Но, вероятно, вы приехали в Шантийи не без рекомендации, господа? — возразила принцесса, смущенная мыслью, что произойдут беспорядки, когда будут арестовывать этих незваных гостей. — Где ваше рекомендательное письмо? Покажите!
Ковиньяк поклонился, как человек, понимающий справедливость такого требования, пошарил в кармане, вынул какой-то вчетверо сложенный лист и подал его Ленэ с низким поклоном.
Ленэ развернул бумагу, прочел, и радость выразилась на его лице, до сих пор несколько обеспокоенном и смущенном.
Пока Ленэ читал, Ковиньяк торжествующим взглядом окинул собрание.
— Ваше высочество, — сказал Ленэ принцессе вполголоса. — Посмотрите, какое счастье! Чистый бланк герцога д’Эпернона с его подписью!
— Благодарю вас, сударь! — сказала принцесса с благосклонною улыбкой. — Трижды благодарю вас… благодарю за моего мужа, благодарю за себя, благодарю за моего сына.
Зрители онемели от удивления.
— Сударь, — сказал Ленэ, — бумага эта до такой степени драгоценна, что вы, вероятно, захотите уступить ее нам лишь на каких-то условиях. Сегодня вечером после ужина мы потолкуем о ней, и вы скажете, чем мы можем отблагодарить вас.
Ленэ положил в карман бланк, который Ковиньяк из учтивости не попросил назад.
— Что, — сказал Ковиньяк своим товарищам, — не говорил ли я вам, что приглашаю вас ужинать к герцогу Энгиенскому?
— А теперь, господа, к столу, — сказала принцесса.
Обе половинки боковой двери при этих словах отворились, и открылся великолепно убранный стол в большой галерее замка.
Ужин прошел шумно и весело; каждый раз, когда пили за здоровье принца (а это случилось раз десять), все гости становились на колено, поднимали шпаги и осыпали ругательствами кардинала Мазарини так громко, что стены дрожали.
Прекрасному угощению в Шантийи отдали честь все. Даже Ферпозон, осторожный, благоразумный Ферпозон, отведал прелести бургонских вин, с которыми он познакомился в первый раз. Ферпозон был гасконец и до сих пор поэтому мог оценить только вина своей провинции, которые в то время (если верить герцогу де Сен-Симону) еще не очень славились.
Но Ковиньяк не поддался общему увлечению. Отдавая должное превосходному муленавану, но и и шамбертену, он потреблял их очень умеренно. Он не забывал хитрой улыбки Ленэ и понимал, что ему понадобится вся сила ума, чтобы заключить выгодную торговую сделку с лукавым советником. Зато он очень удивил Ферпозона, Барраба и других своих товарищей, которые, не зная настоящей причины его воздержанности, вообразили, что он хочет переменить свой образ жизни.
К концу ужина, когда тосты начали произноситься все чаще, принцесса вышла и увела с собой герцога Энгиенского: она хотела предоставить гостям своим паяную свободу сидеть за столом, сколько им заблагорассудится.
В конце концов все устроилось согласно ее желаниям. Она оставила обстоятельный рассказ о сцене в гостиной и о пиршестве в галерее, опустив одну-единственную подробность — слова Ленэ, сказанные ей на ухо, когда она вставала из-за стола:
— Не забудьте, ваше высочество, что мы едем в десять часов.
Было уже почти девять. Принцесса принялась за сборы в дорогу.
Между тем Ленэ и Ковиньяк взглянули друг на друга. Ленэ встал; Ковиньяк тоже. Ленэ вышел в маленькую дверь, находившуюся в углу галереи. Ковиньяк понял, в чем дело, и пошел за ним.
Советник провел Ковиньяка в свой кабинет. Авантюрист шел сзади, стараясь казаться беспечным и спокойным. Но между тем рука его небрежно играла рукояткой кинжала, а быстрые проницательные глаза заглядывали во все двери и за все занавески.
Не то чтобы он боялся попасть в западню, но держался правила быть всегда осторожным и наготове.
Когда они вошли в кабинет, полуосвещенный лишь одной лампой, Ковиньяк тотчас осмотрелся и уверился, что они одни. Ленэ указал ему на стул.
Ковиньяк сел у той стороны стала, на которой горела лампа.
Ленэ сел против него.
— Сударь, — сказал Ленэ, стараясь сразу же завоевать доверие дворянина, — позвольте прежде всего отдать вам ваш бланк. Он ведь принадлежит вам, не правда ли?
— Он принадлежит тому, у кого он будет в руках, — отвечал Ковиньяк, — на нем, как вы можете видеть, нет никакого имени, кроме имени герцога д’Эпернона.
— Когда я спрашиваю, ваш ли это бланк, я разумею, как вы его получили? С согласия ли герцога д’Эпернона?
— Я получил этот бланк из его собственных рук, сударь.
— Так эта бумага не похищена и не вырвана силой?.. Я говорю не о вас, но о том, от кого вы ее получили; может быть, она досталась вам из вторых рук?
— Повторяю вам: она отдана мне самим герцогом добровольно в обмен на другой документ, который я доставил герцогу.
— А какие обязательства приняли вы на себя?
— Ровно никаких.
— Стало быть, владелец бланка без опасения может употребить его как захочет?
— Может.
— Так почему вы сами не пользуетесь им?
— Потому что, сохранив бланк, я могу получить что-нибудь одно; а отдав его вам, я получаю две вещи.
— И что же это за вещи?
— Во-первых, деньги.
— У нас их мало.
— Я сговорчив.
— А во-вторых?
— Чин в армии принцев.
— У принцев нет армии.
— Но они хотят ее иметь.
— Не хотите ли лучше взять патент на право набирать рекрутов?
— Я только что хотел просить его.
— Остаются деньги…
— Да, вопрос только в деньгах.
— Сколько вы хотите?
— Десять тысяч ливров. Я уже сказал вам, что не запрошу слишком много.
— Десять тысяч!
— Да. Надо же дать мне хоть что-нибудь вперед на вооружение и обмундирование солдат.
— Правда, вы требуете немного.
— Так вы согласны?
— Извольте!
Ленэ вынул готовый патент, вписал в него имя, сказанное молодым человеком, приложил печать принцессы и отдал бумагу Ковиньяку. Потом открыл сундук с секретным замком, где хранилась казна армии мятежников, достал десять тысяч ливров золотом и разложил кучками, по двадцати луидоров в каждой. Ковиньяк тщательно пересчитал их: пересмотрев последнюю кучку, он кивнул головой в знак, что Ленэ может взять бланк. Ленэ взял бумагу и положил в сундук, считая, без сомнения, что любая забота о безопасности столь драгоценного документа не может быть чрезмерной. В ту минуту, когда Ленэ прятал в карман ключ от сундука, вбежал лакей и объявил, что советника спрашивают по важному делу.
Ленэ и Ковиньяк вышли из кабинета. Ленэ пошел за лакеем, Ковиньяк отправился в зал пиршества.
Между тем принцесса приготовлялась к отъезду. Она переменила парадное платье на амазонку, годную для верховой езды и для кареты, разобрала свои бумаги, сожгла ненужные и спрятала важные, взяла свои бриллианты, которые приказала вынуть из оправы, чтобы они занимали меньше места и чтобы она могла в случае нужды удобнее продать их.
Что же касается герцога Энгиенского, то он должен был ехать в охотничьем костюме, потому что ему не успели еще сшить другого платья. Его конюший Виала должен был постоянно ехать рядом с каретой и, если нужно, обязан был взять его на руки и увезти на белой лошади — чистокровном скакуне. Сначала боялись, чтобы мальчик не заснул, и заставляли Пьерро играть с ним; но такая предосторожность вскоре оказалась совершенно бесполезной: принц не спал от мысли, что он едет как взрослый.
Кареты, приготовленные под предлогом необходимости отвести виконтессу де Канб в Париж, стояли в темной каштановой аллее, где невозможно было увидеть их. Кучера сидели на козлах, дверцы были отворены; все экипажи находились шагах в двадцати от главных ворот. Ждали только сигнала, то есть громких звуков трубы.
Принцесса, не спуская глаз с часов, на которых стрелка показывала без пяти минут десять, уже встала и направлялась к герцогу Энгиенскому с намерением вести его в карету, как вдруг дверь стремительно отворилась и Ленэ вбежал в комнату.
Увидев его бледность и растерянность, принцесса побледнела и растерялась.
— Боже мой! — вскричала она, подходя к нему. — Что с вами? Что случилось?
— Ах, Господи, — отвечал Ленэ с величайшим волнением. — Приехал какой-то дворянин и хочет говорить с вами от имени короля.
— Боже! Мы погибли! Дорогой Ленэ, мы погибли! Что нам делать?
— Есть только одно средство.
— Какое?
— Прикажите раздеть сейчас же герцога Энгиенского и надеть его платье на Пьерро.
— Да я не хочу, чтобы мое платье отдали Пьерро! — закричал маленький принц, готовый зарыдать при одной мысли об этом, между тем как Пьерро в восторге не верил своим ушам.
— Так надо, ваше высочество, — отвечал Ленэ тем строгим голосом, которому повинуются даже дети, — иначе вас и принцессу поведут в тюрьму, где сидит отец ваш.
Герцог Энгиенский замолчал; Пьерро, напротив, не мог скрыть своего восхищения и вполне предался шумному изъявлению радости и гордости. Их обоих ввели в залу нижнего этажа, где должна была совершиться метаморфоза.
— По счастью, — сказал Ленэ, — вдовствующая принцесса здесь, иначе Мазарини поймал бы нас.
— Как так?
— Потому что посланный должен был начать с посещения вашей свекрови и теперь ждет в ее передней.
— Но этот посланный короля, который, разумеется, должен присматривать за нами, просто шпион?
— Разумеется.
— Так ему приказано не спускать с нас глаз?
— Да, но какое вам дело до этого, когда он будет стеречь не вас?
— Я вас не понимаю, Ленэ.
Ленэ улыбнулся.
— Зато я понимаю, — сказал он, — и отвечаю за все. Прикажите одеть Пьерро принцем, а принца садовником. Я берусь научить Пьерро, как он должен отвечать.
— О Боже, неужели сын мой поедет один?
— Ваш сын поедет с вами, мадам.
— Но это невозможно.
— Почему же? Если нашли подставного герцога Энгиенского, то найдем подставную принцессу.
— Прекрасно! Бесподобно! Понимаю, мой добрый Ленэ, мой бесценный Ленэ! Но кто же заменит меня? — спросила принцесса с заметным беспокойством.
— Будьте спокойны, ваше высочество, — отвечал хладнокровно советник. — Принцесса Конде, которую увидит посланный кардиналом Мазарини шпион, уже переоделась и теперь ложится в вашу постель.
Но вот как разыгралось событие, о котором Ленэ теперь известил принцессу.
Пока дворяне в пиршественном зале пили за здоровье принцев и проклинали Мазарини, пока Ленэ в своем кабинете торговался с Ковиньяком и покупал бланк, пока принцесса собиралась в дорогу, какой-то всадник, сопровождаемый лакеем, подъехал к главным воротам замка, сошел с лошади и позвонил.
Привратник тотчас отпер ворота, за ними новый гость увидел знакомого нам швейцара.
— Откуда вы? — спросил швейцар.
— Из Манта.
Ответ пока годился.
— Куда едете?
— Сначала к вдовствующей принцессе Конде, потом к супруге принца Конде, а после к герцогу Энгиенскому.
— Прохода нет! — отвечал швейцар, беря алебарду наперевес.
— Приказ короля! — возразил всадник, вынимая из кармана бумагу.
При таких устрашающих словах швейцар, опустив алебарду, поклонился, позвал дежурного офицера, и посланный его величества, вручив приказ, тотчас вошел во внутренние апартаменты.
По счастью, замок Шантийи был просторен и комнаты вдовствующей принцессы находились далеко от зала, где происходили последние сцены шумного пиршества, начало которого мы описали.
Если б посланный сразу захотел видеть молодую принцессу и ее сына, то действительно все планы погибли бы. Но по заведенному порядку он должен был прежде представиться принцессе-матери.
Камердинер ввел его в большой кабинет, который находился возле опочивальни ее высочества.
— Извините, сударь, — сказал он, — ее высочество занемогла внезапно позавчера; сегодня, часа два тому назад, ей пускали кровь в третий раз. Я доложу ей о вашем приезде и через минуту буду иметь честь ввести вас.
Дворянин кивнул в знак согласия и остался один, не замечая, что через замочные скважины три любопытных человека рассматривали и старались узнать его.
На него смотрели Пьер Ленэ, конюший Виала и главный ловчий Ларусьер. Если б кто-нибудь из них узнал гостя, он немедленно вышел бы к нему и, под каким-нибудь предлогом заняв его, протянул бы время.
Но никто из них не знал этого человека, которого так нужно было обмануть. То был молодой красавец в пехотном мундире. С беспечностью, похожей на отвращение к данному поручению, взглянул он на фамильные портреты и остановился перед портретом вдовствующей принцессы, которой должен был представиться. Портрет запечатлел ее в полном блеске молодости и красоты.
Впрочем, камердинер воротился через несколько минут, как обещал, и повел неожиданного гостя к вдовствующей принцессе.
Шарлотта Монморанси сидела в постели. Ее врач, Бурдло, только что покинул ее; он встретил офицера в дверях и церемонно поклонился ему. Офицер отвечал ему тем же.
Когда принцесса услышала шаги гостя и слова, которыми он обменялся с медиком, она быстро подала знак; тотчас плотная занавеска, прикрывавшая заднюю сторону кровати, опустилась, а потом колыхалась еще две-три секунды.
За занавеской стояли молодая принцесса, вошедшая через потайную дверь, и Ленэ, нетерпеливо желавший узнать из первых слов разговора, зачем приехал в Шантийи к принцессам посланный короля.
Офицер сделал три шага по комнате и поклонился с искренним уважением, в котором было видно не только соблюдение этикета.
Вдовствующая принцесса с гордым видом смотрела на него своими большими черными глазами, как разгневанная королева. В молчании ее таилась гроза. Бледной рукой, которая еще более побелела от тройного кровопускания, она подала знак посланному, чтобы он вручил ей депешу.
Капитан почтительно подал письмо и спокойно ждал, пока принцесса читала депешу, содержавшую только четыре строчки от Анны Австрийской.
— Хорошо, — прошептала вдова, складывая бумагу, с таким хладнокровием, что оно не могло быть непритворным, — понимаю намерение королевы, хотя оно прикрыто ласковыми словами: я у вас в плену.
— Ваше высочество! — сказал офицер со смущением.
— И такую пленницу легко стеречь, — продолжала принцесса, — потому что я не могу далеко убежать. Входя сюда, вы могли видеть, что у меня строгий страж — мой доктор Бурдло.
При этих словах старая принцесса пристально посмотрела на посланного, лицо которого показалось ей таким приятным, что она решила принять его несколько поласковее.
— Я знала, — продолжала она, — что Мазарини способен на самое гнусное насилие, но не думала, чтобы он был такой трус и мог бояться дряхлой больной старухи, несчастной вдовы и беззащитного мальчика; думаю, что приказ, привезенный вами, относится и к дочери моей, и к моему внуку.
— Мадам, — отвечал офицер, — я буду в отчаянии, если вы станете судить обо мне по поручению, которое я, по несчастью, обязан исполнить. Я приехал в Мант с депешей к королеве. В постскриптуме депеши меня рекомендовали ее величеству; королева приказала мне остаться при ее особе, сообщив, что, возможно, я скоро понадоблюсь ей. Через два дня королева послала меня сюда. Приняв, как повелевал долг, поручение, которым ее величество удостоила меня, осмелюсь сказать, что я отказался бы от него, если бы королеве можно было отказывать.
— Принимаю ваше яснение и надеюсь, что вы позволите мне болеть спокойно. Однако ж, сударь, отбросьте ложный стыд и прямо скажите мне правду. Будут ли присматривать за мной даже в спальне, как делали с моим бедным сыном в Венсене? Могу ли я переписываться и не будут ли читать моих писем? Если, вопреки всем ожиданиям, болезнь позволит мне встать с постели, позволят ли мне прогуливаться, где я захочу?
При этих словах офицер поклонился во второй раз с таким же почтением, как и в первый.
— Ваше высочество, — отвечал офицер, — вот какой приказ имел я честь получить из собственных уст королевы: "Ступайте, уверьте мою кузину Конде, что я сделаю для принцев все, что мне позволит безопасность государства. Этим письмом я прошу ее принять одного из моих офицеров, который будет служить посредником между ею и мной, когда она захочет сообщить мне что-нибудь. Этот офицер — вы". Вот, ваше высочество, — прибавил молодой человек с прежней почтительностью, — таковы были собственные слова ее королевского величества.
Принцесса выслушала этот рассказ с тем вниманием, какое прилагают, стремясь уловить смысл дипломатической ноты, часто зависящий от слова, поставленного в том или ином сочетании, или от запятой, поставленной в том или ином месте.
Затем, после минутного раздумья, увидев в этом поручении то, чего она с самого начала опасалась, а именно несомненный и явный надзор, принцесса, поджав губы, сказала:
— Согласно желанию королевы, вы можете расположиться в Шантийи; скажите, какая комната вам приятнее и удобнее для исполнения вашего поручения. Вам дадут эту комнату.
— Ваше высочество, — отвечал офицер, слегка нахмурив брови, — я имел честь объяснить вам то, чего нет в моей инструкции. Между вашим гневом и волею королевы я, бедный офицер и тем более неловкий придворный, поставлен в опасное положение. Во всяком случае, мне кажется, ваше высочество могли бы проявить великодушие, не унижая человека, являющегося просто орудием. Горько для меня исполнять то, что я должен делать. Но королева приказала, и я обязан до конца повиноваться ее приказаниям. Я не просил этого поручения, я был бы счастлив, если б его дали кому-нибудь другому; мне кажется, что этим многое сказано.
Офицер поднял голову и покраснел. Гордая принцесса тоже вспыхнула.
— Сударь, — сказала она, — какое бы положение в обществе мы ни занимали, мы всегда, как вы справедливо говорите, должны повиноваться королеве. Я последую вашему примеру и исполню приказание ее величества; но вы должны понять, как тяжело принимать в своем доме достойного дворянина, не имея возможности выказать ему расположение, соответствующее чести его рода. С этой минуты вы здесь хозяин. Извольте распоряжаться.
— Мадам, Богу не угодно, чтобы я мог забыть, какое расстояние отделяет меня от вашего высочества и с каким почтением обязан я относиться к вашему дому, — ответил офицер с глубоким поклоном. — Вы, ваше высочество, по-прежнему будете распоряжаться здесь, а я буду первым вашим слугой.
При этих словах молодой дворянин вышел без смущения, без раболепия, без чванства, оставив вдовствующую принцессу в сильном гневе, потому что она не могла излить досады на такого скромного и почтительного исполнителя королевской воли. Зато в этот вечер она сказала много слов в адрес Мазарини. И слова, произнесенные в глубине ее спальни, сразили бы министра наповал, если бы проклятия могли так же убивать, как и ядра.
В передней офицер встретил того же камердинера.
— Милостивый государь, — сказал камердинер, — ее высочество, госпожа принцесса Конде, у которой вы просили аудиенции от имени королевы, соглашается принять вас. Извольте идти за мной.
Офицер понял, что такой оборот дела спасает гордость принцессы, и сделал вид, что очень благодарен, как будто ему оказали милость, приняв его. Пройдя через все комнаты вслед за камердинером, он дошел до дверей спальни молодой принцессы.
Тут слуга обернулся к гостю.
— Принцесса, — сказал он, — изволила уже лечь в постель после охоты и примет вас в своей спальне, потому что очень устала. Как прикажете доложить о вас?
— Барон де Каноль, посланный ее величества королевы-регентши, — отвечал офицер.
При этом имени, которое мнимая принцесса услышала в постели, она так вздрогнула, что всякий заметил бы ее смущение, и поспешно набросила правой рукой оборки чепчика на лицо, а левой закрылась одеялом до подбородка.
— Принять! — сказала она смущенно.
Офицер вошел.
Назад: VII
Дальше: Часть вторая Принцесса Конде

