Книга: А. Дюма - Собрание сочинений. Том 12. Женская война. Сильвандир. 1993
Назад: Часть первая Нанон де Лартиг
Дальше: XI
VII
Всадник, которого Каноль, приветствуя, называл Ришоном, поднялся в бельэтаж гостиницы «Золотого тельца» и сел ужинать с виконтом.
Его-то и ждал с нетерпением виконт, когда сама судьба доставила ему случай заметить враждебные приготовления герцога д’Эпернона и оказать барону де Канолю важную услугу, о которой мы уже рассказали.
Ришон выехал из Парижа уже с неделю; из Бордо он прибыл в тот день, когда началась наша повесть; стало быть, он привез самые свежие известия о событиях, происходивших в то время в этих двух городах и тесно переплетавшихся между собой. Пока он рассказывал об аресте принцев, важнейшей тогдашней новости, или о бордоском парламенте, овладевшем всей провинцией, или о кардинале Мазарини, который был тогда истинным королем, юноша молча смотрел на его мужественное и загорелое лицо, на его проницательные и спокойные глаза, на его острые и белые зубы под длинными черными усами. По всем этим признакам в Ришоне можно было узнать выслужившегося из рядовых офицера.
— Так вы говорите, — спросил наконец виконт, — что принцесса теперь в Шантийи?
Известно, что принцессами в то время называли герцогинь из дома Конде, только к имени старшей из них всегда прибавляли: «вдовствующая».
— Да, — отвечал Ришон, — там она ждет вас.
— А на каком она положении?
— В настоящей ссылке: за нею и за матерью ее мужа наблюдают с величайшим вниманием, потому что при дворе знают, что принцессы не довольствуются одними просьбами к парламенту и замышляют что-нибудь более действенное в пользу принцев. К несчастию, как и всегда, денежные обстоятельства… Кстати, о деньгах: получили ли вы ту сумму, которую хотели добыть здесь? Мне особо поручили узнать об этом.
Виконт отвечал:
— Я с трудом собрал тысяч двадцать ливров, вот они, здесь. И только!
— Только! Какие у вас понятия, виконт, черт возьми! Видно, что вы миллионер, раз говорите с таким презрением о такой сумме в такую минуту! Двадцать тысяч! Мы будем беднее кардинала Мазарини, но гораздо богаче короля.
— Так вы думаете, Ришон, что принцесса примет мое скромное приношение?
— С благодарностью: вы дадите ей возможность платить жалованье целой армии.
— А разве нам она нужна?
— Армия? Разумеется, и мы уже собираем ее. Господин де Ларошфуко завербовал четыреста дворян под предлогом, что они будут присутствовать при похоронах его отца. Герцог де Буйон отправился в Гиень с таким же отрядом, а может быть, и большим. Господин де Тюренн обещает напасть на Париж с целью захватить Венсен врасплох и вырвать принцев оттуда: у него будет тридцать тысяч человек. Он сманит с королевской службы всю северную армию. О! Дела идут очень неплохо, — прибавил Ришон, — будьте спокойны; не знаю, достигнем ли мы цели, но, наверное, шума наделаем много.
— Не встретили ли вы герцога д’Эпернона? — спросил виконт, глаза которого заблестели от радости при перечислении сил, обещавших победу его партии.
— Герцога д’Эпернона? — повторил офицер с удивлением. — Да где же мог я встретиться с ним? Ведь я приехал не из Ажена, а из Бордо.
— Вы могли встретить его в нескольких шагах отсюда, — сказал виконт с улыбкой.
— Да, правда, кажется, здесь близко живет прелестная Нанон де Лартиг?
— На расстоянии двух мушкетных выстрелов от нашей гостиницы.
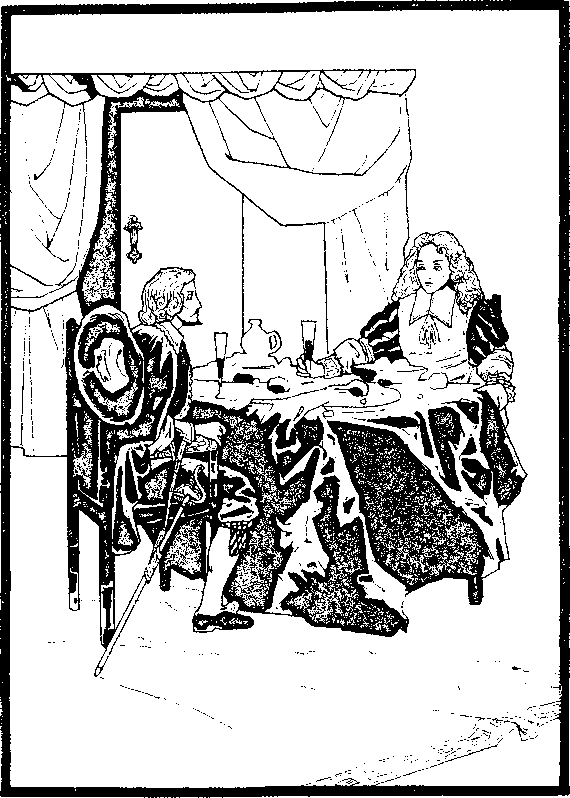
— Хорошо! Это объясняет мне, почему я встретил в гостинице барона де Каноля.
— Вы знаете его?
— Кого? Барона? Знаю. Я мог бы даже сказать, что я его друг, если б он был не знатным дворянином, а я не бедным разночинцем.
— Такие разночинцы, как вы, Ришон, в настоящем положении дел стоят принцев. Вы, впрочем, знаете, что я спас вашего друга барона де Каноля от палок, а может быть, и от чего-нибудь похуже.
— Да, он говорил мне об этом, но я невнимательно слушал его, мне так хотелось поскорее повидаться с вами. Вы уверены, что он не узнал вас?
— Нельзя узнать того, кого никогда не видел.
— Да, я должен был употребить другое выражение и спросить, распознал ли он вас.
— В самом деле, — отвечал виконт, — он рассматривал меня пристально.
Ришон улыбнулся.
— Как не смотреть пристально! — сказал он. — Не всякий день встречаются дворяне, похожие на вас.
— Барон, мне кажется, веселый человек, — начал виконт, помолчав несколько секунд.
— Веселый и добрый, очень умный и притом великодушный. Гасконцы, как вы знаете, люди крайностей: они очень хороши или ни на что не годятся. Барон принадлежит к числу первых. В любовных делах он фат, на войне — бесстрашный воин. Мне очень жаль, что он против нашей партии. Знаете ли… случай свел вас с ним, и вы должны были бы постараться привлечь его на нашу сторону.
Яркая краска покрыла бледные щеки виконта и тотчас исчезла.
— Боже мой, — сказал Ришон с той философской грустью, которая иной раз посещает даже сильных людей, — а мы разве серьезнее и разумнее, мы, решившиеся неосторожными руками зажечь пламя гражданской войны так же легко, как зажигаем свечу в церкви? Разве коадъютор — человек серьезный? А он одним словом может усмирить или поднять Париж! Разве герцог де Бофор — человек серьезный? А он имеет такое влияние в Париже, что его прозвали королем рынков! Разве герцогиня де Шеврез — серьезная женщина? А она назначает и смещает министров! Разве герцогиня де Лонгвиль — серьезная женщина? А она три месяца царствовала в парижской ратуше. Разве и сама принцесса Конде — серьезная женщина, ведь она еще вчера занималась только нарядами и бриллиантами? Разве герцог Энгиенский — серьезный предводитель политической партии, когда он посреди своих мамок играет еще в куклы и наденет штаны в первый раз только для того, чтобы потрясти Францию? Наконец, и я — если вы позволите мне поставить мое имя после этих знаменитых имен, — разве я важный человек, я, сын ангулемского мельника, бывший слуга герцога де Ларошфуко? Один раз господин мой дал мне вместо щетки и ливреи шпагу. Я храбро надел ее и превратился в воина! И вот сын ангулемского мельника, прежний камердинер Ларошфуко, стал капитаном, формирует роту, собирает четыреста или пятьсот человек и будет, в свою очередь, играть их жизнью, как будто судьба дала ему право на это. Вот он идет по пути к почестям, скоро его произведут в полковники, назначат комендантом крепости… Кто знает, может быть, и ему придется в течение десяти минут, часа или целого дня вершить судьбу Франции? Видите, все это очень похоже на сон; однако ж я буду считать его действительностью до тех пор, пока меня не разбудит какая-нибудь великая катастрофа…
— И тоща, — прибавил виконт, — горе тем, кто вас разбудит, Ришон, потому что вы будете героем…
— Героем или изменником, смотря по тому, кем мы тоща станем — слабейшими или сильнейшими. При прежнем кардинале я подумал бы об этом хорошенько, потому что рисковал бы головою.
— Помилуйте, Ришон, не заставляйте меня думать, что подобные соображения могут удержать вас! Вас, которого называют храбрейшим воином во всей французской армии…
— Ах, разумеется, — сказал Ришон, выразительно пожав плечами, — я был храбр, когда король Людовик XIII, бледный, с черными глазами, блестевшими как карбункулы, с голубой лентой, которую я видел еще на груди его отца, кричал звонким голосом моим солдатам, покручивая при этом усы: «Король смотрит на вас, вперед, господа!» Но если мне придется вновь увидеть на груди сына ту же ленту, какую я видел на груди отца, однако уже не позади, а впереди себя и кричать солдатам: «Стреляй по королю французскому!», то в этот день, виконт — продолжал Ришон, покачивая головой, — я боюсь, что струшу и выстрелю мимо.
— Что с вами сегодня сделалось? Зачем вы толкуете только о неприятных вещах? — спросил юноша. — Любезный Ришон, гражданская война — это очень печально, я знаю, но иногда она необходима.
— Да, как чума, как желтая лихорадка, как черная лихорадка, как лихорадки всех цветов. Например, виконт, не думаете ли вы, что мне очень нужно завтра всадить шпагу в живот храброму Канолю, когда я так дружески и с таким удовольствием пожал ему руку сегодня… И почему? Потому, что я служу принцессе Конде, которая смеется надо мною, а он служит кардиналу Мазарини, над которым смеется сам? Однако ж это дело очень возможное…
Виконт вздрогнул от ужаса.
— Или, может быть, — продолжал Ришон, — я ошибаюсь, и он как-нибудь проткнет мне грудь. О, такие, как вы, не понимают, что такое война. Вы видите только море интриг и бросаетесь в него как в свою родную стихию. Вот третьего дня я говорил принцессе, и она согласилась со мной, что в том мире, в каком вы живете, пушечные выстрелы, которые нас убивают, кажутся просто потешным огнем.
— Право, Ришон, — сказал виконт, — вы пугаете меня, и если б я не был уверен, что вы будете охранять меня, то не смел бы пуститься в дорогу. Но под вашей защитой, — прибавил юноша, подавая свою маленькую руку фрондеру, — я ничего не боюсь.
— Под моей защитой? — повторил Ришон. — Да, правда, вы напомнили мне об этом. Вам придется обойтись без меня, виконт, намерения наши изменились.
— Разве вы не поедете со мною в Шантийи?
— Я должен был вернуться туда в том случае, если б не был нужен здесь. Но, как я уже сказал вам, я стал таким важным человеком, что принцесса решительно запретила мне удаляться из окрестностей форта. Его, кажется, хотят отнять у нас.
Виконт вскрикнул от страха.
— Как! Я должен ехать без вас! Ехать с одним Помпеем, который в тысячу раз трусливее меня? Через половину Франции одному или почти одному? О! Нет, я не поеду, клянусь вам, я умру со страха прежде, чем доберусь до Шантийи!
— Ах, виконт! — вскричал Ришон, покатываясь от хохота. — Вы, стало быть, забыли, что у вас на боку шпага!
— Смейтесь сколько угодно, а я все-таки не поеду. Принцесса обещала мне, что вы проводите меня, и я согласился ехать только на этом условии.
— Делайте что вам угодно, виконт, — отвечал Ришон с притворной важностью. — Во всяком случае, в Шантийи рассчитывают на вас. Берегитесь, принцам немного надо, чтобы потерять терпение, особенно когда они ждут денег.
— И к величайшему моему несчастью, — сказал виконт, — я должен выехать ночью…
— Тем лучше, — отвечал Ришон, посмеиваясь, — никто не увидит, что вы боитесь. Вы встретите людей еще трусливее вас и обратите их в бегство.
— Вы уверены? — спросил виконт, нисколько не успокоенный этим предсказанием.
— Притом есть средство уладить дело, — сказал Ришон. — Ведь вы боитесь за деньги, не так ли? Так оставьте их у меня, я перепило их с тремя или четырьмя верными людьми. Впрочем, самое верное средство доставить их в целости — отвезти самому…
— Вы правы, я поеду, Ришон; так как надо быть храбрым, я буду храбрым и сам повезу деньги. Думаю, судя по словам вашим, принцессе теперь гораздо нужнее золото, чем моя особа. Может быть, меня дурно примут, если я приеду без денег?
— Ведь я сказал вам, что вы похожи на героя. По дороге везде королевские солдаты, и война еще не началась. Однако ж не будьте слишком доверчивы и прикажите Помпею зарядить пистолеты.
— Зачем вы говорите мне все это?.. Думаете успокоить меня?
— Разумеется; кто знает об опасности, тот не позволит захватить себя врасплох. Так поезжайте, — сказал Ришон вставая, — ночь будет прекрасная, и до рассвета вы приедете в Монльё.
— А наш барон не ждет ли моего отъезда?
— О, теперь он занят тем же, чем занимались мы, то есть ужинает, и если его ужин хоть немного похож на наш, то такой любитель поесть, как он, не встанет из-за стола без особенно важной причины. Впрочем, я зайду к нему и удержу его.
— Так извинитесь за мою неучтивость. Я не хочу, чтобы он поссорился со мной, если встретит меня, когда будет в дурном расположении духа. Впрочем, ваш барон, должно быть, человек воспитанный.
— Именно так. Тоща он будет готов бежать за вами на конец света, чтобы иметь удовольствие скрестить с вами шпаги. Но будьте спокойны, я поклонюсь ему от вашего имени.
— Только подождите, дайте мне уехать.
— Разумеется, черт побери.
— Нет ли каких поручений к ее высочеству?
— Конечно, есть: вы напомнили мне о самом важном.
— Вы уж написали ей?
— Писать не надо, нужно передать ей только два слова.
— Какие?
— Бордо. — Да.
— И она поймет?
— Обязательно. Зная эти два слова, она может спокойно отправиться в дорогу; скажите ей, что я за все отвечаю.
— Ну, Помпей, — сказал виконт старому своему слуге, который в эту минуту, зевая, показался в дверях, — ну, друг мой, надо ехать!
— Ого, ехать! — отвечал Помпей. — Помилуйте, господин виконт! Да ведь буря страшная!
— Что ты говоришь, Помпей? — возразил Ришон. — На небе ни облачка.
— Однако ж ночью мы можем заблудиться.
— Ну, заблудиться трудно, вам надо только не съезжать с большой дороги. Притом же теперь ясная лунная ночь.
— Лунная ночь! Лунная ночь! — прошептал Помпей. — Вы понимаете, господин Ришон, я забочусь не о себе.
— Несомненно, — отвечал Ришон, — ведь ты старый солдат!
— Кто сражался с испанцами и был ранен в битве при Корби… — продолжал Помпей, приосанившись.
— Тот ничего не боится, не так ли? Ну, это очень кстати, потому что виконт не совсем спокоен… Слышишь ли? Предупреждаю тебя…
— Ого! — пробормотал Помпей, побледнев. — Вы боитесь?
— С тобой не буду бояться, храбрый мой Помпей, — отвечал юноша. — Я знаю тебя и уверен, что ты готов умереть, защищая меня.
— Разумеется, разумеется, — отвечал Помпей, — однако ж если вы очень боитесь, так лучше подождать до утра.
— Никак нельзя, добрый мой Помпей. Ты повезешь это золото на своей лошади. Я сейчас же сойду к тебе.
— Тут много денег, и не следовало бы ночью рисковать ими, — сказал Помпей, взвешивая мешок.
— Опасности нет никакой, по крайней мере, так уверяет Ришон. Проверь, все ли на месте. Пистолеты в кобурах, шпага в ножнах и мушкетон на крюке у седла?
— Вы забываете, — отвечал старый слуга, выпрямляясь, — что человек осторожен и не сделает ни единого промаха, если всю жизнь свою служил солдатом. Да, господин виконт, все оружие в исправности.
— Видите, — сказал Ришон, — можно ли чего-нибудь бояться с таким товарищем? Счастливого пути, виконт!
— Благодарю за пожелание, но путь далек, — ответил виконт с некоторым страхом, которого не мог прогнать даже воинственный вид Помпея.
— Ба, — сказал Ришон, — у всякого пути есть начало и конец. Передайте нижайший поклон от меня принцессе, скажите ей, что я готов до последней капли крови служить ей и господину герцогу де Ларошфуко, особенно не забудьте эти два слова: Бордо. — Да. А я пойду опять к господину де Канолю.
— Послушайте, Ришон, — сказал виконт, останавливая капитана за руку, когда тот уже начал сходить с лестницы, — если Каноль — такой храбрый офицер и истинный дворянин, как вы говорите, почему не попытаться привлечь его к нашей партии? Он мог бы сопровождать нас в Шантийи, я по дороге немного познакомился бы с ним и представил бы его принцессе.
Ришон посмотрел на виконта с такой странной улыбкой, что юноша, вероятно, по лицу его угадал все, что происходило в душе фрондера, и поспешно сказал:
— Впрочем, Ришон, не обращайте внимания на мои слова и делайте как знаете. Прощайте!
Пожав протянутую руку, виконт поспешно воротился в свою комнату, может быть боясь, что Ришон заметит его смущение, или, может быть, потому, что опасался, как бы его не услышал Каноль, чей громкий голос долетал до второго этажа.
Фрондер спустился с лестницы. За ним сошел и Помпей, небрежно неся мешок, дабы не показать, что там есть деньги.
Через несколько минут виконт, торопливо осмотревшись, чтобы убедиться, что он ничего не забыл, погасил свечи, осторожно спустился с лестницы, решился заглянуть через щелочку на нижний этаж, потом, закутавшись в широкий плащ, поданный ему Помпеем, опираясь маленькой ногой на руку слуги, легко вспрыгнул на лошадь, пожурил с улыбкою старого солдата за медлительность и исчез в темноте.
Когда Ришон вошел в комнату Каноля, которого он должен был занимать, пока виконт будет приготовляться к отъезду, радостное «ура!» едва не опрокинувшего стул барона засвидетельствовало, что он не злопамятен.
На столе между прозрачными — оттого, что они уже опустели — бутылками возвышалась приземистая и гордая своей округлостью фляга, оплетенная камышом; из промежутков между камышинками живой свет четырех свечей высекал искры топазов и рубинов. В ней содержалось превосходное старое коллиурское вино, обжигающее рот того, кто уже отведывал много других вин. Около нее находились прекрасный изюм, миндаль, бисквиты, сыры разных сортов, варенье из винограда. Трактирщик не ошибся в расчете, верность которого подтверждалась двумя совершенно пустыми бутылками и третьей, полупустой. В самом деле, кто бы ни прикоснулся к этому десерту, тот должен был бы даже при всей своей умеренности выпить много вина.
А Каноль вовсе не думал воздерживаться. Может быть, как гугенот (он происходил из протестантской фамилии и не расставался с религией предков), — как гугенот, говорим мы, Каноль не считал грехом много попить и хорошо поесть. Был ли он печален или даже влюблен, он всегда был неравнодушен к аромату хорошего обеда и к бутылкам особенной формы с красными, желтыми или зелеными печатями, которые держат в плену настоящее гасконское, шампанское или бургонское вино. Сейчас Каноль, по обыкновению, уступил соблазну: сначала посмотрел, потом понюхал, наконец попробовал. Из пяти чувств, данных ему доброй матерью-природой, три были совершенно удовлетворены; поэтому два остальных, проявляя кроткое терпение, ждали своей очереди с удивительным спокойствием.
В эту минуту вошел Ришон и увидел, что Каноль качается на стуле.
— Ах, дорогой Ришон, вы пришли кстати! — вскричал он. — Хотелось бы кому-нибудь похвалить метра Бискарро, и мне чуть было не пришлось уже хвалить его моему дрянному Касторену, который не знает, что значит пить, и которого я никак не мог научить есть. Ну, посмотрите сюда, милый друг, взгляните на этот стол, за который я прошу вас сесть. Хозяин «Золотого тельца» — истинный художник, человек, которого я хочу рекомендовать другу моему, герцогу д’Эпернону. Выслушайте и, как настоящий знаток, оцените, что у меня было на ужин: чудесный раковый суп, холодное с маринованными устрицами, с анчоусами и свиными ножками, каплун с маслинами — при нем бутылка медока, вы видите, что в ней ничего не осталось, — куропатка с трюфелями, сладкий горошек и вишневое желе — при нем бутылка шамбертена, которая стоит вот тут, — наконец, этот десерт и бутылочка коллиурского, которая пытается защищаться, но которую я прикончу, как и остальные, особенно если мы примемся за нее вдвоем. Черт возьми! Я в превосходном настроении, и Бискарро — великий мастер! Сядьте сюда, Ришон, вы поужинали, но все равно… Я тоже поужинал, но это не беда, мы начнем снова…
— Благодарю, барон, — сказал Ришон с улыбкой, — мне уже не хочется есть.
— Согласен, можно не хотеть есть, но всегда должно хотеться пить. Попробуйте этого коллиурского.
Ришон подставил свой стакан.
— Так вы уже поужинали, — продолжал Каноль, — поужинали с этим дрянным маленьким виконтом. Ах, извините, Ришон, я ошибаюсь. Наоборот, он премилый малый. Я обязан ему тем, что наслаждаюсь благами жизни, а без него я испустил бы дух от трех или четырех ран, которые хотел нанести мне храбрый герцог д’Эпернон. Поэтому я благодарен хорошенькому виконту, прелестному Ганимеду. Ах, Ришон! Вы кажетесь мне именно тем, кем вас считают, то есть преданнейшим слугою принца Конде.
— Что вы, барон! — возразил Ришон, захохотав во все горло. — С чего вы это взяли? Вы уморите меня со смеху.
— Уморю со смеху? Вас? Полноте! Ну уж нет, дорогой мой.
Igne tantum perituri Quia estis…Лан-де-ри-ри!
Вам знакомы эти жалобные стихи, не правда ли? Это рождественская песенка вашего патрона, написанная на германской реке Ренусе, когда он ободрял одного из своих товарищей, опасавшегося смерти в воде. Ришон, черт вы эдакий! Ну, все равно, я все-таки ненавижу вашего мальчишку
— Итак, Ришон, говоря серьезно, вы пустились в заговоры? В политику? конта… Принимать участие в первом проезжем дворянине!.. На что это похоже?
И Каноль вытянулся в кресле, захохотал и принялся крутить усы с таким непритворным весельем, что и Ришон последовал его пр у.
Ришон продолжал хохотать, но уже не так весело.
— Знаете ли, мне очень хотелось арестовать вас, вас и вашего дворянчика! Черт возьми! Это было бы очень смешно и притом легко. Мне могли бы помочь слуги моего кума, герцога д’Эпернона. Ха-ха! Ришон под караулом вместе с этим мальчишкой! Лан-де-ри-ри!
В эту минуту послышался топот двух удаляющихся лошадей.
— Что это такое, Ришон? — спросил Каноль, прислушиваясь. — Не знаете ли, что это такое?
— Не знаю, но догадываюсь.
— Так скажите.
— Это уехал маленький дворянин.
— Не простясь со мной! — вскричал Каноль. — Ну, он решительно дрянь!
— О нет, любезный барон, он просто спешит…
Каноль нахмурил брови.
— Какое странное поведение! — сказал он. — Где воспитывался этот мальчик? Ришон, друг мой, уверяю, что он вредит вам. Дворяне не ведут себя так друг с другом. Черт возьми! Если б я мог догнать его, надрал бы ему уши! Черт возьми его глупого отца, который, по скупости вероятно, не дал ему учителя!
— Не сердитесь, барон, — отвечал Ришон с улыбкой, — виконт не так дурно воспитан, как вы воображаете. Он, уезжая, поручил мне сказать вам, что извиняется перед вами и низко кланяется…
— Хорошо, хорошо! — сказал Каноль. — Таким образом, он превращает непростительную дерзость в маленькую неучтивость. Черт возьми! Я ужасно сердит. Поссорьтесь-ка со мною, Ришон. Что, не хотите? Позвольте… Ришон, друг мой, вы очень безобразны!
Ришон засмеялся.
— Раз вы в таком настроении, барон, то могли бы выиграть у меня сегодня вечером сто пистолей, если б мы вздумали играть. Игра, как вам известно, способствует поднятию духа, Ришон знал Каноля, знал, что отведет гнев барона, предлагая ему играть.
— Играть! Черт возьми! — вскричал Каноль. — Именно так, давайте играть! Друг мой, ваше предложение мирит меня с вами. Ришон, вы очень приятный человек! Ришон, вы хороши, как Адонис, и я прощаю господина де Канба. Касторен, карты!
Явился Касторен вместе с Бискарро, они поставили стол, и два друга сели играть. Касторен, уже лет десять мечтавший о крупном выигрыше, и Бискарро, жадно посматривавший на деньги, стали по сторонам стола и наблюдали. Менее чем за час, вопреки своему предсказанию, Ришон выиграл у Каноля восемьдесят пистолей.
У Каноля в кошельке больше не было денег, и он приказал Касторену достать еще из чемодана.
— Не нужно, — сказал Ришон, слышавший это приказание, — нет времени дать вам реванш.
— Как! Нет времени?
— Теперь одиннадцать часов, а в двенадцать я непременно должен быть в карауле.
— Вы, верно, шутите? — спросил Каноль.
— Господин барон, — серьезно отвечал Ришон, — вы сами человек военный, стало быть, знаете дисциплину.
— Так что же вы не уехали прежде, чем выиграли у меня деньги? — сказал Каноль со смехом и с досадой.
— Уж не упрекаете ли вы меня за то, что я посетил вас? — спросил Ришон.
— Боже избави!.. Однако ж подумаем. Мне совсем не хочется спать, и мне будет чрезвычайно скучно. Если я предложу проводить вас, Ришон?
— Откажусь от этой чести, барон. Поручение, которое мне дано, должно быть исполнено без свидетелей.
— Хорошо!.. Но в какую сторону вы поедете?
— Я только что хотел просить вас не спрашивать меня об этом.
— А виконт куда поехал?
— Я вынужден ответить вам, что не знаю.
Каноль должен был посмотреть на Ришона, чтобы убедиться, что в этих насмешливых ответах вовсе нет желания оскорбить его. Добрый взгляд и откровенная улыбка коменданта Вера обезоружили если не нетерпение Каноля, то, по крайней мере, его любопытство.
— Что делать? — сказал Каноль. — Вы сегодня сама тайна, дорогой Ришон; но каждый волен поступать как ему заблагорассудится. Часа три тому назад я сам бы был очень недоволен, если бы кто-нибудь навязался ко мне в попутчики, хотя в конечном счете для него дело закончилось бы гораздо хуже, чем для меня. Ну, последний стакан коллиурского, и доброго вам пути!
Каноль налил стаканы. Ришон, чокнувшись и выпив за здоровье барона, вышел. А тот, даже не догадавшись спросить, по какой дороге он поедет, остался наедине с догоравшими свечами, пустыми бутылками, разбросанными картами и ощутил вдруг такую печаль, что ее мог понять лишь тот, кто сам испытал подобную. Напускной веселостью он пытался заглушить горечь обманутой надежды.
Он дотащился до своей спальни, с сожалением и гневом посматривая через окна коридора на уединенный домик, освещенное окно которого и тени, мелькавшие в нем, наглядно показывали, что мадемуазель де Лартиг проводит вечер не в таком одиночестве, как он.
На первой ступеньке лестницы Каноль наступил на что-то. Он наклонился и поднял жемчужно-серого цвета перчатку виконта, которую тот уронил, спеша покинуть кров метра Бискарро и не сочтя ее, без сомнения, настолько ценной, чтобы тратить время на поиски.
Как ни были тяжелы мысли Каноля, простительные в минуту мизантропии, порожденной любовной неудачей, в одиноком домике царило не большее удовольствие, чем в гостинице «Золотого тельца».
Нанон беспокоилась и волновалась всю ночь, придумывая тысячу планов, как бы предупредить Каноля о положении дел. Она призвала на помощь всю свою догадливость умной женщины, чтобы выпутаться из несносного положения. Надо было улучить минуту, чтобы без герцога переговорить с Франсинеттой, или две минуты, чтобы написать Канолю одну строчку на клочке бумаги.
Но, казалось, герцог угадал ее мысли, прочел все беспокойство ее ума под маской веселья и поклялся не давать ей этой свободной минуты, которая, однако ж, была ей так нужна.
У нее началась мигрень, но д’Эпернон не позволил Нанон встать и сам принес флакончик со спиртом.
Тоща Нанон уколола палец булавкой, и рубиновая капля появилась на ее перламутровом пальчике. Она хотела взять из шкатулки кусочек розового пластыря, который начинали ценить в то время. Герцог, неутомимый в своей услужливости, встал, отрезал кусочек тафты с ловкостью, приводившей Нанон в отчаяние, и запер шкатулку двойным поворотом ключа.
Тут Нанон притворилась, что она спит крепким сном. Почти в то же время захрапел герцог. Нанон раскрыла глаза и при свете ночника, стоявшего на столике в алебастровой вазе, вытянула блокнот герцога из его камзола, лежавшего возле постели почти у нее под рукой, но, когда она взялась за карандаш и оторвала уже листок, герцог открыл один глаз.
— Что вы делаете, милая? — спросил он.
— Я искала, нет ли календаря в ваших листках, — ответила Нанон.
— А зачем?
— Мне хотелось знать, когда день ваших именин.
— Меня зовут Луи, и я именинник двадцать пятого августа, как вы знаете: стало быть, вы еще успеете приготовиться к этому дню, красавица моя.
Он взял блокнот из ее рук и положил его сам в камзол.
Тем не менее, посредством своего последнего маневра Нанон удалось добыть карандаш и бумагу. Она спрятала то и другое под подушку и весьма ловко опрокинула ночник, надеясь, что можно будет написать письмо в темноте, но герцог тотчас позвонил и громко позвал Франсинетту, уверяя, что не может спать без огня. Та прибежала прежде, чем Нанон успела написать половину фразы. Герцог же, опасаясь, чтобы подобная беда не случилась во второй раз, приказал Франсинетте зажечь две свечи на камине. Тут Нанон объявила, что решительно не может спать при свете, и в лихорадочном раздражении повернулась носом к стене, ожидая дня с беспокойством, которое читатель легко поймет.
Свет, которого она так ждала и боялась, разлился, наконец, по верхушкам тополей. Герцог д’Эпернон, хвалившийся тем, что всегда живет как солдат, встал с первым лучом солнца, сам оделся, чтобы ни на минуту не расставаться с милой своей Нанон, и, надев халат, позвонил, желая узнать, нет ли чего нового.
Франсинетта ответила на его вопрос кучей депеш, которые ночью привез Куртово, любимый егерь герцога.
Герцог распечатал их и принялся читать одним глазом, а другим, которому старался придать как можно больше нежности, беспрестанно смотрел на прелестную Нанон.
Нанон охотно растерзала бы герцога на куски.
— Знаете ли, — сказал герцог, прочтя несколько депеш, — что вы должны были бы сделать?
— Нет, монсеньер, — отвечала Нанон, — но, что вы прикажете, все будет исполнено.
— Пошлите на поиски вашего брата, — продолжал герцог. — Я, кстати, получил из Бордо важные известия, и он мог бы тотчас же отправиться с депешей в Париж. После возвращения я мог бы дать ему чин, о котором вы просите.
Лицо герцога выражало самую непритворную, искреннюю нежность.
«Ну, не надо бояться! — подумала Нанон. — Может быть, Каноль по глазам моим догадается или поймет мои намеки».
Потом сказала громко:
— Пошлите за ним сами, любезный герцог.
Она понимала, что если сама вздумает исполнить это поручение, то герцог не допустит, чтобы она послала письмо Канолю.
Д’Эпернон позвал Франсинетту и послал ее в гостиницу «Золотого тельца», сказав ей только:
— Скажи господину де Канолю, что мадемуазель де Лартиг ждет его к завтраку.
Нанон пристально посмотрела на служанку, но, хотя взгляд ее был очень красноречив, Франсинетта не могла прочесть в нем целой фразы: «Скажи Канолю, что я его сестра».
Франсинетта вышла, поняв: что-то неладно у госпожи ее, и она в такой же опасности, как если бы вместо угря взяла в руки змею.
Между тем Нанон стала за стулом герцога так, что взглядом могла предостеречь Каноля, и стала придумывать хитрую фразу, которая могла бы сразу подсказать барону все, что ему нужно знать, дабы не расстроить предстоящее семейное трио.
Она могла видеть всю дорогу до того угла, где накануне герцог прятался со своими сбирами.
— А, — сказал вдруг герцог, — вот возвращается наша Франсинетта.
И он уставился на Нанон, которая принуждена была отвернуться от окна и отвечать на вопросительный взгляд герцога.
Сердце Нанон билось так сильно, что у нее заболела грудь; она видела только Франсинетту, а ей хотелось видеть Каноля и прочесть на его лице что-нибудь успокоительное.
Раздались шаги на лестнице: герцог приготовил улыбку, гордую и вместе с тем дружескую. Нанон старалась не краснеть и приготовилась к битве.
Франсинетта постучала в дверь.
— Войдите! — сказал герцог.
Нанон приготовилась сказать придуманную наконец фразу, которой хотела приветствовать Каноля.
Дверь отворилась; Франсинетта вошла одна. Нанон заглядывала в переднюю жадным взором, но там никого не было.
— Сударыня, — сказала Франсинетта с невозмутимым апломбом субретки из комедии, — господина барона де Каноля уже нет в «Золотом тельце».
Герцог удивился и нахмурил брови.
Нанон подняла голову и вздохнула.
— Как, — сказал д’Эпернон, — господина барона де Каноля уже нет в гостинице «Золотого тельца»?
— Ты, верно, ошибаешься, — прибавила Нанон.
— Сударыня, — отвечала Франсинетта, я повторяю вам слова самого господина Бискарро.
— Он верно все угадал, милый Каноль! — прошептала Нанон. — Он так же умен, так же ловок, как храбр и красив.
— Сейчас же позвать сюда этого метра Бискарро! — вскричал герцог с досадой.
— Я думаю, — поспешно прибавила Нанон, — он узнал, что вы здесь, и не хотел беспокоить вас. Он так скромен, бедный Каноль!
— Он скромен! — возразил герцог. — Но, кажется, у него совсем не такая репутация.
— Нет, сударыня, — осмелилась прибавить служанка, — барон действительно уехал.
— Но позвольте спросить, — сказал д’Эпернон, — каким образом барон мог испугаться меня, когда Франсинетте поручено было пригласить его от вашего имени? Ты, стало быть, сказала ему, что я здесь?.. Да отвечай же, Франсинетта!
— Я ничего не могла сказать ему, монсеньер, потому что его там не было.
Несмотря на этот ответ Франсинетты, высказанный быстро и откровенно, герцог, по-видимому, стал укрепляться в своих подозрениях. Нанон не могла уже говорить от радости.
— Прикажете мне вернуться и позвать метра Бискарро? — спросила служанка.
— Разумеется, непременно, — резко отвечал герцог. — Или нет, погоди. Ты останешься здесь, потому что, может статься, понадобишься своей госпоже, а я пошлю туда Куртово.
Франсинетта вышла. Через пять минут Куртово постучался в дверь.
— Ступай к хозяину «Золотого тельца», — сказал герцог, — и приведи его сюда: мне нужно переговорить с ним. Скажи, чтобы он захватил с собой меню завтрака. Дай ему эти десять луидоров, и чтобы завтрак был получше. Ступай!
Куртово подставил полу платья, получил деньги и тотчас вышел исполнять полученное приказание.
Это был лакей, всегда живший в хороших домах и знавший свое ремесло так хорошо, что превосходил всех Криспинов и Маскарилей своего времени. Он пошел к Бискарро и сказал ему:
— Я уговорил герцога заказать вам лучший завтрак; он дал мне восемь луидоров, естественно, я оставлю два себе за комиссию, а вот вам остальные шесть. Пойдемте поскорее.
Бискарро, дрожа от радости, надел чистый фартук, положил шесть луидоров в карман и, пожав руку Куртово, отправился вслед за егерем, который быстро повел его к уединенному домику.
VIII
На этот раз Нанон перестала трусить: уверенность Франсинетты совершенно успокоила ее, ей даже очень хотелось потолковать с Бискарро. Его ввели в комнату, как только он пришел.
Бискарро вошел, франтовато засунув фартук за пояс, с колпаком в руке.
— У вас вчера останавливался молодой дворянин, барон де Каноль? — спросила Нанон. — Где он?
— Да, где он? — прибавил герцог.
Бискарро начал беспокоиться, потому что, получив от егеря шесть луидоров, он догадался, что этот господин в халате — важный вельможа. Поэтому он отвечал с замешательством:
— Но он уехал, сударь.
— Уехал? — повторил герцог. — В самом деле уехал?
— Точно, уехал.
— А куда? — спросила Нанон.
— Этого я не могу сказать вам, сударыня, потому что, право, сам не знаю.
— Вы, по крайней мере, знаете, по какой дороге он поехал?
— По парижской.
— А в котором часу он выехал? — спросил герцог.
— В полночь.
— И ничего не приказывал? — боязливо спросила Нанон.
— Ничего, он только оставил письмо, поручив мне отдать его мадемуазель Франсинетте.
— А отчего не отдал ты этого письма, дурак? Так-то ты уважаешь приказание дворянина?
— Я уже отдал… давно отдал.
— Франсинетта! — закричал герцог с гневом.
Франсинетта, слушавшая у дверей, одним прыжком перелетела из передней в спальню.
— Почему ты не отдала госпоже своей письмо, которое оставил ей господин де Каноль?
— Я думала… монсеньер… — шептала горничная в страхе.
«Монсеньер! — подумал испуганный Бискарро, скрываясь в самом дальнем углу спальни. — Монсеньер… Это, верно, какой-нибудь переодетый принц».
— Да я у нее не успела спросить его, — вмешалась Нанон, побледнев.
— Дай! — закричал герцог, протягивая руку.
Бедная Франсинетта медленно мяла письмо, обращась к госпоже своей со взглядом, который хотел сказать: «Вы сами видите, я ни в чем не виновата, дурак Бискарро все испортил».
Молнии заблистали в глазах Нанон и полетели в Бискарро.
Несчастный потел от страха и отдал бы все шесть луидоров за то, чтобы стоять у своей печи и держать в руках какую-нибудь кастрюлю.
Между тем герцог взял письмо, развернул и прочитал его.
Пока он читал, Нанон стояла бледная и холодная как мрамор; она чувствовала, что в ней живо только одно сердце.
— Что за марание? — спросил герцог.
Из этих слов Нанон поняла, что письмо не может повредить ей"
— Прочтите вслух. Может быть, я смогу объяснить вам его, — сказала она.
Герцог прочел:
"Дорогая Нанон!.."
Тут он повернулся к ней; она, все больше успокаиваясь, смогла вынести его взгляд с удивительной храбростью.
Герцог продолжал:
"Дорогая Нанон!
Пользуясь отпуском, которым обязан Вам, я для развлечения поскачу в Париж. До свидания, прошу не забыть похлопотать о моем счастье".
— Да он сумасшедший, этот Каноль!
— Почему же? — спросила Нанон.
— Разве можно уезжать так, в полночь, без всякой причины? — сказал герцог.
"Да, правда", — подумала Нанон.
— Ну объясните же мне его отъезд?
— Ах, Боже мой, — отвечала Нанон с очаровательной улыбкой, — нет ничего легче, монсеньер.
"И она называет его монсеньер! — прошептал Бискарро. — Решительно, это принц".
— Что же? Говорите!
— Вы сами не догадываетесь?
— Нет! Ни за что на свете.
— Ведь Канолю только двадцать семь лет, он молод, красив и беспечен. Какому безумству отдает он предпочтение? Разумеется, любви. Он, верно, увидел в гостинице метра Бискарро какую-нибудь хорошенькую путешественницу и тотчас поскакал за нею.
— Влюблен! Вы так думаете? — вскричал герцог в восторге от мысли, что если Каноль влюблен в другую, так, верно, не в Нанон.
— Да, разумеется, он влюблен. Не так ли, метр Бискарро? — спросила Нанон, радуясь, что герцог соглашается с нею. — Ну, отвечайте откровенно: не так ли, я угадала правду?
Бискарро вообразил, что настала благоприятная минута снискать благосклонность молодой дамы, поддакивая ей; он улыбнулся, разинув огромный рот, и сказал:
— Действительно, вы, может быть, сударыня, правы.
Нанон подвинулась на шаг к трактирщику и невольно вздрогнула.
— Не так ли? — сказала она.
— Я так думаю, сударыня, — ответил Бискарро с лукавым видом.
— Вы так думаете?
— Да… подождите… в самом деле, вы раскрыли мне глаза.
— Ах, расскажите нам все это, метр Бискарро! — вскричала Нанон, начиная чувствовать ревность. — Говорите, какие путешественницы останавливались вчера в вашей гостинице?
— Рассказывайте, — прибавил герцог, разваливаясь в кресле и протягивая ноги.
— Путешественниц не было, — сказал Бискарро.
Нанон вздохнула с облегчением.
— Останавливался, — продолжал трактирщик, не подозревая, что каждое слово падало, как свинец, на сердце Нанон, — останавливался только молодой дворянин, белокурый, хорошенький, полный, который не ел, не пил и боялся ехать ночью… Дворянин боялся ехать ночью, — прибавил Бискарро, лукаво покачивая головою, — вы изволите понимать…
— Ха-ха-ха! Прекрасно! — высокомерно рассмеялся герцог, явно попадаясь на удочку.
Нанон отвечала скрежетом зубов.
— Продолжайте, — сказала она трактирщику. — Вероятно, юный дворянин ждал господина де Каноля?
— Нет, он ждал к ужину высокого господина с усами и даже довольно грубо обошелся с господином де Канолем, когда тот хотел ужинать с ним; но храбрый барон нимало не смутился. Он, кажется, отчаянный человек; клянусь честью, после отъезда высокого господина, поехавшего направо, он поскакал за маленьким, уехавшим налево.
При этом раблезианском заключении Бискарро, видя веселое лицо герцога, позволил себе так громко рассмеяться, что стекла в окнах задрожали.
Герцог, совершенно успокоенный, наверно, поцеловал бы почтенного Бискарро, если б трактирщик был дворянином. Между тем бледная Нанон слушала каждое слово Бискарро с тем страшным вниманием, которое заставляет ревнивых выпивать чашу яда до дна…
Наконец она спросила:
— Что заставляет вас думать, что этот дворянин — переодетая женщина, что господин де Каноль влюблен в нее и что он поехал в Париж не для одного развлечения, не от одной скуки?
— Что заставляет меня думать? — повторил Бискарро, непременно хотевший передать свою уверенность слушателям, — позвольте, сейчас скажу.
— Говорите, говорите, любезный друг, — сказал герцог, — вы в самом деле очень забавны.
— Монсеньер слишком добр, — отвечал Бискарро. — Извольте послушать.
Герцог обратился в слух. Нанон слушала, стиснув руки.
— Я ничего не подозревал и просто принял белокурого дворянина за мужчину, как вдруг встретил барона Каноля на лестнице. В левой руке он держал свечу, а в правой — перчатку, которую он с любовью рассматривал и нюхал.
При этих словах герцог, который становился все веселее, по мере того как рассеивались его опасения, рассмеялся.
— Перчатку! — повторила Нанон, стараясь вспомнить, не оставила ли она подобного залога любви в руках своего друга. — Какая перчатка? Не такая ли?
И она показала трактирщику свои перчатки.
— Нет, — отвечал Бискарро, — перчатка была мужская.
— Мужская! Станет господин де Каноль с любовью рассматривать мужскую перчатку! Ах, Бискарро, вы сошли с ума!
— Нет, перчатка принадлежала белокурому господину, который не ел, не пил и боялся ехать ночью, очень маленькая перчатка, куда едва ли вошла бы ваша ручка, сударыня, хотя ручка у вас крошечная.
Нанон застонала, как будто ей нанесли невидимую рану.
— Надеюсь, — сказала она с чрезвычайным усилием, — что теперь вы, монсеньер, достаточно осведомлены и узнали все, что хотели узнать.
Стиснув зубы, с дрожащими губами, она указала пальцем на дверь, но изумленный Бискарро, заметив гнев на лице молодой женщины, ничего не понимал и оставался на месте, вытаращив глаза и разинув рот.
"Если отсутствие барона доставляет им такое неудовольствие, — подумал он, — то его возвращение чрезвычайно их обрадует. И если усладить этого знатного вельможу надеждой, его аппетит станет лучше".
Вследствие такого соображения Бискарро принял самый грациозный вид, на какой был способен, и, ловко выставив правую ногу вперед, сказал:
— Барон уехал, но с минуты на минуту может возвратиться.
Герцог улыбнулся этому открытию.
— Правда, — сказал он, — почему бы ему не вернуться? Может быть, он уже воротился. Подите-ка посмотрите, господин Бискарро, и дайте мне ответ.
— А завтрак? — спросила Нанон. — Я просто умираю от голода.
— Дело, — отвечал герцог, — я пошлю туда Куртово. Эй, Куртово, ступай в гостиницу метра Бискарро и узнай, не вернулся ли барон де Каноль. Если его там нет, так разузнай и поищи в окрестностях. Мне очень хочется завтракать с этим дворянином, ступай!
Куртово ушел, а Бискарро, заметив беспокойное молчание обоих хозяев дома, хотел было заговорить опять.
— Разве вы не видите, что госпожа моя дает вам знак уйти? — сказала ему Франсинетта.
— Позвольте, позвольте! — вскричал герцог. — Вот и вы, дорогая Нанон, в свою очередь теряете голову! А как же завтрак? Мне так же хочется есть, как и вам, меня мучит голод. Подойдите, метр Бискарро, прибавьте вот эти шесть луидоров к остальным: они даются вам за интересную историю, которую вы нам рассказали.
Потом он приказал историку вернуться к своим обязанностям повара. Поспешим заметить, что Бискарро столь же отличился во второй роли, сколь и в первой.
Между тем Нанон обдумала неожиданный поворот дела и положение, в которое ее поставило известие почтенного Бискарро. Во-первых, верно ли это известие? А во-вторых, если оно даже верно, не следует ли в конце концов извинить Каноля? В самом деле, какая жестокая обида для него, такого храброго дворянина, это несостоявшееся свидание! Какое оскорбление шпионство герцога д’Эпернона и необходимость присутствовать при торжестве соперника! Нанон была так влюблена, что приписывала его бегство припадку ревности и не только извиняла Каноля, но даже жалела его; она даже радовалась, что он любит ее так сильно и решился на маленькое мщение. Но как бы то ни было, прежде всего следовало вырвать зло с корнем, не дать развиться этой едва родившейся любви.
Вдруг страшная мысль поразила Нанон как громом.
Что если встреча Каноля и переодетой дамы просто свидание?..
Но нет, тотчас успокоилась она: переодетая дама ждала высокого мужчину с усами, грубо обошлась с Канолем, да и сам Каноль узнал, какого пола его незнакомец, только по маленькой перчатке, найденной случайно.
Как бы то ни было, все-таки надо остановить Каноля.
Тут, вооружившись всем своим мужеством, она вернулась к герцогу, который только что отпустил Бискарро, осыпав его похвалами и снабдив приказаниями.
— Как жаль, монсеньер, — сказала она, — что ветреность сумасшедшего Каноля помешает ему воспользоваться честью, которой вы хотели удостоить его! Если бы он был здесь, все его будущее устроилось бы, но его нет, и это может погубить карьеру.
— Но, — возразил герцог, — если мы его отыщем…
— О, этого не может быть, ведь речь идет о женщине. Он не вернется.
— Что же прикажете мне делать? Как помочь горю? — отвечал герцог. — Молодые люди ищут веселья, он молод и веселится.
— Но я постарше его, порассудительнее и полагаю, что следовало бы оторвать его от этого несвоевременного веселья.
— Какая сердитая сестрица! — усмехнулся герцог.
— В первую минуту он может сетовать на меня, — продолжала Нанон, — но впоследствии уж, верно, будет благодарить.
— Ну, так скажите, что вы хотите делать. Если у вас есть какой-нибудь план, я готов исполнить его, говорите!
— Разумеется, есть.
— Так говорите.
— Вы хотели послать его к королеве с важным известием?
— Хотел, но ведь его нет.
— Пошлите за ним вдогонку, он поехал по парижской дороге, так что половина дела сделана.
— Вы совершенно правы.
— Поручите все дело мне, и Каноль получит ваши приказания сегодня вечером или завтра утром, не позже. Отвечаю вам за успех.
— Но кого послать?
— Вам нужен Куртово?
— Нисколько.
— Так отдайте его мне, и я его отправлю к Канолю с моим поручением.
— У вас голова дипломата. Вы далеко пойдете, Нанон! — сказал герцог.
— Только бы вечно учиться у такого превосходного учителя. Больше я ничего не желаю.
Она обняла старого герцога; тот вздрогнул от радости.
— Какую чудесную шутку сыграем мы с нашим селадоном! — сказала она.
— И рассказывать будет весело!
— Я сама хотела бы поехать за ним, чтобы видеть, как он примет посланного.
— К несчастью, — или, лучше сказать, к счастью, — это невозможно и вам придется остаться со мною.
— Пожалуй, но не будем терять времени. Извольте писать вашу депешу, герцог, и отдайте Куртово в мое распоряжение.
Герцог взял перо и на листе бумаги написал только два слова:
"Бордо. — Нет".
И подписался.
На конверте этой лаконичной депеши он надписал:
"Ее величеству королеве Анне Австрийской, регентше Франции".
В то же время Нанон написала две строчки и показала их герцогу.
Вот они:
"Любезный барон!
Вы видите здесь депешу к ее величеству королеве. Отвезите ее немедленно; дело идет о спасении королевства.
Ваша преданная сестра Нанон".
Она складывала записку, когда на лестнице послышались быстрые шаги. Куртово отворил дверь с радостным видом человека, который принес нетерпеливо ожидаемое известие.
— Вот господин де Каноль, я встретил его в ста шагах отсюда, — сказал егерь.
Герцог вскрикнул от приятного изумления. Нанон побледнела, бросилась в дверь и прошептала:
— Верно, такова уж моя судьба!..
В эту минуту в дверях показалось новое лицо. Одетый в великолепный костюм, со шляпой в руках, вошедший улыбался с самодовольным видом.
IX
Если б гром разразился над Нанон, он не столько бы поразил ее, сколько удивило это неожиданное явление, и, может быть, не вызвал бы у нее более горестного восклицания, чем против воли сорвавшееся с уст:
— Опять он!
— Конечно, я, милая моя сестрица, — отвечал гость нежным голосом. — Но извините, — прибавил он, увидав герцога, — может быть, я беспокою вас.
И он до земли поклонился губернатору Гиени, который отвечал ласковым жестом.
— Ковиньяк! — прошептала Нанон так тихо, что слово это, казалось, вылетело из ее сердца, а не из уст.
— Добро пожаловать, господин де Каноль, — сказал герцог с веселой улыбкой, — ваша сестра и я со вчерашнего вечера говорим только о вас и со вчерашнего вечера желаем видеть вас.
— А, вы желали видеть меня! В самом деле? — сказал Ковиньяк, обращая на Нанон взгляд, в котором выражались ирония и сомнение.
— Да, — отвечала Нанон, — герцог был так добр, что пожелал, чтобы я представила вас ему.
— Только из опасения обеспокоить вас, монсеньер, я не добивался этой чести раньше, — сказал Ковиньяк, низко кланяясь герцогу.
— Да, барон, — отвечал герцог, — я удивлялся вашей деликатности, но все-таки упрекаю вас за нее.
— Меня, монсеньер, меня хотите вы упрекать за деликатность!
— Да, если б ваша добрая сестра не занялась вашими делами…
— А… — сказал Ковиньяк, с красноречивым упреком взглянув на сестру. — А, сестра занялась моими делами…
— Да, делами брата, — живо подхватила Нанон, — что же тут особенно удивительного?
— И сегодня чему обязан я удовольствием видеть вас? — спросил герцог.
— Да, — вопросил Ковиньяк, — и чему, монсеньер, вы обязаны удовольствием видеть меня?
— Чему? Разумеется, случаю, только случаю, который воротил вас.
"Ага, — подумал Ковиньяк, — я, должно быть, уезжал".
— Да, вы уехали, несносный брат, — сказала Нанон, — и написали мне только две строчки; они еще больше увеличили мое беспокойство.
— Что же делать, дорогая Нанон? — сказал герцог, усмехаясь. — Надобно прощать влюбленных.
"Ого, дело запутывается! — подумал Ковиньяк. — Я, должно быть, влюблен".
— Ну, — сказала Нанон, — признавайтесь, что вы влюблены.
— Пожалуй, не отказываюсь, — отвечал Ковиньяк с победоносной улыбкой, стараясь уловить в глазах собеседников крупицу истины, чтобы с ее помощью придумать большую ложь.
— Хорошо, хорошо, — прервал герцог, — однако ж пора завтракать. Вы расскажете нам, барон, про ваши любовные интрижки за завтраком. Франсинетта, подай прибор господину де Канолю. Вы еще, надеюсь, не завтракали, капитан?
— Еще нет, монсеньер, и должен даже признаться, что утренний воздух придал мне удивительный аппетит.
— Скажите лучше, ночной воздух, повеса, потому что вы всю ночь провели на большой дороге.
"Черт возьми! — подумал Ковиньяк. — Мой зять на этот раз угадал правильно".
Потом он прибавил вслух:
— Пожалуй, извольте, соглашусь, ночной воздух…
— Так пойдемте же, — сказал герцог, подавая руку Нанон и переходя в столовую вместе с Ковиньяком. — Вот тут, надеюсь, достаточно работы для вашего желудка, как бы он ни был взыскателен.
Действительно, Бискарро превзошел самого себя: блюд было немного, но все они были отборные и приготовлены превосходно. Янтарное вино Гиени и красное бургонское выливалось из бутылок, как потоки золота и каскады рубинов.
Ковиньяк ел за четверых.
— Этот малый поступает в высшей степени любезно! — сказал герцог. — А вы почему не едите, Нанон?
— Мне уж не хочется, монсеньер.
— Милая сестрица! — вскричал Ковиньяк. — Подумать только, удовольствие видеть меня отняло у нее аппетит. Право, мне досадно, что она так любит меня!
— Возьмите кусочек курицы, Наной, — сказал герцог.
— Отдайте его моему брату, монсеньер, — отвечала Нанон, заметившая, что тарелка Ковиньяка быстро пустеет, и боявшаяся, что он опять начнет насмехаться над нею, когда кушанье исчезнет.
Ковиньяк подставил тарелку и улыбнулся, выражая этим благодарность. Герцог положил ему кусок курицы, и Ковиньяк поставил перед собою тарелку.
— Ну, что же вы поделываете, Каноль? — спросил герцог с фамильярностью, которая показалась Ковиньяку чудесным предзнаменованием. — Разумеется, я говорю не о любовных делах.
— Напротив, говорите о них, монсеньер, говорите сколько вам угодно, не церемоньтесь, — отвечал Ковиньяк, которому частые приемы медока и шамбертена развязали язык. Впрочем, он не боялся появления своего двойника, что редко случается с теми, кто принимает на себя чужое имя.
— Ах, герцог, — сказала Нанон, — он очень хорошо понимает шутку!
— Так мы можем потолковать с ним об этом молоденьком дворянине? — спросил герцог.
— Да, о том юноше, которого вы встретили вчера вечером, братец, — прибавила Нанон.
— Да, на дороге, — сообщил Ковиньяк.
— И потом в гостинице метра Бискарро, — прибавил герцог д’Эпернон.
— Да, потом в гостинице метра Бискарро, — повторил Ковиньяк, — сущая правда.
— Так вы в самом деле с ним встретились? — спросила Нанон.
— С молоденьким дворянином?
— Да.
— Каков он был? Ну, говорите откровенно, — сказал герцог.
— По правде сказать вам, — отвечал Ковиньяк, — он был очень мил: белокурый, стройный, изящный, ехал со слугой.
— Именно так, — сказала Нанон, кусая губы.
— И вы влюблены в него?
— В кого?
— В этого дворянчика, белокурого, стройного, изящного?
— Что это значит, монсеньер: — спросил Ковиньяк, готовясь рассердиться. — Что хотите вы сказать?
— Что? У вас до сих пор хранится на сердце жемчужно-серая перчатка? — спросил герцог, лукаво улыбаясь.
— Жемчужно-серая перчатка?
— Да, та самая, которую вы так страстно нюхали и целовали вчера вечером.
Ковиньяк понял все.
— А, этот мальчик был дамой? — вскричал он. — Ну, даю вам честное слово, что я угадал эту шутку!
— Теперь уж нет сомнения, — прошептала Нанон.
— Налейте мне вина, сестрица, — сказал Ковиньяк. — Не знаю, кто опустошил бутылку, которая стояла возле меня, но в ней уже нет ничего.
— Хорошо, хорошо! — сказал герцог. — Есть еще возможность вылечить его, если любовь не мешает ему ни есть, ни пить. Государственные дела не пострадают от такой любви.
— Как! Чтобы от любви пострадали дела короля? Никогда! Дела короля прежде всего! Дела короля — вещь священная! За здоровье его величества, монсеньер!
— Можно надеяться на вашу преданность, барон?
— На мою преданность королю?
— Да.
— Разумеется. Я готов позволить изрезать себя на куски за него… иногда.
— И это очень просто, — перебила Нанон, боясь, что, придя в возбуждение от медока и шамбертена, Ковиньяк забудет свою роль и станет самим собой. — И это очень просто; разве вы не капитан войск его королевского величества по милости герцога?
— И никогда этого не забуду, — отвечал Ковиньяк с изумительным душевным волнением, положив руку на сердце.
— Мы и не то сделаем после, — сказал герцог, — а что-нибудь побольше.
— Благодарю, монсеньер, благодарю!
— И мы уже начали.
— В самом деле?
— Да. Вы слишком скромны, мой молодой друг, — возразил д’Эпернон. — Когда вам нужна будет протекция, надобно обратиться ко мне. Теперь, когда вам не нужно ходить окольной дорогой, когда вам уже не нужно скрываться, когда я знаю, что вы брат Нанон…
— Теперь, монсеньер, — вскричал Ковиньяк, — я всегда буду обращаться прямо к вам!
— Вы обещаете?
— Даю слово.
— Прекрасно сделаете. Между тем сестра объяснит вам, о чем мы теперь хлопочем: она должна отдать вам письмо от меня. Может быть, все счастье ваше зависит от поручения, которое я даю вам по ее просьбе. Попросите совета у сестры вашей, молодой человек, попросите у нее совета: она умна, осторожна и чрезвычайно добра. Любите сестру вашу, барон, и будьте уверены, что я всегда буду к вам милостив.
— Монсеньер, — воскликнул Ковиньяк с непритворной радостью, — сестра моя знает, как я люблю ее, как я желаю видеть ее счастливой, славной и особенно… богатой!
— Ваш пыл нравится мне, — сказал герцог, — так останьтесь с Нанон, а я пойду и займусь одним мерзавцем. Но, кстати, барон, — прибавил герцог, — может статься, вы можете дать мне какие-нибудь сведения об этом бандите?
— Охотно, — отвечал Ковиньяк. — Только надобно знать, о каком бандите вы говорите. В наше время их развелось очень много, и все они разные.
— Вы совершенно правы, этот чрезвычайно дерзок, подобного я еще не видывал.
— В самом деле?
— Представьте, этот мерзавец взамен письма, которое писала вам вчера сестра и которое он заполучил после гнусного убийства, выманил у меня чистый бланк с моей подписью.
— Бланк, в самом деле?
Потом Ковиньяк прибавил с наивным видом:
— Но зачем же вам было нужно это письмо, посланное сестрою к брату?
— Вы забываете, что я не знал об этом родстве.
— Ах, правда.
— И притом имел глупость, надеюсь, вы простите меня, Нанон, — прибавил герцог, подавая ей руку, — имел глупость ревновать вас.
— Вы ревновали? В самом деле?.. Ах, монсеньер! Как вам не стыдно!
— Так я хотел спросить у вас, не знаете ли вы, кто был этот доносчик?
— Нет, право, не знаю… Но монсеньер понимает, что подобные дела не остаются безнаказанными и вы со временем узнаете преступника.
— Да, разумеется, — отвечал герцог, — и я принял меры для этого, но мне было бы гораздо приятнее узнать теперь.
— Так вы приняли меры? — спросил Ковиньяк, слушая в оба уха. — Вы приняли меры, монсеньер?
— Да, да, — продолжал герцог, — и мерзавец будет очень счастлив, если его не повесят за тот бланк.
— Ого! — сказал Ковиньяк. — А каким образом отличите вы этот бланк от прочих, которые вы даете, монсеньер?
— На нем сделана пометка.
— Какая?
— Для всех она невидима, но я узнаю бланк химическим способом.
— Чудесно! — сказал Ковиньяк. — Вы, монсеньер, поступили чрезвычайно остроумно в этом случае, но смотрите, остерегитесь, этот мерзавец, может быть, догадается.
— О, этого нельзя опасаться, кто скажет ему об этой пометке?
— И то правда, — отвечал Ковиньяк, — Нанон не скажет, я — тоже.
— И я тоже, — прибавил герцог.
— И вы не скажете. Вы совершенно правы, монсеньер: когда-нибудь вы узнаете имя этого человека, и тоща…
— И тоща мы будем квиты, потому что, когда он попытается что-либо получить при помощи этого бланка, я прикажу повесить его.
— Amen! — вскричал Ковиньяк.
— А теперь, — продолжал герцог, — если вы не можете дать мне сведений о нем…
— Нет, право, не могу, монсеньер.
— Так я оставлю вас с сестрою. Нанон, — продолжал герцог, — растолкуйте ему мое поручение хорошенько, особенно постарайтесь, чтобы он не терял времени.
— Будьте спокойны, монсеньер.
— Тоща прощайте!
Герцог дружески кивнул Ковиньяку и вместе с Нанон, которая провожала его до передней, спустился с лестницы, нежно попрощался с ней, обещая вернуться в тот же день.
"Черт возьми! — сказал себе Ковиньяк. — Достойный герцог хорошо сделал, что предупредил меня… Право, он не так глуп, как кажется с виду! Но что буду я делать с его бланком? Попробую продать его как вексель…"
Нанон возвратилась и заперла дверь.
— Теперь, сударь, — сказала она брату, — потолкуем об исполнении приказаний герцога д’Эпернона.
— Да, милая сестричка, — отвечал Ковиньяк, — потолкуем, ведь я только для этого и пришел сюда; но, чтобы удобнее разговаривать, надобно сесть. Сделайте одолжение, сядьте, прошу вас.
Ковиньяк пододвинул стул и показал Нанон, что стул готов и для нее.
Нанон села и нахмурила брови, что не предвещало ничего хорошего.
— Во-первых, — начала она, — почему вы не там, где вам следует быть?
— Ах, милая сестричка, вот это совсем нелюбезно с вашей стороны; если б я был там, где мне следует быть, то не был бы здесь, и, следовательно, вы не имели бы удовольствия видеть меня.
— Ведь вы хотели вступить в орден?
— Нет, не хотел; скажите лучше, что люди, принимающие участие во мне, и более всего вы, желали этого; но я лично никогда не чувствовал особенного влечения к церкви.
— Однако ж вы получили религиозное воспитание.
— Да, сестра, и я свято им воспользовался.
— Не шутите так бессовестно над святыней!
— Я и не думаю шутить, прелестная сестричка. Я только рассказываю. Слушайте, вы отправили меня в Ангулем, в монастырь Меньших братьев, чтоб я учился.
— И что же?
— Ну я и выучился. Я знаю по-гречески, как Гомер, по-латыни — как Цицерон, а теологию — как Ян Гус. Когда мне нечему было больше учиться у этих достойных отцов, я оставил их и перешел, все по вашему же предложению, к кармелитам в Руан, чтобы принять духовное звание.
— Вы забываете, что я обещала вам ежегодную пенсию в сто пистолей и сдержала данное слово. Сто пистолей для кармелита, кажется, вполне достаточно.
— Совершенно согласен с вами, милая сестра, но под предлогом, что я еще не кармелит, монахи постоянно получали пенсию вместо меня.
— Если это и правда, то ведь вы поклялись церкви жить всегда в бедности?
— И поверьте мне, что я в точности исполнил клятву: трудно было найти человека беднее меня.
— Но вы ушли от кармелитов?
— О да! Как Адам из земного рая. Наука сгубила меня, я был слишком учен, милая моя сестрица.
— Что это значит?
— Между кармелитами, которые вовсе не слывут Пико делла Мирандолами, Эразмами и Декартами, я считался чудом, разумеется чудом учености. Когда господин де Лонгвиль приехал в Руан просить город склониться на сторону парламента, меня отправили приветствовать этого принца речью. Я исполнил поручение так красноречиво и удачно, что герцог не только был в высшей степени доволен, но и предложил мне стать его секретарем. Это случилось именно в ту минуту, как я хотел постричься.
— Да, я это помню, и даже помню, как под предлогом, что хотите проститься с миром, вы просили у меня сто пистолей, и я доставила вам их прямо в собственные ваши руки.
— И только эти сто пистолей я и видел, клянусь вам честью дворянина.
— Но вы должны были отказаться от мира.
— Да, таково и было мое намерение, но судьба распорядилась иначе: она, верно, хотела определить мне другое поприще, послав мне предложение господина де Лонгвиля. Я покорился решению судьбы и, признаюсь вам, до сих пор не раскаиваюсь.
— Так вы уже не кармелит?
— Нет, по крайней мере теперь, дорогая сестра. Не смею сказать вам, что никогда не вернусь в монастырь, потому что какой человек может сказать вечером: "Я сделаю завтра то-то"? Господин де Ранее основал орден траппистов; может быть, я последую его примеру и сделаю что-нибудь подобное. Но теперь я попробовал военное ремесло; оно сделало меня человеком светским и порочным; однако при первом удобном случае я постараюсь очиститься от греха.
— Вы военный? — спросила Нанон, пожав плечами.
— Почему же нет, черт возьми? Не скажу вам, что я Дюнуа, Дюгеклен, Баяр, рыцарь без страха и упрека. Нет, я не так горд, сознаюсь, я заслуживаю кое-какие упреки и не спрошу, как знаменитый кондотьер Сфорца, что такое страх. Я всего лишь человек; как говорит Плавт: "Homo sum, et nihil humani a me alianum est", что означает: "Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо". Поэтому я трус, насколько человеку позволяется быть боязливым, что не мешает мне при случае быть очень храбрым. Когда меня принуждают, я довольно умело действую шпагой и пистолетом. Но, видите ли, по природе истинное мое призвание — дипломатическое поприще. Иди я очень ошибаюсь, милая Нанон, или я буду великим политиком. Политическое поприще прекрасно. Посмотрите на Мазарини: он пойдет далеко, если его не повесят. Вот и я, подобно Мазарини, больше всего боюсь, как бы меня не повесили. По счастью, я могу надеяться на вас, дорогая Нанон, и эта мысль придает мне бодрости и отваги.
— Так вы военный?
— И, кроме того, в случае нужды придворный. Ах! Пребывание у герцога де Лонгвиля много послужило мне на пользу.
— Чему же вы там учились?
— Тому, чему можно выучиться у принца: воевать, интриговать, изменять.
— И к чему это привело вас?
— К самому блестящему положению.
— Которое вы не сумели удержать за собой?
— Что ж делать, черт возьми? Ведь даже принц Конде потерял свое место. Нельзя управлять событиями. Дорогая сестра! Каков бы я ни был, я управлял Парижем!
— Вы?
Да, я.
— Сколько времени?
— Час и три четверти по самому верному счету.
— Вы управляли Парижем?
— Как император.
— Как это случилось?
— Очень просто. Вы знаете, что коадъютор, господин де Гонди, то есть аббат Гонди…
— Знаю, знаю!
— …был полным властелином столицы. В это самое время я служил герцогу д’Эльбёфу. Он лотарингский принц, и служить принцу не стыдно. Ну, в то время герцог был во вражде с коадъютором. Поэтому я поднял бунт и как сторонник герцога д’Эльоёфа взял в плен…
— Кого? Коадъютора?
— Нет, не его, я не знал бы, что с ним делать, и был бы в большом затруднении. Нет, я взял в плен его любовницу, мадемуазель де Шеврез.
— Какой ужас! — вскричала Нанон.
— Не правда ли, какой ужас! У аббата любовница! И я думал то же самое. Поэтому я решил похитить ее и отвезти так далеко, чтобы он никогда не смог увидеться с ней. Я сообщил ему свое намерение, но у этого человека всегда такие доводы, что против них никак не устоишь. Он предложил мне тысячу пистолей.
— Бедная женщина! За нее торговались!
— Помилуйте! Напротив, это должно быть ей очень приятно, это доказало, как ее любит господин де Гонди. Ведь только служители церкви способны на такое самопожертвование ради своей любовницы. Я думаю, причина в том, что им запрещено иметь любовниц.
— Так вы богаты?
— Богат ли я?..
— Да, можно разбогатеть таким грабежом.
— Ах, не говорите мне об этом, Нанон, мне как-то не везет! Никто не думал выкупать камеристку мадемуазель де Шеврез; она осталась у меня и растранжирила все мои деньги.
— По крайней мере, надеюсь, вы сохранили дружбу тех, кому служили против коадъютора?
— Ах, Нанон, как видно, вы совсем не знаете принцев. Герцог д’Эльбёф помирился с коадъютором. В договоре, который они заключили между собой, мною пожертвовали. Поэтому я был вынужден перейти на жалованье к Мазарини, но Мазарини — величайший скаред. Он не соразмерял наград с моими услугами, и я был вынужден поднять новое восстание в интересах советника Брусселя, имевшее целью возвести его на место канцлера Сегье. Но мои люди, неловкие дураки, исполнили это только наполовину. В этой схватке я подвергался самой страшной опасности, какой не видывал во всю жизнь. Маршал де Ла Мельере выстрелил в меня из пистолета с двух шагов. По счастью, я успел наклониться; пуля просвистела над моей головой, и знаменитый маршал убил какую-то старуху.
— Сколько ужасов!
— Нет, милая сестрица, это уж неизбежные спутники гражданской войны.
— Теперь я все понимаю: человек, способный на такие подвиги, мог посметь сделать то, что вы сделали вчера.
— Что же я посмел сделать? — спросил Ковиньяк с самым невинным видом.
— Вы осмелились обмануть такого важного человека, как герцог д’Эпернон! Но вот чего я не понимаю, вот чего не могу представить себе: чтобы брат, осыпанный моими благодеяниями, мог хладнокровно задумать погубить свою сестру.
— Я хотел погубить сестру?.. Я?.. — спросил Ковиньяк.
— Да, вы, — отвечала Нанон. — Мне не нужно было ваших рассказов, которые показывают, что вы на все способны: я и без них узнала почерк письма. Вот, смотрите: не станете ли уверять, что не вы писали эту анонимную записку?
И возмущенная Нанон показала брату донос, который герцог отдал ей накануне.
Ковиньяк прочел его, не смутившись.
— Ну что же, — сказал он, — почему вы недовольны этим письмом? Неужели вам кажется, что оно плохо написано? В таком случае мне жаль вас, видно, что вы ничего не понимаете в литературе.
— Дело идет не о слоге письма, сударь, а об его содержании. Вы или не вы писали его?
— Разумеется, я. Если б я хотел скрывать это, то изменил бы свой почерк. Но это было совершенно бесполезно: я никогда не имел намерения прятаться от вас. Я даже очень желал, чтоб вы узнали, что письмо написано мной.
— О, — прошептала Нанон с видимым отвращением, — вы сознаетесь!
— Да, дорогая сестра, я должен сказать вам, что меня подстрекала месть.
— Месть!
— И самая естественная.
— Мстить мне, несчастный! Да подумайте хорошенько о том, что вы говорите! Что я вам сделала, какое зло? Как мысль отомстить мне могла прийти вам в голову?
— Что вы мне сделали? Ах, Нанон, поставьте себя на мое место! Я оставляю Париж, потому что у меня было там много врагов: такое несчастье случается со всеми людьми, занимающимися политикой. Я обращаюсь к вам, молю о помощи. Что, не помните? Вы получили три письма. Вы не можете сказать, что не узнали моего почерка. Он совершенно похож на ту руку, которою написано анонимное письмо, притом все три письма были подписаны мною. Я посылаю вам три письма и прошу в каждом сто несчастных пистолей! Только сто пистолей, а у вас миллионы! Это сущая безделица, но вы знаете: сто пистолей — моя обыкновенная цифра. И что же? Сестра отказывает мне. Я сам лично являюсь, сестра не принимает меня. Разумеется, я стараюсь разведать, что это значит. Может быть, думаю я, она сама находится в затруднительном положении и настала минута доказать ей, что ее благодеяния пали не на бесплодную землю. Может быть даже, она не свободна, в таком случае следует простить ей. Видите, сердце мое искало средства извинить вас, и тут-то узнал я, что сестра моя свободна, богата, миллионерша, что какой-то барон де Каноль, чужой человек, узурпировал мои права и что она протежирует ему вместо меня. Тут зависть свела меня с ума.
— Скажите лучше, жадность. Вы продали меня герцогу д’Эпернону, как продали мадемуазель де Шеврез коадъютору. Какое вам дело, позвольте спросить, до моих отношений с бароном де Канолем?
— Мне? Ровно никакого! И я не подумал бы беспокоить вас, если бы вы продолжали хоть какие-нибудь отношения со мной.
— Знаете ли, что вы погибнете, если я скажу герцогу хоть одно слово, если поговорю с ним откровенно?
— Знаю.
— Вы сейчас сами слышали от него самого, какую участь он готовит тому, кто выманил у него этот бланк?
— Не говорите мне об этом, я весь дрожал. И мне пришлось призвать на помощь все мои душевные силы, чтобы не показать, до какой степени я испугался.
— И вы ничего не опасаетесь? Признайтесь, что теперь вы должны трепетать от страха.
— Нет, я ничего не опасаюсь. Ваше признание, без сомнения, доказало бы герцогу, что господин де Каноль не брат вам. Следовательно, содержание вашей записки, адресованной постороннему человеку, совсем не так невинно, как вы хотели бы, неблагодарная — не смею сказать, слепая — сестра, потому что хорошо знаю вас. Подумайте только, какие выгоды проистекают из вашей минутной распри с герцогом, которая приготовлена моими трудами. Во-первых, вы находились в страшном затруднении и дрожали при мысли, что явится господин де Каноль, который, не будучи предупрежден, страшно испортил бы вам семейный роман. Напротив, я явился и спас положение. Теперь существование вашего брата уже не тайна. Герцог д’Эпернон усыновил его, и, надобно признаться, самым нежным образом. Теперь брату вашему не нужно прятаться: он член семьи; теперь вы можете переписываться и видеться с ним вне дома и даже дома. Только смотрите, предупредите вашего черноглазого и черноволосого брата, чтобы он был осторожен и чтобы герцог д’Эпернон никогда не видал его лица. Ведь все плащи похожи друг на друга, и, когда герцог увидит, что от вас выходит человек в плаще, кто скажет ему, чей это плащ — брата или постороннего человека? Теперь вы свободны, как воздух. Только желая услужить вам, я вторично принял крещение, назвавшись Канолем, хотя это было весьма затруднительно. Вы должны быть довольны, ибо я принес себя в жертву ради вас!
Изумленная Нанон не знала, как возражать на этот поток слов, выражавших самое наглое бесстыдство.
Зато Ковиньяк, пользуясь своей победой, продолжал не останавливаясь:
— Даже теперь, дорогая сестра, когда мы воссоединились после долгой разлуки, когда после многих превратностей судьбы вы нашли настоящего брата, признайтесь, что с этой минуты вы будете спать спокойно, под щитом, которым любовь прикроет вас, вы будете спать так спокойно, как будто вся Гиень обожает вас; а ведь вы знаете, что, напротив, здесь вас не терпят. Но здешняя провинция поневоле покорится нам и будет делать то, что мы захотим. В самом деле, я буду жить у вашего порога; герцог произведет меня в полковники; вместо шести человек у меня будет две тысячи. С этими двумя тысячами я заставлю людей вспомнить о двенадцати подвигах Геркулеса. Меня делают герцогом и пэром, госпожа д’Эпернон умирает, герцог женится на вас…
— Но прежде всего этого два условия, — сказала Нанон строгим голосом.
— Какие, дорогая сестра? Говорите, я слушаю вас.
— Во-первых, вы возвратите герцогу бланк, потому что эта бумага может погубить вас. Вы слышали: он сам, своими устами произнес приговор. Во-вторых, вы сейчас же уйдете отсюда, потому что можете погубить меня. Для вас это ничего не значит, но и вы погибнете вместе со мною. Может быть, хоть это побудит вас подумать о том, к чему может привести моя гибель.
— Даю ответ на каждый пункт, дорогая госпожа. Бланк принадлежит мне как неотъемлемая собственность, и вы не можете запретить мне идти на виселицу, если мне так заблагорассудится.
— Как хотите!
— Покорно благодарю. Но будьте спокойны: этого не случится. Я сейчас говорил вам, какое отвращение чувствую к такого рода смерти. Стало быть, бланк останется у меня, но, может быть, вам угодно купить его; в таком случае мы можем переговорить и поторговаться.
— Он мне не нужен! Важная вещь бланк! Я сама выдаю их!
— Счастливая Нанон!
— Так вы оставляете его?
— Непременно.
— Не боясь ничего и рискуя последствиями?
— Не бойтесь, я знаю, как сбыть его с рук. Что же касается приказания уйти отсюда, я не решусь на такую ошибку, потому что я здесь по приказу герцога. Скажу еще, что, желая избавиться от меня поскорее, вы забываете самое важное.
— Что именно?
— То важное поручение, о котором говорил мне герцог и которое должно осчастливить меня.
Нанон побледнела.
— Несчастный, — сказала она, — ведь вы знаете, что не вы должны исполнить это поручение. Вы знаете, что использовать ваше положение во зло — значит совершить преступление, такое преступление, которое рано или поздно навлечет на вас казнь.
— Да, но я хочу им воспользоваться.
— Притом же в депеше написано, что она поручается господину де Канолю.
— А меня разве зовут не бароном де Канолем?
— Да, однако при дворе знают не только его имя, но и его лицо. Господин де Каноль часто бывал при дворе.
— Ну, согласен, вот это замечание дельное. С тех пор как мы толкуем, в первый раз вы правы, и видите, я тотчас соглашаюсь с вами.
— Притом же вы найдете там ваших политических врагов, — прибавила Нанон. — Да, может быть, и ваше лицо там столько же известно, сколько и лицо господина де Каноля, только с совсем иным отношением к нему.
— О, это бы ничего не значило, если бы поручение, как уверял герцог, действительно имело целью великую услугу Франции. Поручение избавило бы посланного от бед. Такая важная служба влечет за собой помилование, и прощение за прошлые грехи есть всегда главное при каждом изменении политики. Итак, поверьте мне, дорогая сестра, не вы можете диктовать мне условия, а я вам.
— И чего же вы хотите?
— Во-первых, как я вам уже говорил, главная статья всякого трактата — амнистия.
— А еще?
— Уплата по счетам.
— Так я вам еще должна?
— Вы должны мне сто пистолей, которые я просил у вас и в которых вы изволили отказать мне так бесчеловечно.
— Вот вам двести.
— Бесподобно! Теперь я узнаю вас, Нанон.
— Но с условием.
— Каким?
— Вы исправите зло, которое совершили.
— Совершенно справедливо. Что же я должен сделать?
— Сейчас же садитесь на коня, отправляйтесь по парижской дороге и скачите без отдыха, пока не догоните господина де Каноля.
— И тоща я расстанусь с баронским титулом?
— Вы возвратите его хозяину.
— А что сказать ему?
— Отдайте ему вот этот приказ и убедитесь, что он поехал в Париж.
— И это все?
— Конечно.
— Он должен знать, кто я?
— Напротив, очень нужно, чтобы он этого не знал.
— Ах, Нанон, неужели вы стыдитесь вашего брата?
Нанон не ответила. Она задумалась.
— Но, — сказала она через несколько минут, — каким образом я могу убедиться, что вы исполните мое поручение в точности? Если бы вы считали что-нибудь святым, так я попросила бы клятвы.
— Сделайте лучше.
— Что же?
— Обещайте мне сто пистолей после того, как я исполню ваше поручение.
Нанон пожала плечами.
— Согласна, — сказала она.
— Посмотрите, — отвечал Ковиньяк. — Я не требую с вас никакой клятвы, довольствуясь одним вашим словом. Итак, вы отдадите сто пистолей тому, кто доставит вам расписку Каноля, разумеется, от моего имени?
— Хорошо, но вы говорите о третьем лице: а вы, случайно, не думаете сами вернуться?
— Как знать? Важные дела призывают меня в окрестности Парижа.
Нанон не могла скрыть проявления радости, которое вырвалось у нее невольно.
— А вот это не совсем любезно, — сказал Ковиньяк, засмеявшись. — Но мне все равно, дорогая сестра. Итак, вы не держите на меня никакого зла?
— Никакого. Но скорее на коня!
— Немедленно. Только позвольте стакан вина на дорогу.
Ковиньяк вылил в свой стакан остатки шамбертена, выпил, чрезвычайно почтительно поклонился сестре, вышел, вскочил на лошадь и через минуту исчез в облаке пыли.
X
Луна выходила из-за горизонта, когда виконт в сопровождении верного Помпея выехал из гостиницы метра Бискарро и пустился вскачь по дороге в Париж.
Около четверти часа виконт предавался своим мыслям. За это время они проехали почти полтора льё. Наконец юноша повернулся к слуге, который следовал шагах в трех сзади своего господина.
— Помпей, — сказал он, — не попала ли к тебе как-нибудь моя перчатка с правой руки?
— Кажется, нет, господин виконт.
— Что ты делаешь там с багажом?
— Смотрю, крепко ли он привязан, и затягиваю ремни, чтобы золото не звенело. Звон золота не доводит до добра, сударь, и приводит к неприятным знакомствам, особенно ночью.
— Ты прекрасно делаешь, Помпей, — сказал виконт, — я радуюсь, видя твое старание и осторожность.
— Это естественные качества старого солдата, господин виконт, и они очень хорошо сочетаются с храбростью. Однако отвага не должна быть безрассудной, поэтому я, признаюсь, очень жалею, что господин Ришон не мог проводить нас: ведь трудно уберечь двадцать тысяч ливров, особенно в наше бурное время.
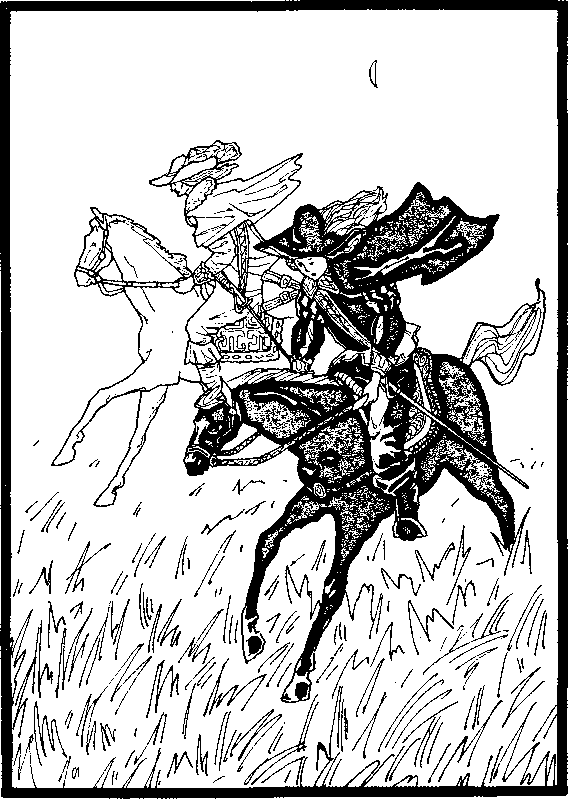
— Ты говоришь очень благоразумно, Помпей, — отвечал виконт, — и я совершенно с тобой согласен.
— Осмелюсь даже прибавить, — продолжал Помпей, видя, что виконт поощряет его трусость, — осмелюсь прибавить, что неблагоразумно поступать так, как мы. Позвольте мне подъехать к вам и осмотреть мой мушкетон.
— Ну, Помпей?..
— Замок в порядке, и, кто осмелится остановить нас, тому будет плохо. Ого, что там такое?
— Где?
— Да перед нами, шагах в ста, тут, направо…
— Что-то белое.
— Ого, — сказал Помпей, — что-то белое! Верно, перевязь! Мне очень хочется свернуть налево, за забор; если пользоваться военным термином, это называется — занять укрепленную позицию. Укрепимся там, господин виконт?
— Если это перевязи, Помпей, то их носят только королевские солдаты, а они не грабят проезжих.
— Извините, господин виконт, вы очень ошибаетесь: везде рассказывают о мерзавцах, которые прикрываются мундиром его величества и совершают множество преступлений. Недавно в Бордо четвертовали двух шеволежеров, которые… Мне кажется, я узнаю их мундир…
— Помилуй, у шеволежеров мундир синий, а мы видим что-то белое.
— Точно так, но часто они надевают белые блузы сверх мундира; так сделали и разбойники, четвертованные в Бордо… Вот эти что-то сильно размахивают руками и грозят… Такая уж у них тактика, господин виконт: они становятся на большой дороге и издали, с карабином в руках, принуждают несчастного путешественника бросить им кошелек.
— Но, добрый мой Помпей, — возразил виконт, который сохранял еще присутствие духа, хотя порядочно испугался, — если они грозят издалека карабином, так и ты погрози им.
— Да, но они не видят меня, — отвечал Помпей, — стало быть, моя угроза бесполезна.
— Но если они тебя не видят, так не могут и грозить тебе, так мне кажется.
— Вы ровно ничего не понимаете в военном деле, — сказал Помпей с заметной досадой. — Вот здесь будет со мной то же самое, что случилось при Корби.
— Надеюсь, что нет. Помпей, ведь, кажется, при Корби тебя ранили?
— Точно так, и ранили очень опасно. Я был там с бесстрашным господином де Канбом. Мы поехали ночью на разведку, чтобы осмотреть поле, где намеревались дать сражение, и издали увидели перевязи. Я просил его не проявлять бесполезную отвагу, а он отказался и поехал прямо на них. С досады я повернулся спиной. В эту минуту проклятая пуля… Ах, виконт, прошу вас, будем благоразумны!
— Пожалуй, Помпей, будем благоразумны, я вполне с тобой согласен. Однако ж мне кажется, что перевязи вовсе не двигаются.
— Они чуют добычу. Подождем.
По счастью, путешественники ждали недолго. Через минуту луна вышла из-за черной тучи и ярко осветила шагах в пятидесяти от двух путников две или три рубашки, которые сушились с растянутыми на заборе рукавами.
Это-то и были перевязи, напоминавшие Помпею о его роковой разведке при Корби.
Виконт громко захохотал и пустил лошадь в галоп. Помпей поскакал за ним, приговаривая:
— Какое счастье, что я не исполнил первый мой замысел: я хотел выстрелить в ту сторону, и был бы похож на Дон Кихота. Видите, господин виконт, как полезны благоразумие и знание войны!
После сильного волнения человек всегда успокаивается на некоторое время. Проскакав мимо рубашек, путешественники наши проехали довольно спокойно два льё. Погода была бесподобная; широкая и черная тень падала от леса на одну сторону дороги.
— Решительно я не люблю лунного света, — сказал Помпей. — Когда человек виден издалека, его легко застать врасплох. Я много раз слышал от старых солдат, что если два человека ищут один другого, то луна покровительствует только одному. Мы находимся на самом свету, господин виконт, это неблагоразумно.
— Так поедем в тени.
— Да, но если люди, которые подстерегают нас, спрятались на опушке леса, то мы сами бросимся к ним в пасть… Во время похода никогда не подходят к лесу, не разведав его.
— По несчастью, у нас нет передового отряда. Ведь так называют тех, кто осматривает дорогу, мой храбрый Помпей?
— Точно так, точно так, — шептал старый слуга. — Ах, черт побери этого Ришона, зачем он не поехал с нами? Мы послали бы его вместо авангарда, а сами составили бы главные силы.
— Ну как, Помпей, на что мы решились? Останемся в лунном свете? Или переберемся в тень?
— Переедем в тень, господин виконт, это, кажется мне, всего благоразумнее.
— Пожалуй.
— Вы боитесь, господин виконт?
— Нет, любезный Помпей, уверяю тебя, нет.
— И напрасно бы стали вы бояться, ведь я здесь и оберегаю вас; если б я был один, вы понимаете, так ничего бы не опасался. Старый солдат не боится ни Бога ни черта. Но вы такой товарищ, которого уберечь еще труднее, чем сокровище, которое я везу за седлом. Эта двойная ответственность пугает меня. Ага! Что там за черная тень? Ну ясно: она движется!
— Не спорю, — сказал виконт.
— Видите, что значит быть в тени: мы видим врага, а он нас не видит. Не кажется ли вам, что у этого злодея есть мушкет?
— Да. Но этот человек один, а нас двое.
— Господин виконт, кто ходит один, тот еще страшнее: одиночество свидетельствует о решительности. Знаменитый барон дез’Адре ходил всегда один… Ах, смотрите, он, кажется, целится в нас… Он сейчас выстрелит, наклонитесь!
— Да нет, Помпей, он только переложил мушкет с одного плеча на другое.
— Все равно наклонимся, встретим выстрел, припав к луке седла; так уж принято.
— Но ты видишь, что он не стреляет.
— А, он не стреляет, — сказал Помпей, приподнимая голову. — Хорошо! Он, верно, испугался, увидев наши решительные лица. Ага! Он боится, так позвольте мне переговорить с ним, а потом вы начнете говорить, только густым басом.
Тень приближалась.
Помпей громко закричал:
— Эй, дружище! Кто ты?
Тень остановилась в видимом испуге.
— Ну, теперь вы извольте кричать, — сказал Помпей.
— Зачем? — спросил виконт. — Разве ты не видишь, что бедняга и так дрожит?
— А, он боится! — вскричал Помпей и бросился вперед.
— Помилуйте, сжальтесь! — вскричал незнакомец, становясь на колени. — Сжальтесь! Я бедный странствующий торговец, вот уже более недели, как я не продал материи даже на носовой платок, и у меня нет ни единого денье.
Аршин, которым бедный торговец мерил ткань, показался Помпею мушкетом.
— Знай, друг мой, — величественно сказал Помпей, — что мы не грабители, а люди военные и путешествуем ночью, потому что ничего не боимся, продолжай путь спокойно, ты свободен.
— Вот, друг мой, — прибавил виконт самым ласковым голосом, — вот тебе полпистоля за то, что мы напугали тебя, и желаю счастливого пути!
Виконт белой маленькой рукой подал деньги бедняку, который ушел, благодаря Небо за такую счастливую встречу.
— Вы напрасно это сделали, господин виконт, да, вы совсем напрасно это сделали, — сказал Помпей спустя шагов двадцать.
— Да что такое?
— Зачем дали вы денег этому человеку? Ночью никогда не стоит показывать, что у вас есть деньги. Помните, этот трус прежде всего закричал, что у него нет ни денье.
— Правда, — сказал виконт с улыбкой. — Но ведь он трус, как ты говоришь, а мы, напротив того, как ты видишь, храбрые вояки и ничего не боимся.
— Между бояться и остерегаться, господин виконт, такое же огромное расстояние, как между страхом и осторожностью. Изволите видеть, повторяю, неблагоразумно показывать незнакомому человеку, встретившемуся на большой дороге, что у вас есть деньги.
— Но когда незнакомец один и без оружия?
— Он может принадлежать к вооруженной шайке, он может быть шпионом, посланным вперед, чтобы разузнать о местности… Он может вернуться с целой толпой, а что могут сделать два человека, как бы они ни были храбры, против толпы?
Виконт на этот раз признал упрек Помпея справедливым, а может, чтобы скорее избавиться от укоров, согласился с ним. В это время они приехали к речке Се, близ Сен-Жене.
Моста не было, и следовало переправляться вброд.
Помпей мастерски изложил виконту теорию переправы через реки, но теория не мост, и все-таки пришлось въехать в воду.
По счастью, река была неглубока, и это новое происшествие показало виконту, что препятствия, на которые смотришь издали, особенно ночью, кажутся не такими страшными, когда увидишь их вблизи.
Виконт начал совершенно успокаиваться, потому что дело подходило к рассвету, как вдруг наши путешественники остановились, проехав половину леса, окружающего Марсак. Они очень явственно услышали за собой топот нескольких лошадей.
В это время их собственные лошади подняли головы, и одна из них заржала.
— На этот раз, — сказал Помпей дрожащим голосом, схватывая лошадь своего спутника за узду, — на этот раз, господин виконт, вы, надеюсь, проявите хоть немного послушания и предоставите право распоряжаться опытному старому солдату. Я слышу топот конного отряда: нас преследуют. И видите ли, это, верно, шайка вашего мнимого торговца: я говорил вам это, вам, неосторожный! Теперь не нужно лишней отваги, спасем жизнь и деньги. Бегство часто единственный путь к победе. Гораций притворился, что бежит…
— Так скорей обратимся в бегство, — отвечал виконт, дрожа всем телом.
Помпей сильно пришпорил свою лошадь, превосходного руанского коня. Конь рванулся вперед с усердием, которое увлекло и берберийскую лошадь виконта; копыта их гремели по дороге и выбивали искры из камней.
Так скакали они с полчаса, но ничего не выиграли: беглецам казалось, что враги все приближаются.
Вдруг в темноте раздался голос; соединившись со свистом ветра, производимого бегом коней наших всадников, он казался зловещей угрозой духа ночи.
От этого голоса седые волосы Помпея стали дыбом.
— Они кричат "Стой!" — прошептал он. — Слышите, они кричат нам "Стой!"
— Ну что же, надо остановиться? — спросил виконт.
— Нельзя! — вскричал Помпей. — Поскачем вдвое скорее, если можно. Вперед! Вперед!
— Да, да, вперед, скорей, скорей! — кричал виконт, на этот раз испугавшийся так же сильно, как и его провожатый.
— Они приближаются, приближаются! — говорил Помпей тем временем. — Слышите?
— Увы, да!
— Их белее тридцати! Слышите, они опять зовут нас. Ну, мы решительно погибли!
— Загоним лошадей, если нужно, — сказал виконт, едва переводя дыхание.
— Виконт! Виконт! — слышался голос. — Остановитесь! Остановитесь! Остановись, старый Помпей!
— Ах, они знают нас, они знают, что мы везем деньги госпоже принцессе, они знают, что мы участвуем в заговоре, — нас будут колесовать живых!
— Остановитесь! Остановитесь! — кричал голос.
— Они кричат, чтобы нас остановили! — продолжал Помпей. — У них впереди есть сообщники, мы окружены со всех сторон!
— А если мы бросимся в сторону, в поле, и они проскачут мимо нас?
— Превосходная мысль! — сказал Помпей… — В сторону!
Оба всадника поворотили лошадей влево. Лошадь виконта удачно перескочила через ров, но тяжелый конь Помпея остановился на краю рва, земля не выдержала его тяжести, и он рухнул вместе с всадником. Бедный слуга отчаянно закричал.
Виконт, уже отскакавший шагов пятьдесят, услышал стоны слуги и, хотя сам дрожал всем телом, повернул лошадь и поспешил на помощь товарищу.
— Пощады! — кричал Помпей. — Сдаюсь, я служу дому де Канб.
Громкий хохот отвечал на эти жалобные вопли; виконт, подъехавший в эту минуту к Помпею, увидел, что храбрец целует стремя победителя, который старался успокоить несчастного ласковым, насколько позволял ему хохот, голосом.
— Барон де Каноль! — воскликнул виконт.
— Ну, конечно, я. Нехорошо, виконт, заставлять так скакать людей, которые вас ищут.
— Господин барон де Каноль! — повторил Помпей, сомневаясь еще в своем счастье. — Господин барон де Каноль и господин Касторен!
— Разумеется, это мы, господин Помпей, — сказал Касторен, приподнимаясь на стременах и поглядывая через плечо своего господина, который от хохота наклонился к луке. — Да что вы делали во рву?
— Вот видите! — отвечал Помпей. — Лошадь моя упала в ту самую минуту, когда я, приняв в темноте вас за врагов, хотел приготовиться к отчаянной защите.
Встав и отряхнувшись, Помпей прибавил:
— Ведь это барон де Каноль, господин виконт!
— Как, вы здесь, барон? — спросил виконт с радостью, которая против воли выразилась в его голосе.
— Да, здесь собственной персоной, клянусь честью, — отвечал барон, не сводя глаз с виконта (это упорство объяснялось найденной в гостинице перчаткой). — Мне стало до смерти скучно в трактире: Ришон покинул меня, выиграв мои деньги. Я узнал, что вы поехали по парижской дороге. По счастью, у меня в Париже есть дела, и я поскакал догонять вас. Я никак не предполагал, что мне придется так измучиться. Черт возьми, виконт, вы удивительно ездите верхом!
Виконт улыбнулся и прошептал два-три слова.
— Касторен, — продолжал Каноль, — помоги господину Помпею сесть на лошадь. Ты видишь, он никак не может взобраться на нее, несмотря на всю свою ловкость.
Касторен сошел с лошади и подал руку Помпею, который наконец попал в седло.
— Ну, теперь продолжим наш путь, если вам угодно, — сказал виконт.
— Позвольте только одну минуту, господин виконт, — возразил Помпей с заметным смущением. — Мне кажется, у меня чего-то недостает.
— Да, и мне тоже кажется, — заметил виконт, — у тебя нет чемодана.
Несчастный! — вскричал виконт. — неужели ты поте
— Ах, Боже мой! — прошептал Помпей, притворяясь удивленным.
Он недалеко, сударь, — отвечал Помпей.
— Да вот не он ли? — спросил Касторен, с трудом поднимая чемодан.
— Да, да! — вскричал виконт.
— Да, да! — повторил Помпей.
— Но он не виноват, — сказал Каноль, желая приобрести дружбу старого слуги, — во время падения ремни оборвались и чемодан свалился.
— Ремни не оборвались, сударь, они отрезаны, — возразил Касторен. — Извольте посмотреть.
— Ага, господин Помпей! Что это значит? — спросил Каноль.
— Это значит, — сказал виконт строгим голосом, — что Помпей, опасаясь преследования воров, ловко отрезал ремни, чтобы избавиться от ответственности быть казначеем. Каким военным термином называется такая хитрость, Помпей?
Помпей оправдывался тем, что неосторожно вынул охотничий нож, но так как он не мог дать удовлетворительного объяснения, то вызвал сильное подозрение, что хотел пожертвовать чемоданом ради собственной своей безопасности.
Каноль показал себя не столь строгим судьей.
— Хорошо, хорошо, — сказал он, — подобные вещи часто случаются, но привяжите-ка чемодан. Эй, Касторен, помоги ему. Ты был совершенно прав, Помпей, когда боялся воров: чемодан у вас полновесный, и он был бы хорошей добычей.
— Не шутите, сударь, — сказал Помпей, вздрогнув, — всякая шутка ночью таит беду.
— Ты совершенно прав, Помпей, всегда прав; поэтому-то я хочу служить вам, тебе и виконту, эскортом: конвой из двух человек не покажется вам лишним.
— Разумеется, нет! — вскричал Помпей. — Чем больше людей, тем безопаснее.
— А вы, виконт, что думаете о моем предложении? — спросил Каноль, замечая, что виконт не так приветливо, как его слуга, принимает учтивое предложение барона.
— Я вижу, сударь, — отвечал виконт, — вашу обычную благожелательность и от души благодарю вас. Но мы едем не по одной дороге, и я боюсь, что обеспокою вас, если приму предложение.
— Как? — сказал смущенный Каноль, увидев, что спор, начатый в гостинице, грозит продолжиться и на большой дороге, — как, мы едем не по одной дороге? Ведь вы едете в…
— В Шантийи! — поспешно отвечал Помпей, задрожав при мысли, что ему, может быть, придется продолжать путь одному с виконтом.
Что же касается виконта, то он вздрогнул с досады, и если б было светло, то на лице его увидели бы краску гнева.
— Очень хорошо! — сказал Каноль, притворяясь, что не замечает гневных взглядов, которые виконт бросал на бедного Помпея. — Очень хорошо, ведь Шантийи тоже лежит на моем пути. Я еду в Париж, или, лучше сказать, — прибавил он с улыбкой, обращаясь к виконту, — мне нечего делать, и я сам не знаю, куда еду. Если вы едете в Париж, так и я поеду в Париж; если вы едете в Лион, так и я поеду в Лион; если вы едете в Марсель, так и я поеду в Марсель: мне очень давно хочется посмотреть Прованс. Если вы едете в Стене, где стоит армия его величества короля, поедем в Стене. Я родился на юге, но всегда особенно любил север.
— Сударь, — отвечал виконт с твердостью, которой, вероятно, был обязан своей досаде на Помпея, — позвольте говорить откровенно. Я путешествую один, по собственным делам величайшей важности, по причинам чрезвычайно серьезным, и простите меня: если вы будете настаивать на просьбе, я буду принужден, к величайшему сожалению, сказать вам, что вы стесняете меня.
Только воспоминание о перчатке, которую Каноль спрятал на груди между камзолом и сорочкой, могло удержать барона, горячего и вспыльчивого, как всякий гасконец, от взрыва гнева.
— Сударь, — возразил он серьезно, — мне никто никогда не говорил, что большая дорога принадлежит исключительно одному человеку, а не всем. Ее называют даже, если я не ошибаюсь, королевским путем в доказательство, что все подданные его величества имеют равное право ею пользоваться. Стало быть, я нахожусь на королевском пути вовсе без намерения мешать вам: я даже могу помочь вам, потому что вы молоды, слабы и почти без всякой защиты. Я не думал, что у меня вид человека, грабящего людей на дорогах. Но, поскольку вы так говорите, я прошу прощения за мое несносное лицо. Простите, что я обеспокоил вас, милостивый государь. Честь имею кланяться! Доброго пути!
Каноль, легким движением руки поворотив лошадь на другую сторону дороги, поклонился виконту. Касторен поехал за ним; Помпей всей душой желал быть с ними.
Каноль разыграл эту сцену с такой грациозной учтивостью, так ловко надел свою широкополую фетровую шляпу на красивый лоб, окаймленный черными блестящими волосами, что виконт был поражен его благородным поступком, а еще более — его красотою.
Каноль, как мы уже сказали, переехал на другую сторону дороги. Касторен последовал за ним. Помпей, оставшись на своей стороне наедине с виконтом, погруженным в глубокое раздумье, вздыхал так, что мог бы разжалобить камни на дороге. Наконец виконт, основательно поразмыслив, двинулся в ту же сторону и, подъехав к Канолю, который притворился, что не видит и не слышит его, сказал едва слышным голосом только два слова:
— Господин де Каноль!
Каноль вздрогнул и обернулся: радость разлилась по его жилам; ему казалось, что все гармонические звуки небесных сфер соединились в божественном концерте.
— Виконт! — сказал он в свою очередь.
— Послушайте, сударь, — начал виконт ласковым и нежным голосом, — я боюсь, что был очень неучтив с таким достойным дворянином, как вы, простите мою осторожность. Я воспитывался у родителей, которые из своей нежной любви ко мне все время опасались за меня; повторяю, простите меня, я вовсе не имел намерения оскорбить вас, а в доказательство искреннего нашего примирения позвольте мне ехать вместе с вами.
— Помилуйте, — вскричал Каноль, — не только позволяю, но даже прошу, прошу тысячу раз… Я незлопамятен, виконт, и в доказательство…
Он подал свою руку, в которую упала или скорее скользнула мягкая, легкая, убегающая ручка виконта, подобная очаровательной лапке воробья.
Остальную часть ночи путешественники провели в веселом разговоре. Барон беспрестанно говорил, виконт слушал и иногда улыбался.
Лакеи ехали позади; Помпей объяснял Касторену, почему сражение при Корби было проиграно, между тем как его можно было выиграть, если бы его, Помпея, не забыли позвать на военный совет, который собирался в тот день утром.
— Кстати, — сказал виконт Канолю, когда показались первые лучи солнца, — чем закончилось ваше дело с герцогом д’Эперноном?
— О, очень просто, — отвечал Каноль. — Судя по вашим словам, виконт, я был зачем-то нужен ему. Ну а мне не было до него никакого дела. Теперь ему или надоело меня ждать и он уехал, или все еще меня дожидается.
— А мадемуазель де Лартиг?.. — спросил виконт нерешительно.
— Мадемуазель де Лартиг не может одновременно быть дома с герцогом д’Эперноном и в гостинице "Золотого тельца" со мной. От женщин нельзя требовать невозможного.
— Это не ответ, барон. Я спрашиваю, как вы, до такой степени влюбленный в мадемуазель де Лартиг, могли расстаться с нею?
Каноль взглянул на виконта и, так как было уже светло, очень ясно увидел, что на лице молодого человека уже не было и тени досады.
На его вопрос барону очень захотелось ответить искренно, от души, но его удержало присутствие Помпея, Касторена и гордый взгляд виконта. Кроме того, Каноля все еще тревожило сомнение, он думал:
"А вдруг я ошибаюсь… если, несмотря на перчатку и маленькую ручку, это мужчина? В случае ошибки я, право, умру со стыда".
Поэтому он удержался и ответил на вопрос виконта одной из тех улыбок, которые объясняют все.
Молодые люди остановились в Барбезьё позавтракать и дать лошадям отдых. На этот раз Каноль сидел за столом вместе с виконтом и восхищался той ручкой, надушенная перчатка с которой привела его в такое сильное волнение. Кроме того, садясь за стол, виконт поневоле должен был снять шляпу, оставив без спасительного прикрытия свои волосы, такие блестящие, красивые и холеные, что любой человек — кроме влюбленного, ибо влюбленные слепы, — разом избавился бы от всех сомнений. Но Каноль ужасно боялся проснуться и оборвать свой очаровательный сон.
Он находил какую-то прелесть в переодевании виконта, допускавшем приятную близость, которая при окончательном разоблачении или откровенном признании была бы ему запрещена. Поэтому он не сказал виконту ни одного слова, которое могло бы показать, что инкогнито раскрыто.
После завтрака они опять пустились в дорогу и не сходили с лошадей до обеда. По временам усталость, которой виконт не мог уже сносить, вызывала на лице его синеватую бледность или заставляла дрожать всем телом. В таких случаях Каноль дружески спрашивал, что с ним. Тоща де Канб тотчас приободрялся, улыбался, казалось, переставал страдать, предлагал даже ехать скорее, но Каноль на это не соглашался под предлогом, что путь далек и необходимо беречь лошадей.
После обеда виконт едва мог встать с места. Каноль бросился и помог ему.
— Вам непременно нужно отдохнуть, молодой друг мой, — сказал он. — Если мы будем продолжать таким образом, то вы умрете на третьей станции. В эту ночь мы остановимся и передохнем. Я хочу, чтобы вы спали спокойно, лучшая комната в гостинице будет отдана вам, клянусь вам жизнью.
Виконт посмотрел на Помпея с таким смущением, что Каноль едва не расхохотался.
— Когда предпринимается такое долгое путешествие, как наше, — сказал Помпей, — то следовало бы брать по палатке на человека.
— Или по палатке на двоих, — отвечал Каноль с самым естественным видом, — этого было бы достаточно.
Виконт задрожал.
Удар поразил метко, и Каноль заметил это; мимоходом он успел подсмотреть знак, поданный виконтом Помпею, который подошел к своему господину. Виконт сказал ему несколько слов на ухо, и скоро Помпей под каким-то предлогом поскакал вперед и исчез.
Часа через полтора после этой проделки, объяснения которой Каноль не думал спрашивать, наши путешественники, въехав в большое селение, увидели Помпея на пороге приличной гостиницы.
— А, — сказал Каноль, — кажется, мы проведем ночь здесь, виконт?
— Да, если вам угодно, барон.
— Помилуйте! Я согласен на все, что вам угодно. Я уже сказал вам, я путешествую просто для удовольствия, а вы, напротив, как изволили говорить мне, едете по важным делам. Только я боюсь, что в этом дрянном домишке вам будет недостаточно удобно.
— О, — возразил виконт, — ночь скоро пройдет!
Когда они остановились, Помпей опередил Каноля и помог своему господину сойти с лошади; при этом Каноль подумал, что такая услужливость мужчины перед мужчиной может показаться смешной.
— Ну, скорей, где моя комната? — спросил виконт.
Потом, повернувшись к Канолю, прибавил:
— Вы совершенно правы, барон, я чрезвычайно устал.
— Вот ваша комната, сударь, — сказала хозяйка, указывая на довольно просторную комнату в нижнем этаже, выходившую окнами во двор; окна были с решетками, а над комнатой красовались чердаки.
— А где же вы поместите меня? — спросил Каноль.
Он с жадностью посмотрел на дверь в соседнюю комнату, которая отделялась от комнаты виконта только тоненькой перегородкой, весьма слабой преградой для такого сильного любопытства, которое испытывал барон Каноль.
— Ваша? — отвечала хозяйка. — Позвольте, я вас сейчас проведу туда.
И тотчас же, словно не замечая неудовольствия Каноля, она повела его в дальний конец внешней галереи, на которую выходило множество дверей. Комната барона находилась, таким образом, на другой стороне большого двора.
Виконт тем временем наблюдал за спутником, стоя на пороге своего помещения.
"Ну, теперь уж я не сомневаюсь в своем предположении, — подумал Каноль. — Меня одурачили, но если я покажу неудовольствие, все погибнет безвозвратно. Постараемся быть как можно учтивее".
И выйдя в конец галереи, которая шла вдоль дома как балкон, он сказал:
— Спокойной ночи, милый виконт, спите хорошенько; вы в самом деле нуждаетесь в отдыхе. Если угодно, я разбужу вас завтра? Не угодно? Так разбудите меня сами, когда встанете. Желаю вам доброй ночи.
— Спокойной ночи, барон! — отвечал виконт.
— Кстати, — продолжал Каноль, — не нужно ли вам чего-нибудь? Хотите, я пришлю вам Касторена, он поможет вам раздеться.
— Покорно благодарю, у меня есть Помпей; он спит в соседней комнате.
— Разумная предусмотрительность, я то же сделаю с Кастореном. Меры предосторожности, не так ли, Помпей? Чем осторожнее в гостинице, тем лучше… Спокойной ночи, виконт.
Виконт отвечал точно таким же пожеланием, и дверь затворилась.
— Хорошо, хорошо, виконт, — прошептал Каноль, — завтра придет моя очередь приготовлять квартиры, и я отомщу вам. Так, — продолжал он, — он задергивает занавески, вешает за ними какую-то простыню, чтобы не видно было даже его тени. Черт возьми! До чего же он стыдлив, этот маленький дворянин! Но все равно, до завтра!
Каноль, ворча, ушел в свою комнату, с досады лег спать и видел во сне, что Нанон нашла у него в кармане жемчужносерую перчатку виконта.
Назад: Часть первая Нанон де Лартиг
Дальше: XI

