Книга: А. Дюма - Собрание сочинений. Том 12. Женская война. Сильвандир. 1993
Назад: XI КАК ШЕВАЛЬЕ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ ПРИМЕНИЛ УРОКИ ФЕХТОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ЕМУ ПРЕПОДАЛ ЕГО ОТЕЦ, БАРОН Д’АНГИЛЕМ
Дальше: XIII О ТОМ, КАК В ТУ МИНУТУ, КОГДА ШЕВАЛЬЕ СТАЛ ДОБЫЧЕЙ БЕСПРОСВЕТНОГО ОТЧАЯНИЯ, К НЕМУ ЯВИЛСЯ НЕЗНАКОМЕЦ И СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОТОРОГО НЕ ОЖИДАЛ НИ САМ РОЖЕ, НИ ТЕМ БОЛЕЕ ЧИТАТЕЛЬ
ХII
КАК ШЕВАЛЬЕ Д’АНГИЛЕМ ПОЗНАКОМИЛСЯ С СЫНОМ ИНДИАНКИ И КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ТОТ НА НЕГО ПРОИЗВЕЛ
Все случившееся промелькнуло как сон.
Если Роже еще успевал жить, то времени осмыслить происходящее у него уже не оставалось. Он поделился своими ощущениями с маркизом де Кретте, и тот сказал в ответ:
— Мой милый, именно так и живут в Париже; нынче еще мы потеряем целый вечер, во всяком случае я, потому что это окаянное запястье не позволит мне выйти из дому. Вы — другое дело, у вас обе руки целы и невредимы, Париж велик, времени до полуночи еще много, и вы вполне успеете с толком провести его.
— Нет уж, благодарю покорно, — отвечал шевалье, — я не прочь возвратиться к себе в гостиницу; но если так пойдет и дальше, то, следуя вашему примеру, я, надо полагать, через неделю стану вполне светским человеком.
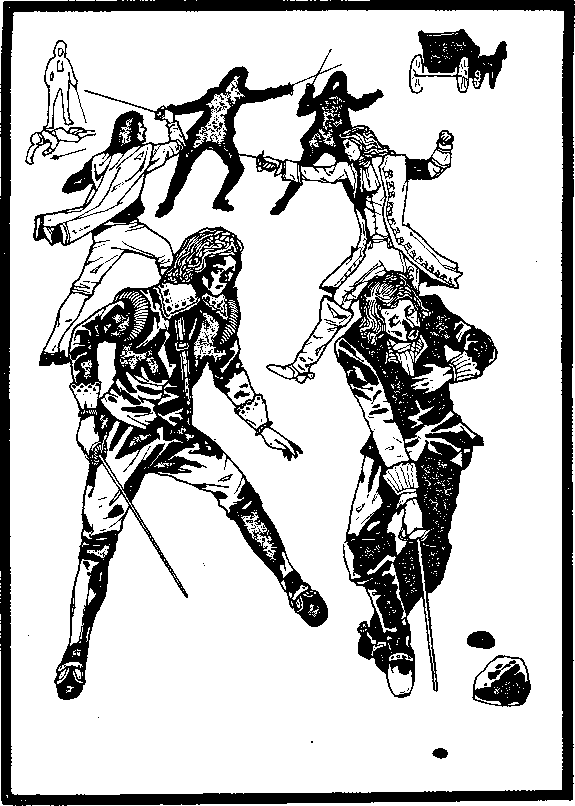
— Черт побери, я в том не сомневаюсь! Вас уже и за первые два дня узнать нельзя. Однако существует нечто гораздо более важное, чем обеды в Сен-Жермене, игра в мяч на улице Вожирар и прогулки позади монастыря Дев Святого Причастия: эта ваша тяжба, и я советую вам ею заняться.
— Таково и мое намерение, — отозвался шевалье д’Ангилем, — с завтрашнего дня я примусь за дело.
— Знайте, мой друг, в вашем распоряжении всегда либо моя карета, либо верховая лошадь, вы только ставьте меня в известность с утра о своих планах и намерениях, и экипаж либо конь, по вашему выбору, тотчас же будут готовы.
— А как вы думаете, маркиз, выиграю я свою тяжбу? — спросил Роже.
— Ну знаете, мой милый, вы меня ставите в тупик, на такой вопрос я ответить не берусь; коли вы спросите меня, сумеете ли вы укротить Буцефала, я отвечу: "Да". Если вы меня спросите, сумеете ли вы продырявить шкуру Бертло и Буароберу, лучшим нашим учителям фехтования, я отвечу: "Вполне возможно". Но, черт побери, дружище! Укротить лошадь или убить на дуэли человека гораздо проще, чем умаслить судью; а ведь существуют еще ходатаи по делам, судебные приставы, советники и председатели судов — словом, крючкотворы всех видов и мастей, целый мир господ в бархатных шапочках, целый ад, населенный пройдохами в черных одеждах; прежде всего разузнайте имена этих молодчиков, сообщите их мне, и уж тоща мы попытаемся одних обольстить сладкими речами, а других — деньгами.
— За сладкими речами остановки не будет, — отвечал Роже, — говорить красно я умею, недаром же я штудировал риторику с аббатом Дюбюкуа, человеком весьма сведущим, и обучался в классе философии у иезуитов в Амбуазе; но что касается денег, тут дело обстоит хуже: отец дал мне всего пятьдесят луидоров, с тем чтобы я прожил на них в Париже полгода, а я за первые два дня уже промотал двадцать пистолей.
— Любезный мой шевалье, я же говорил вам, что настоящим дворянам не следует тревожиться из-за такого рода вещей. Хорошенько пошарьте в моем кошельке, у меня ведь около шестидесяти тысяч ливров годового дохода, их было бы не так-то легко потратить, не будь у меня управляющего. А потому берите, друг мой, берите, вы мне все вернете, когда станете миллионером.
— А вдруг я проиграю тяжбу? — спросил Роже.
— Ну что на это сказать, шевалье?! Не казнить же вас в случае неудачи. Соберем тоща те деньги, что у вас останутся, отправимся в игорный дом и поставим их на карту. Не может же человек вечно проигрывать: фортуна должна будет вас вознаградить, и она это сделает.
— Ну это слишком зависит от случая, любезный маркиз.
Должен признаться, что будущее представляется мне не в столь уж розовом свете.
— Вот- вот, сетуйте на судьбу, это куда как справедливо! Если вы недовольны жизнью, что ж тоща говорить Бардану и Тревилю? Кстати, мой милый, если вас спросят о них, не забудьте ответить, что они поссорились во время игры в мяч и потом проткнули друг друга шпагами. А ежели кто-либо проявит чрезмерное любопытство и станет добиваться, откуда вам это известно, скажите, что обо всем вам рассказал я.
— Хорошо, — ответил Роже, направляясь к дверям.
— И еще одно напоследок: завтра утром пошлите осведомиться, умер ли господин Коллински или еще жив. Уж это-то вы обязаны сделать. Коли он умер, в добрый час, и делу конец. Коли нет — справляйтесь о нем каждый день, пока он не отдаст Богу душу либо не поправится. Да, если не ошибаюсь, вы малость поцарапали и саксонца?
— Кажется, я проткнул ему шпагой плечо.
— Ах, вам только кажется! Ну что ж, в таком случае убейте двух зайцев разом: пусть ваш человек осведомится заодно и о его здоровье.
— Но как узнать их адреса?
— Петипа сообщит их вам завтра утром.
— А кто такой Петипа?
— Мой скороход.
— Отлично. Доброй ночи, маркиз.
— Благодарю за пожелание, но только я в этом сильно сомневаюсь. У меня чертовски ноет запястье. Скотина Коллински! Не мог ткнуть меня шпагой куда-нибудь еще! Какие все же грубияны эти венгры… Ну ладно… Доброй ночи, друг мой! Помните, с нынешнего дня мы с вами друзья до гробовой доски.
Возвращаясь к себе в гостиницу, шевалье думал о том, что в тот день он если и не убил, то, во всяком случае, сильно покалечил человека; и Роже удивлялся, что, несмотря на заповеди Господа Бога и церкви, предписывающие нам любить ближнего своего как самого себя, повторяю, Роже удивлялся, что не испытывает особых угрызений совести.
Больше того, когда шевалье увидел, что Коллински упал, он не только не ощутил ни малейшего сожаления, но, напротив, ощутил живейшую радость: справедливо замечено, что чувство самосохранения неизменно одерживает верх над всеми прочими нашими чувствами.
Одно только немного успокаивало нашего героя, уже невольно начинавшего дурно думать о самом себе: ведь оба его новых приятеля сразу же позабыли о несчастном Тревиле, который был убит на дуэли; правда, д’Эрбиньи — мы уже говорили об этом — вспомнил, что он остался должен Тревилю сотню луидоров, но это обстоятельство, пожалуй, не всплыло бы так быстро в его памяти, если бы злополучный Тревиль остался в живых.
А между тем Кретте и д’Эрбиньи были уже лет десять или двенадцать связаны узами дружбы с погибшим. Но ведь у Тревиля, без сомнения, были отец, мать, возлюбленная, и его смерть, должно быть, повергла их в сильное горе. Роже вздрогнул, подумав, что у него тоже есть отец, мать и невеста, и вполне могло случиться, что сейчас он лежал бы бездыханный на земле, как Тревиль, а не предавался бы философским размышлениям.
Мысль эта заставила шевалье ускорить шаг: ему захотелось немедля написать в Ангилем и излить на тех, кого он любил, чувства, переполнявшие его сердце.
Роже и в самом деле написал письмо отцу и матери; он был так счастлив, что радость его буквально переливалась через край. До чего прекрасной кажется жизнь человеку, чудом избежавшему смерти, особенно если к сознанию, что он уцелел, присоединяется еще и гордость из-за одержанной победы! Еще одно соображение успокаивало Роже: отныне он больше не будет ощущать колотье в сердце, которое свидетельствует о нерешительности, свойственной порою и храброму человеку; теперь не только он сам сознавал свою силу, отныне о ней знали и другие.
В письме к матери шевалье умолял ее не забывать, что, помимо любви к ней и к отцу, единственным и неповторимым его чувством остается привязанность к мадемуазель де Безри; затем он просил баронессу сделать так, чтобы в их родных краях узнали, что он, Роже, вхож в дом маркиза де Кретте и уже начал жить так, как и должно жить дворянину в Париже. Потом он в подробностях описал свой новый наряд, мельком упомянул, что его появление в обществе не осталось незамеченным, и осведомился, может ли он надеяться на скорое получение следующих пятидесяти луидоров. В конце письма был постскриптум для Констанс, занимавший целых полторы страницы.
В своем письме к барону — шевалье посчитал бы кощунством смешивать сердечные чувства с денежными делами — Роже излагал все опасения метра Кокнара; он подробно обрисовал те опасности, какими тяжба угрожала скромному состоянию д’Антилемов: в глубине души наш самонадеянный герой был уверен, что отныне перед ним ничто не устоит и он непременно выиграет тяжбу, а потому ему хотелось даже слегка преувеличить подлинные трудности, дабы его победа показалась еще более блистательной.
Постскриптум второго письма был посвящен Кристофу: славный конь отдыхал и досыта ел овес в конюшне гостиницы "Золотая решетка".
Между тем дело, которое привело шевалье в Париж, мало-помалу прояснялось; виконт де Бузнуа умер от апоплексического удара, не позаботившись ни устно, ни письменно выразить свою последнюю волю, ибо сей достойный дворянин полагал, что проживет на свете еще лет десять, а то и двенадцать. Его особняк, стоявший на площади Людовика Великого, внезапно опустел; сын индианки — так все еще называли жену, которую виконт де Бузнуа некогда привез из-за моря, — повторяю, сын индианки прибыл в столицу, чтобы вступить в права наследства; однако у него не оказалось никаких бумаг, подтверждающих эти его права, и потому особняк опечатали, а на все имущество покойного наложили секвестр.
Роже твердо решил: как только у него выпадет свободная минута, пойти и осмотреть особняк; ему надо было занести свою визитную карточку к г-ну Коллински, живущему на улице Капуцинок, и к графу Горкойну, жившему возле Ферм-де-Матторен; шевалье воспользовался этим и по пути остановился перед своим будущим владением.
Он узнал особняк, потому что все двери и окна там были наглухо закрыты; этот большой и красивый дом мог стоить триста тысяч ливров — сумма для того времени огромная. Роже сразу же обратил внимание на украшавший ворота небольшой каменный щит, на котором был выбит герб покойного, и решил, что, как только успешный исход тяжбы позволит ему это сделать, он выбьет там собственный герб и ублажит тем самым свое тщеславие. Юноша то подходил к особняку вплотную, то немного отступал, чтобы получше разглядеть его с разных сторон, и вдруг он заметил какого-то человека: тот пришел почти одновременно с ним, проделываю такие же самые маневры, да и вид у незнакомца был столь же сосредоточенный, как и у самого Роже; по этой причине шевалье более внимательно оглядел его.
Точный возраст этого человека угадать было нелегко, хотя можно было сказать наверняка, что ему не меньше двадцати пяти и не больше сорока лет; лицо у него было желтооранжевого цвета, почти такого же оттенка были даже белки глаз; у него были острые ослепительно белые зубы и черные как смоль волосы; его необычайно яркий наряд был богато расшит, по животу были пущены две цепочки для часов, все пальцы унизаны алмазными перстнями; на противоположной стороне улицы его ожидала золоченая карета, на ее козлах восседал кучер, еще более желтый, нежели его хозяин, а возле дверцы стоял слуга в костюме ласкара, еще более желтый, чем кучер.
В ту самую минуту, когда шевалье заметил странного незнакомца, тот, в свою очередь, должно быть, заметил его; оба несколько раз подряд переводили взгляды с особняка друг на друга, а затем снова на особняк; внезапно парадная дверь приотворилась, чтобы пропустить одетого в черное платье мужчину, походившего на судебного пристава; оба наших любителя недвижимости разом кинулись к заветной двери и просунули головы в щель, причем проделали они это столь поспешно, что стукнулись лбами.
Роже, как человек весьма учтивый, принес незнакомцу свои извинения, а тот лишь что-то проворчал в ответ. Ворчание его можно было, видимо, передать такими словами: "Вот дьявол! У этого молодца голова как медный котел".
Потом оба одновременно воскликнули:
— Право же, до чего великолепный особняк!
— Не правда ли, сударь? — спросил Роже.
— Да, я тоже так думаю, — ответил незнакомец.
— когда выполют траву, которой порос двор…
— А когда заново покрасят двери и ставни…
— когда днем вид тут будут оживлять красивые экипажи и чистокровные лошади…
— А ночью все будет освещено множеством огней…
— Тоща, ей-Богу, у меня будет один из самых великолепных особняков в Париже, — закончил Роже.
— Виноват, сударь, — возразил незнакомец, — вы хотели сказать, что у меня будет один из самых великолепных особняков в Париже.
— Нет, я сказал не "у вас", а "у меня".
— Но кто вы, собственно, такой?
— Я кузен виконта де Бузнуа.
— А я, милостивый государь, его пасынок.
— Как? Стало быть, вы Индиец?
— А вы провинциал?
— Милостивый государь, — резко сказал Роже, — вы выражаетесь неучтиво; я и в самом деле приехал из провинции, но это вовсе не означает, что я провинциал: я друг маркиза де Кретте, виконта д’Эрбиньи, шевалье де Кло-Рено и не далее как вчера трижды ранил шпагой некоего венгра-магната, который не вам чета.
— Что вы хотите этим сказать, сударь?
— Я хочу этим сказать, сударь, — продолжал Роже, — что, коль скоро мы по счастливой случайности встретились, я имею честь сделать вам небольшое предложение.
— Речь идет о полюбовной сделке?
— Вот именно, сударь.
— Что же вы предлагаете? Говорите.
— Видите ли, суд человеческий — вещь всегда сомнительная, а потому я и предлагаю поручить судьбу нашей тяжбы Божьему суду, как поступали в старину рыцари; давайте встретимся вдвоем позади монастыря Дев Святого Причастия.
— Стало быть, дуэль?! — воскликнул Индиец, становясь из оранжево-желтого бледно-желтым.
— Если вы меня убьете, — отвечал Роже, — особняк ваш и никто этого оспаривать не станет. Если же я убью вас, не нужна будет никакая тяжба.
— Благодарю покорно, сударь, ответил Индиец, отступая к своему экипажу. — Я уверен, что выиграю тяжбу, но отнюдь не уверен, что смогу первый нанести вам удар шпагой, а посему, с вашего соизволения, давайте-ка лучше положимся на суд человеческий.
Индиец уселся в карету, захлопнул все дверцы и опустил стекла, после чего лошади помчались во весь опор.
— Черт побери! — вырвалось у Роже. — Да он, видать, оригинал.
И шевалье пошел дальше, чтобы оставить свою визитную карточку в приемной г-на Коллински, который еще не умер, и в приемной графа Горкойна, который для человека в его положении чувствовал себя вполне сносно.
Затем Роже поспешил в особняк де Кретте, чтобы узнать, нет ли каких новостей; он подробно рассказал своему другу о встрече и о разговоре с Индийцем.
Маркиз все еще жестоко страдал от боли в запястье, что не мешало ему уже с утра сделать два или три визита, чтобы ввести в заблуждение досужих людей, прослышавших о том, будто он дрался на поединке и был ранен. Такая предосторожность была отнюдь не лишней, ибо происходившая накануне дуэль наделала много шума; но так как никого из ее участников не удалось задержать на месте, а оба мертвеца хранили самое глубокое молчание, то неприятностей ни для кого не воспоследовало.
Поэтому ничто не мешало маркизу заняться тяжбой шевалье и нанести вместе с ним несколько деловых визитов.
Разбирать тяжбу поручили трем судьям и советнику, составлявшему подробный доклад по делу.
Маркиз и шевалье решили прежде всего посетить судей.
То были превеликие оригиналы, и у каждого из них имелся свой любимец: один судья обожал кошку, другой — обезьяну, третий — попугая. Шевалье выказал необычайную любезность ко всем трем судьям, а маркиз — не меньшее внимание к милым их сердцу тварям; однако, как только посетители пытались завести речь о деле, хозяева тут же давали им понять, что предпочитают беседовать о чем-либо другом.
А советник, готовивший доклад по делу, оказался столь суровым пуританином, что и вообще не захотел принять посетителей.
— Черт побери! — воскликнул маркиз. — Мне это кажется весьма дурным предзнаменованием, шевалье.
Между тем в один прекрасный день стало известно, что дело наконец затребовано в суд. Прошло уже два месяца, да, ровно два месяца понадобилось для того, чтобы должным образом составить все нужные бумаги, пополнить опись имущества, изучить претензии и права тяжущихся сторон. Все это время Роже обдумывал, не лучше ли ему пойти на мировую с сыном индианки. Однако маркиз де Кретте воспротивился любым попыткам такого рода, поскольку Индиец всюду громогласно заявлял, что дело его верное и что он представит суду бесспорные доказательства своих прав на наследство; познакомившись с ними, господа д’Ангилемы, и отец и сын, будут вынуждены с позором отказаться от всех своих притязаний.
А пока что разбирательство тяжбы происходило с обычной медлительностью, ведь правосудие не только слепо, но и хромоного. Всякий раз, отправляясь во Дворец правосудия и Сен-Шапель, шевалье испытывал тягостное чувство. И все же каждую неделю можно было увидеть его карету, вернее, карету маркиза де Кретте, вблизи главного здания суда или возле одного из его флигелей. Обычно это происходило на другой день после получения очередного послания от барона, который исправно писал сыну каждые семь дней.
Не будь Роже близким приятелем маркиза де Кретте, в чьем лице он обрел сразу друга, банкира и советчика, ему бы, возможно, пришлось просить пощады у сына индианки, ибо тот вел борьбу, не стесняясь в деньгах.
Надо сказать, что сильнее всего терзала шевалье мысль о злосчастной бумаге, будто бы подтверждавшей бесспорные права Индийца. А барон д’Ангилем в каждом новом письме сына находил новый повод для тревоги и вовсе лишился сна.
"Постарайся во что бы то ни стало дознаться, — постоянно писал он Роже, — что представляет собою эта пресловутая бумага: обычное завещание, субституцию или же дарственную".
Роже изо всех сил старался это узнать, но тщетно.
Он собрал военный совет, состоящий из маркиза де Кретте, д’Эрбиньи, де Кло-Рено и де Шастелю, дабы решить, что же делать дальше. Кто-то указал ему на некоего Вейера, тот брался за всякого рода трудные и щекотливые дела: добывал сведения о тщательно запрятанных бумагах, обследовал прочно запертые несгораемые ящики и даже похищал нужные акты и документы. Легко понять, что речь шла не о том, чтобы выкрасть бумагу у противной стороны, а лишь о том, чтобы снять с нее копию, дабы стряпчим Роже легче было ее оспорить. Однако совет, состоящий из дворян, единодушно отверг такую попытку как бесчестную.
Однажды виконт д’Эрбиньи, казалось, нашел способ все уладить. Проходя вблизи ворот Конферанс, он увидел в экипаже мужчину и по описаниям Роже сразу же узнал в нем Индийца: тот ехал с женщиной, которая некогда была любовницей самого д’Эрбиньи, а ныне, видимо, находилась в близких отношениях с противником шевалье. На правах преданного друга д’Эрбиньи решил, что теперь самое подходящее время покончить с тяжбой, поглощавшей состояние д’Ангилемов и лишавшей покоя все это почтенное семейство.
Вот почему виконт сделал знак кучеру остановиться, весьма дерзко подошел к дверцам кареты и пристально поглядел на даму: то была актриса театра "Комеди Франсез" некая мадемуазель Пуссет. Она тотчас узнала виконта, которого в свое время очень любила, и нежно улыбнулась ему.
— Милостивый государь и вы, сударыня, — начал д’Эрбиньи, — как вы оба смотрите на то, чтобы поужинать втроем? Черт побери! Думается, мы славно провели бы время…
— Я вас не знаю, сударь, — с раздражением отозвался Индиец, и белки его глаз приобрели темно-желтый оттенок, — а я не привык садиться за стол с незнакомыми людьми.
— Но ваша дама хорошо меня знает и может подтвердить, что я человек из общества. Пуссет, дружочек, — продолжал д’Эрбиньи, — прошу вас, окажите любезность и представьте меня своему спутнику…
— Представляю вам виконта д’Эрбиньи, — со смехом сказала Пуссет, которую позабавила дерзость ее прежнего любовника.
— Так-так, превосходно… Д’Эрбиньи… д’Эрбиньи… — пробормотал Индиец, — кажется, я припоминаю это имя… Ведь вы друг юного д’Ангилема и умышленно ищете со мной ссоры, с тем чтобы наследство господина де Бузнуа досталось ему… Поищите, поищите других простаков, любезный виконт! Мой поверенный предупреждал меня о возможностях такого рода.
— Я и в самом деле имею честь принадлежать к числу друзей шевалье д’Ангилема, он, кстати сказать, не чета не только вам, но даже мне. Однако вы нанесли мне смертельную обиду, приписав намерение, о коем только что упомянули. Так что, сударь, я вижу, что вы просто неотесанный дикарь. А посему прошу сказать, когда и где мои секунданты могут встретиться и переговорить с вашими?
— Вот-вот! Решили действовать обходным путем, чтобы добиться своей цели: вы снова предлагаете мне дуэль! Ну нет, дайте мне сперва выиграть тяжбу, а там уж мы поглядим.
Неожиданный конец фразы показался виконту настолько смешным, что он громко расхохотался.
— Черт побери, — обратился он к уроженцу Малабара, — вижу, нрав у вас просто очаровательный, и буду счастлив поужинать вместе с вами ради одного удовольствия познакомиться поближе. Ежели вы так милы еще будучи трезвым, то, должно быть, просто неотразимы, когда малость захмелеете.
— Еще один способ завладеть наследством, — буркнул Индиец, — вы хотите меня отравить. Слуга покорный!
— Ах, да вы просто болван, — воскликнула мадемуазель Пуссет, — и я не желаю больше ни минуты оставаться в вашей карете! Отворите дверцу, виконт, я ужинаю с вами.
Д’Эрбиньи распахнул дверцу кареты, и мадемуазель Пуссет спрыгнула на мостовую; потом оба попрощались с набобом — виконт слегка кивнул ему головой, актриса сделала реверанс — и ушли рука об руку.
И тут мадемуазель Пуссет объявила виконту, что Индиец — самый нелепый из всех мужчин, каких она когда-либо встречала: он говорит только о своем наследстве, в каждом человеке видит лазутчика шевалье д’Ангилема, не далее как в тот самый день он обращался к начальнику уголовной полиции с просьбой дать ему охрану и чуть было не добился этого.
Д’Эрбиньи счел эти сведения весьма серьезными и на следующее утро, расставшись с мадемуазель Пуссет, поспешил к маркизу де Кретте и все ему рассказал. Маркиз заключил из его рассказа, что Индиец уже потратил кучу денег на ведение тяжбы, а кроме того, видимо, нашел себе поддержку в морском министерстве, где хорошо знали виконта де Бузнуа.
В своем очередном письме Роже поставил барона в известность обо всех этих досадных обстоятельствах.
С каждым днем появлялись новые и весьма тревожные признаки; вскоре распространился слух, будто сын индианки предъявил трем судьям бумагу, на которой зиждились его притязания, и все трое якобы заверили его в том, что он выиграет тяжбу. Новость эта как удар грома поразила сторонников д’Ангилема. И в маленьком содружестве дворян начали смотреть на тяжбу как на дело безнадежное: подумывали уже о том, где изыскать деньги для покрытия огромных расходов, связанных с судебным разбирательством, и сумм, что будут присуждены в пользу пасынка виконта де Бузнуа, ибо гражданский иск первым предъявил барон д’Ангилем. Расходы эти могли достигнуть шестнадцати тысяч ливров; сверх того, метр Кокнар требовал в уплату за свои труды четыре тысячи ливров; пребывание шевалье в столице с учетом денег, которыми его ссужали друзья, обошлось приблизительно в пять тысяч ливров; таким образом, после проигрыша тяжбы от скромного состояния барона ничего бы не осталось и близился день, когда горестная правда должна была предстать перед ним безо всяких покровов.
В этих обстоятельствах маркиз де Кретте вел себя по отношению к шевалье безупречно: он предложил ему десять тысяч экю, сказав, что Роже возвратит их, когда ему заблагорассудится; однако шевалье ответил, что ни он, ни его отец не возьмут в долг такую сумму, ибо им заранее известно, что они не смогут ее вернуть; Роже заявил, что перенесет удар, рассчитывая лишь на собственные возможности, и в случае неудачи вступит в один из полков, направляющихся во Фландрию.
Д’Эрбиньи со своей стороны делал все что мог. Пользуясь своим влиянием на мадемуазель Пуссет, он уговорил ее вернуться к Индийцу, с тем чтобы она попыталась удостовериться, существует ли на самом деле пресловутая бумага, а если ее не существует, то постаралась бы выведать, на что же рассчитывает противник Роже.
Тем временем сам шевалье отправился к своим стряпчим — метру Браншю и метру Вернике; он попросил их ни перед чем не останавливаться и ничем не пренебрегать в своих хлопотах по тяжбе. Однако, несмотря на присущее всем судейским самомнение, они в ответ только горестно покачивали головами и сетовали на то, что их, мол, вовлекли в столь гиблое дело. Роже стал допытываться, что именно они имеют в виду, и стряпчие признались, что трое судей, с которыми они беседовали по поводу тяжбы, не оставили им почти никакой надежды. Они посоветовали шевалье еще раз посетить судей и как можно ласковее обойтись с кошкой, обезьяной и попутаем, ибо те — единственная отрада этих служителей правосудия. Но этот совет стряпчих походил на совет врачей, которые посылают больного на воды только для того, чтобы их не упрекнули в небрежении, так сказать, для очистки совести. Когда бы они только знали, прибавили в заключение стряпчие, что противная сторона располагает столь бесспорной бумагой, как та, какую она, по слухам, собирается представить суду, они ни за что на свете не взялись бы за столь безнадежное дело. Шевалье не решался, да и не мог посулить им золотые горы, а потому только понурил голову, услышав их удручающие речи; памятуя, что он всего лишь доверенное лицо своего отца, Роже в точности пересказал в письме все жалобы стряпчих, жалобы, надо признаться, малоприятные.
Однако с особой силой отчаяние Роже сказалось в его письме к баронессе. Он оплакивал в нем не только проигрыш тяжбы и как следствие этого потерю состояния, но также и самую страшную из всех возможных утрат — утрату Констанс; надо заметить в похвалу нашему герою, что нежный образ Констанс постоянно был с ним — и на званых обедах, и в ходе поединка, и в часы прогулок верхом, и во время деловых визитов.
Шевалье рассказал маркизу де Кретте о том, что стряпчие посоветовали еще раз переговорить с судьями. Роже набил карманы пирожками для кошки, миндалем для обезьяны и печеньем для попугая, однако все эти знаки внимания не тронули избалованных тварей: кошка поцарапала его, обезьяна — укусила, а попугай обозвал прощелыгой.
— Вы разорены, — сказал маркиз, когда они выходили из дома третьего судьи, — вы не только проиграете тяжбу, но еще и заплатите все судебные издержки.
В тот же вечер мадемуазель Пуссет объяснила Роже и его друзьям поведение служителей Фемиды. Сами судьи были людьми в высшей степени честными и потому ничего не принимали от просителей. Однако Индиец подарил кошке перстень, стоивший две тысячи пистолей, составил дарственную в размере десяти тысяч экю на имя обезьяны и учредил пожизненную ренту в три тысячи ливров для попугая.
Что касается судебного советника, составлявшего доклад по делу, то и по отношению к нему были испробованы все способы обольщения; однако двери его дома остались заперты как для Индийца, так и для шевалье, к тому же у этого почтенного человека не нашлось любимого животного — ни дикого, ни домашнего, — и некому было даже преподнести перстень, не для кого было составить дарственную запись или учредить пожизненную ренту.
Роже и маркиз сделали последнюю попытку проникнуть в его дом, но и она не увенчалась успехом.
Да, судебный советник Буто оказался поистине человеком неподкупным!
Читатель легко поймет, что, несмотря на веселый нрав шевалье, все эти следовавшие одно за другим разочарования в конце концов повергли его в самую черную меланхолию. И в самом деле, что ожидало его впереди? Полное разорение семьи, утрата Констанс, которую он только недавно вновь обрел лишь для того, чтобы потерять вторично, и на сей раз самым жестоким образом, необходимость вступить простым волонтером в королевские войска, расквартированные в Пикардии или в Ниверне. Все это вполне могло привести человека в отчаяние. А потому Роже и отчаивался, он не желал слушать никаких утешительных слов, наотрез отказывался от развлечений, которые придумывали его друзья, чтобы хоть немного рассеять его, и все время проводил у себя в комнате в гостинице "Золотая решетка": тут он писал письма матери или слагал элегии для Констанс; прибавим, что в довершение всех бед в нем вместе с меланхолией родилась неодолимая склонность к сочинению стихов.
Назад: XI КАК ШЕВАЛЬЕ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ ПРИМЕНИЛ УРОКИ ФЕХТОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ЕМУ ПРЕПОДАЛ ЕГО ОТЕЦ, БАРОН Д’АНГИЛЕМ
Дальше: XIII О ТОМ, КАК В ТУ МИНУТУ, КОГДА ШЕВАЛЬЕ СТАЛ ДОБЫЧЕЙ БЕСПРОСВЕТНОГО ОТЧАЯНИЯ, К НЕМУ ЯВИЛСЯ НЕЗНАКОМЕЦ И СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОТОРОГО НЕ ОЖИДАЛ НИ САМ РОЖЕ, НИ ТЕМ БОЛЕЕ ЧИТАТЕЛЬ

