XLI
ГАСКОНЕЦ ПРОТИВ ДВАЖДЫ ГАСКОНЦА
Д’Артаньян не терял времени даром, что было бы не в его правилах. Осведомившись об Арамисе, он искал его, пока не нашел. Арамис с момента прибытия короля удалился к себе, очевидно, затем, чтобы придумать что-нибудь новое для пополнения программы увеселений его величества.
Д’Артаньян велел доложить о себе и застал ваннского епископа в красивой комнате, которую здесь называли синей по цвету ее тканых обоев, в обществе Портоса и неких эпикурейцев.
Арамис обнял друга и предложил ему лучшее место. Так как всем стало ясно, что мушкетеру нужно переговорить с Арамисом наедине, эпикурейцы распрощались и вышли.
Портос не двинулся с места. После сытного обеда он мирно спал в своем кресле, так что это третье лицо не могло помешать их беседе. Он храпел спокойно и равномерно, и под этот басовый аккомпанемент, словно под античную мелопею, можно было разговаривать без особых помех.
Д’Артаньян почувствовал, что начинать разговор придется ему. Схватка, ради которой он явился сюда, обещала быть упорной и затяжной, и он сразу приступил к делу.
— Вот мы и в Во, — сказал он.
— Да, д’Артаньян. Вам нравится здесь?
— Очень, и мне очень нравится господин Фуке, наш хозяин.
— Это очаровательный человек, не так ли?
— В высшей степени.
— Говорят, король поначалу был холоден с ним, но затем немного смягчился.
— Почему "говорят"? Разве вы сами не видели этого?
— Нет, я был занят. Вместе с только что вышедшими отсюда я обсуждал некоторые подробности представления и карусели, которые будут устроены завтра.
— Вот как! А вы тут главный распорядитель увеселений, не так ли?
— Как вы знаете, дорогой мой, я всегда был другом всякого рода выдумок; я всегда был в некотором роде поэтом.
— Я помню ваши стихи. Они были прелестны.
— Что до меня, то я их забыл; но я рад наслаждаться стихами других, тех, кого зовут Мольером, Пелисоном, Лафонтеном и так далее.
— Знаете, какая мысль осенила меня сегодня за ужином?
— Нет. Выскажите ее. Разве я могу догадаться о ней, когда их у вас всегда целая куча.
— Я подумал, что истинный король Франции отнюдь не Людовик Четырнадцатый.
— Гм! — И Арамис невольно посмотрел прямо в глаза мушкетеру.
— Нет, нет. Это не кто иной, как Фуке.
Арамис перевел дух и улыбнулся.
— Вы совсем как все остальные: завидуете! — сказал он. — Бьюсь об заклад, что эту фразу вы слышали от господина Кольбера.
Д’Артаньян, чтобы сделать приятное Арамису, рассказал ему о злоключениях финансиста в связи со злосчастным мелёнским вином.
— Дрянной человечек этот Кольбер! — сказал Арамис.
— По правде сказать, так и есть.
— Как подумаешь, что этот прохвост будет вашим министром через какие-нибудь четыре месяца и вы будете столь же усердно служить ему, как служили Ришелье или Мазарини…
— Как вы служите господину Фуке, — вставил д’Артаньян.
— С тем отличием, дорогой друг, что Фуке — не Кольбер.
— Это верно.
И д’Артаньян сделал вид, что ему стало очень грустно.
— Но почему вы решили, что Кольбер через четыре месяца будет министром?
— Потому что Фуке им больше не будет, — печально ответил Арамис.
— Он будет окончательно разорен? — спросил д’Артаньян.
— Полностью.
— Зачем же в таком случае устраивать празднества? — молвил мушкетер таким естественным и благожелательным тоном, что епископ на мгновение поверил ему. — Почему вы не отговорили его? — добавил д’Артаньян.
Последние слова были лишними; Арамис снова насторожился.
— Дело в том, — сказал он, — что ему желательно угодить королю.
— Разоряясь ради него?
— Да.
— Странный расчет!
— Необходимость.
— Я не понимаю, дорогой Арамис.
— Пусть так! Но вы видите, разумеется, что ненависть, обуревающая господина Кольбера, усиливается со дня на день.
— Вижу. Вижу и то, что Кольбер побуждает короля отделаться от суперинтенданта.
— Это бросается в глаза всякому.
— И что есть заговор против господина Фуке.
— Это также общеизвестно.
— Разве правдоподобно, чтобы король стал действовать против того, кто истратил все свое состояние, лишь бы доставить ему удовольствие?
— Это верно, — медленно проговорил Арамис, отнюдь не убежденный своим собеседником и жаждавший подойти к теме их разговора с другой стороны.
— Есть безумства разного рода, — продолжал д’Артаньян, — но ваши, говоря по правде, я никоим образом не одобряю. Ужин, бал, концерт, представление, карусель, водопады, фейерверки, иллюминация и подарки — все это хорошо, превосходно, согласен с вами. Но разве этих расходов было для вас недостаточно? Нужно ли было…
— Что?
— Нужно ли было одевать во все новое, например, всех ваших людей?
— Да, вы правы. Я указывал на то же самое господину Фуке; он мне ответил, однако, что, будь он богат, он построил бы, чтобы принять короля, совершенно новый дворец, новый от подвалов до флюгеров на крыше, с совершенно новою обстановкой и утварью, и что после отъезда его величества он велел бы все это сжечь, дабы оно… не могло больше служить кому-либо другому.
— Но ведь это чистые бредни, и ничего больше!
— То же было высказано ему и мною, но он заявил: 10—2138
"Кто будет советовать мне быть бережливым, в том я буду видеть врага".
— Но ведь это значит сойти с ума! А этот портрет!
— Какой портрет? — спросил Арамис.
— Портрет короля, этот сюрприз…
— Какой сюрприз?
— Для которого вы взяли у Персерена образцы тканей.
Д’Артаньян остановился. Он выпустил стрелу; оставалось установить, метко ли он целил.
— Это была любезность, — отвечал Арамис.
Д’Артаньян встал, подошел к своему другу, взял его за обе руки и, глядя ему в глаза, произнес:
— Арамис, продолжаете ли вы хоть немного любить меня?
— Конечно, люблю.
— В таком случае сделайте мне одолжение. Скажите пожалуйста, для чего вы брали образцы тканей у Персерена?
— Пойдемте со мной и давайте спросим беднягу Лебрена, трудившегося над этим портретом двое суток, не сомкнув глаз.
— Арамис, это правда для всех, но только не для меня…
— Право, д’Артаньян, вы меня поражаете!
— Будьте честны со мной. Скажите мне правду: ведь вы не хотели бы, чтобы со мной случилось что-нибудь весьма и весьма неприятное, так ведь?
— Дорогой друг, вы становитесь совершенно непостижимы. Что за дьявольское подозрение зародилось в вашем уме?
— Верите ли в мой инстинкт? Прежде вы в него верили. Так вот этот инстинкт нашептывает мне, что у вас есть какие-то тайные замыслы.
— У меня! Замыслы!
— Я не могу, разумеется, утверждать, что я в этом уверен.
— Еще бы!
— Но хоть я в этом и не уверен, все же готов поклясться в том, что я прав.
— Вы мне доставляете живейшее огорчение, д’Артаньян. Если б у меня были некие замыслы, которые я должен был бы скрывать от вас, я, конечно, умолчал бы о них, не так ли? Если бы мои замыслы были, напротив, такого рода, что я должен был бы открыться вам, я бы сделал это и без вашего напоминания.
— Нет, Арамис, нет, бывают замыслы, которые можно раскрыть лишь в подходящий момент.
— Значит, дорогой друг, — подхватил со смехом епископ, — подходящий момент еще не настал.
Д’Артаньян грустно покачал головой.
— Дружба, дружба! — сказал он. — Пустое слово, вот что такое пресловутая дружба! Предо мной человек, который дал бы разорвать себя на куски ради меня.
— Конечно, — с благородною простотой подтвердил Арамис.
— И этот же человек, который отдал бы за меня всю кровь, текущую в его жилах, не желает открыть предо мною крошечного уголка своего сердца. Дружба, повторяю еще раз, ты не больше, чем тень, чем приманка, чем все то, что распространяет вокруг себя ложный мишурный блеск.
— Не говорите так о нашей дружбе, — ответил епископ твердым и уверенным тоном. — Она не из числа тех, о которых вы только что говорили.
— Взгляните-ка, Арамис: вот нас трое из нашей четверки. Вы обманываете меня, я подозреваю вас, ну а Портос… Портос спит. Хорошее трио, не так ли? Славные остатки былого!
— Могу вам сказать лишь одно, д’Артаньян, и в этом готов дать на Евангелии клятву: я люблю вас, как прежде. И если порой я недостаточно откровенен с вами, то это — исключительно ради других, а не из-за себя или вас. Во всем, в чем я буду иметь успех, вы получите вашу долю. Обещайте же мне такую же благожелательность.
— Если я не обманываюсь, друг мой, слова, только что произнесенные вами, исполнены благородства.
— Возможно.
— Вы в заговоре против Кольбера. Если дело идет только об этом, скажите мне прямо: у меня есть инструмент, и я выдерну этот зуб.
Арамис не мог скрыть презрительную усмешку, мелькнувшую на его благородном лице.
— А если б я и был в заговоре против Кольбера, что тут ужасного?
— Это слишком ничтожно для вас, и не для того, чтоб свалить Кольбера, вы домогались образцов тканей у Персерена. О, Арамис, ведь мы не враги, мы — братья! Скажите же, что вы предпринимаете, и, честное слово, если я не смогу вам помочь, клянусь вам, я останусь нейтральным.
— Я ничего не предпринимаю.
— Арамис, какой-то голос подсказывает мне, он просветляет меня… Этот голос никогда меня не обманывал. Вы злоумышляете на короля!
— На короля! — вскричал епископ, делая вид, что он возмущен.
— Ваше лицо не сможет разубедить меня в этом! Да, на короля, повторяю вам.
— И вы мне поможете? — сказал Арамис, иронически усмехаясь,
— Арамис, я сделаю больше, чем если бы я вам помогал, я сделаю больше, чем если б я оставался нейтральным, я вас спасу!
— Вы с ума сошли, д’Артаньян!
— Из нас двоих я в более здравом уме, чем вы.
— И… вы можете заподозрить меня в желании убить короля?
— Кто ж говорит об этом! — сказал мушкетер.
— В таком случае давайте внесем в этот разговор полную ясность. Что же, по-вашему, можно сотворить с королем, нашим законным, подлинным королем, не покусившись на его жизнь?
Д’Артаньян ничего не ответил.
— К тому же у вас тут и гвардейцы и мушкетеры, — добавил епископ.
— Вы правы.
— И вы у господина Фуке, вы у себя.
— Вы правы еще раз.
— И у вас есть Кольбер, который в это мгновение советует королю предпринять против господина Фуке все то, что, быть может, охотно посоветовали б вы сами, если бы я не принадлежал к противной партии.
— Арамис, Арамис. Бога ради, пусть ваши слова будут словами настоящего друга.
— Слова друга — это сама правда. Если я замышляю прикоснуться хоть одним пальцем к нашему королю, сыну Анны Австрийской, истинному королю нашей родины Франции, если у меня нет твердого намерения пребывать простертым у его трона, если завтрашний день здесь, в замке Во, не представляется мне самым славным днем в жизни моего короля, пусть меня поразят гром и молния, я согласен на это!
Арамис произнес эти слова, повернувшись липом к алькову. Д’Артаньян, который стоял прислонившись к тому же алькову, никак не мог заподозрить, что кто-нибудь может скрываться в нем. Чувство, с которым были сказаны эти слова, их обдуманность, торжественность клятвы — все это окончательно успокоило мушкетера. Он взял Арамиса за обе руки и сердечно пожал их.
Арамис вынес упреки, ни разу не побледнев, но теперь, когда мушкетер расточал ему похвалы, лицо его покраснело. Обмануть д’Артаньяна — это была честь для него, внушить д’Артаньяну доверие — неловко и стыдно.
— Вы уходите? — спросил он, заключая его в объятия, чтобы он не видел его покрывшегося краской лица.
— Да, этого требует служба. Я должен получить пароль на ночь.
— Где же вы будете спать?
— По-видимому, в королевской прихожей. А Портос?
— Берите его с собой, он храпит, как медведь.
— Вот как… Значит, он ночует не с вами? — спросил д’Артаньян.
— Никоим образом. У него где-то есть свое помещение, но, право, не знаю где.
— Превосходно! — сказал мушкетер, у которого, лишь только его осведомили о том, что оба приятеля живут врозь, исчезли последние подозрения.
Он резко коснулся плеча Портоса. Тот зарычал.
— Пойдемте! — позвал его д’Артаньян.
— А! Д’Артаньян, так это вы, дорогой друг! Какими судьбами? Да, да, ведь я на празднестве в Во!
— Ив вашем прекрасном костюме.
— Этот господин Коклен де Вольер… очень, очень мило с его стороны, не так ли?
— Шш! Вы до того топаете, что продавите, пожалуй, паркет, — остановил друга Арамис.
— Это правда, — подтвердил д’Артаньян. — Ведь эта комната прямо над куполом.
— Я занял ее отнюдь не в качестве фехтовальной залы, — добавил епископ. — На плафоне королевских покоев изображены прелести сна. Помните, что мой паркет как раз над этим плафоном. Покойной ночи, друзья, через десять минут и я уже буду в постели.
И Арамис выпроводил их, ласково улыбаясь. Но едва они вышли, как он, быстро заперев двери на все замки и задернув шторами окна, позвал:
— Монсеньер, монсеньер!
И тотчас же из алькова, открыв раздвижную дверь, находившуюся возле кровати, вышел Филипп; он сказал:
— Какие, однако же, подозрения у шевалье д’Артаньяна!
— Вы узнали д’Артаньяна?
— Раньше, чем вы обратились к нему по имени.
— Это ваш капитан мушкетеров.
— Он мне глубоко предан, — ответил Филипп, делая на слове мне ударение.
— Он верен, как пес, но иногда кусается. Если д’Артаньян не узнает вас, пока не исчезнет другой, можете рассчитывать на д’Артаньяна навеки; если он ничего не увидит собственными глазами, он останется верен; если же увидит чрезмерно поздно, то никогда не признается, что ошибся, ведь он истый гасконец.
— Я так и думал. Чему же мы сейчас отдадим наш досуг?
— Вы займете свой наблюдательный пункт и будете смотреть, как король укладывается в постель, как вы укладываетесь в постель при малом церемониале, предусмотренном этикетом.
— Отлично. Куда же мне сесть?
— Садитесь на складной стул. Я сдвину шашку паркета. Вы будете смотреть сквозь отверстие, которое находится над одним из фальшивых окон, устроенных в куполе королевской спальни. Вы видите?
— Да, вижу Людовика.
И Филипп вздрогнул, как вздрагивают при виде врага.
— Что же он делает?
— Он предлагает сесть возле него какому-то человеку.
— Господину Фуке?
— Нет, нет, погодите…
— Но вспомните заметки, мой принц, портреты!
— Человек, которого король хочет усадить возле себя, это Кольбер.
— Кольбер в спальне у короля! — вскричал Арамис. — Немыслимо!
— Смотрите.
Арамис взглянул через проделанное в полу отверстие.
— Да, — сказал он, — вы правы! Это Кольбер. О монсеньер, что же мы услышим сейчас, и что выйдет из этого свиданья между ними?
— Ничего хорошего, без сомнения, для господина Фуке.
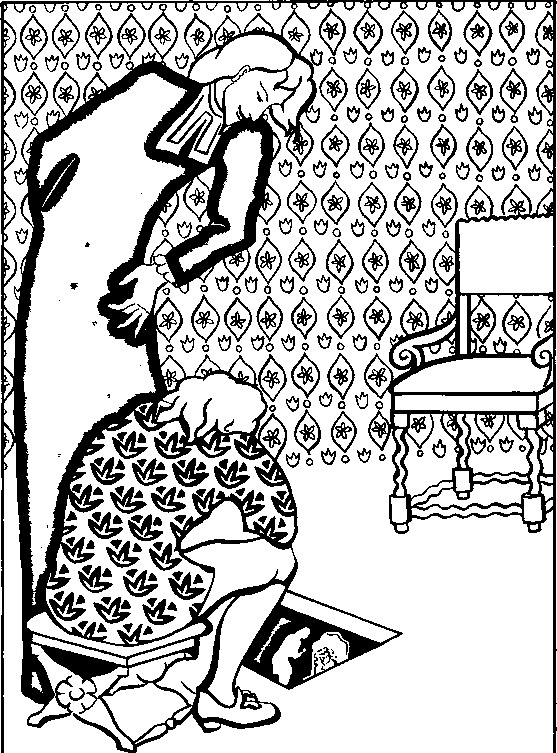
Принц не ошибся. Мы уже видели, что Людовик XIV вызвал Кольбера, и тот явился к нему. Разговор между ними начался одною из величайших милостей, оказанных когда бы то ни было королем. Правда, король был наедине со своим подданным.
— Садитесь, Кольбер.
Интендант, который еще недавно боялся отставки, безмерно обрадовался такой невиданной чести, но отказался.
"Он принимает королевское приглашение? — спросил Арамис".
"Нет, он не сел".
"Давайте послушаем, принц…"
И будущий король вместе с будущим папой стали жадно прислушиваться к беседе двух простых смертных, находившихся у них под ногами.
— Кольбер, — начал король, — сегодня вы без конца перечили мне.
— Ваше величество… я это знаю.
— Отлично! Мне нравится ваш ответ. Да, вы это знали. Надо обладать мужеством, чтобы упорствовать в этом.
— Я рисковал вызвать ваше неудовольствие, ваше величество: но, действуй я по-иному, я рисковал бы оставить вас в полном неведении относительно ваших истинных интересов.
— Как! Что-нибудь давало вам повод тревожиться за меня?
— Хотя бы возможное расстройство желудка, ваше величество; ибо задавать своему королю такие пиры можно лишь для того, чтобы задушить его тяжестью изысканных блюд.
И, грубо сострив, Кольбер не без удовольствия стал дожидаться, какой эффект произведет его остроумие.
Людовик XIV, самый тщеславный и вместе с тем самый тонкий человек в своем королевстве, простил Кольберу эту неуклюжую шутку.
— Это правда, Фуке меня угостил на славу. Скажите, Кольбер, откуда он берет деньги на все эти непомерные траты? Вы об этом осведомлены?
— Да, ваше величество, я осведомлен!
— Посвятите и меня в то, что вы знаете.
Это совсем не трудно. Я знаю его дела с точностью, можно сказать, до денье.
— Мне известно, что вы отлично считаете.
— Это самое первое качество, которое надлежит требовать от интенданта финансов.
— Но оно свойственно далеко не всем.
— Примите мою благодарность, ваше величество, за похвалу, сошедшую с ваших уст.
— Да, Фуке богат, и об этом, сударь, известно решительно всем.
— Как живым, так и мертвым.
— Что вы хотите сказать, господин Кольбер?
— Живые видят богатства господина Фуке, они видят, так сказать, следствие и рукоплещут; но мертвые, осведомленные лучше, чем мы, знают причины и обвиняют.
— Вот как, значит, господин Фуке обязан своим состоянием некоторым обстоятельствам?
— Должность интенданта финансов нередко благоприятствует тем, кто исполняет ее.
— Говорите со мной откровеннее; не бойтесь, мы с вами одни.
— Я никогда ничего не боюсь; мой оплот — моя совесть и покровительство моего короля, государь.
И Кольбер низко склонился пред королем.
— Итак, если бы мертвые заговорили?..
— Порой и они говорят, ваше величество. Прочтите вот это.
"Ах, монсеньер, — прошептал Арамис на ухо принцу, который, находясь рядом с ним, слушал, опасаясь пропустить хоть единое слово, — раз вы здесь, монсеньер, чтобы учиться вашему королевскому ремеслу, узнайте же чисто королевскую гнусность. Вы присутствуете при такой сцене, которую один Бог или, верней, один дьявол может задумать и выполнить. Слушайте же, эго пригодится вам в будущем".
Принц удвоил внимание и увидел, как Людовик XIV взял из рук Кольбера письмо, которое тот протянул ему.
— Почерк покойного кардинала! — воскликнул король.
— У вашего величества превосходная память, — заметил с поклоном Кольбер.
Король прочел письмо Мазарини, уже известное нашим читателям со времен ссоры г-жи де Шеврез с Арамисом.
— Я не совсем понимаю, — сказал король, которого живо заинтересовало это письмо.
— У вашего величества нет еще навыков, которыми обладают чиновники интендантства финансов.
— Я вижу, что речь идет о деньгах, данных господину Фуке.
— Совершенно верно. О тринадцати миллионах. Пожалуй, недурная сумма!
— Так. Значит, этих тринадцати миллионов не хватит в счетах? Вот этого я и не в силах понять, повторяю еще раз. Как и почему возможна подобная недостача?
— Я не говорю, что она возможна; я говорю, что она налицо.
— Вы говорите, что в счетах не хватает тринадцати миллионов?
— Это не я говорю, а отчет.
— И письмо кардинала указывает назначение этой суммы и имя ее хранителя?
— Как видите, ваше величество.
— Выходит, что Фуке все еще не вернул этих тринадцати миллионов и значит…
— Значит, ваше величество… раз господин Фуке не возвратил этих денег, следовательно, он их присвоил. А тринадцать миллионов больше чем вчетверо превышают те расходы, и те щедроты, которые ваше величество могло позволить себе в Фонтенбло, где мы израсходовали всего три миллиона, если вы помните.
Оживить в душе короля воспоминание о том празднике, во время которого из-за одного-единственного слова Фуке он впервые почувствовал, что суперинтендант в некоторых отношениях превосходит его, — было очень ловко подстроенной подлостью со стороны неловкого человека. Настроив подобным образом короля, Кольбер, в сущности, мог остановиться на этом. Он это почувствовал. Король стал мрачнее тучи. И, ожидая, что скажет король, Кольбер не меньше горел нетерпением, чем Филипп и Арамис на своем наблюдательном пункте.
— Знаете ли, что из всего этого следует, господин Кольбер? — сказал король, подумав немного.
— Нет, ваше величество, не знаю.
— То, что если бы факт присвоения тринадцати миллионов был с достоверностью установлен…
— Но он установлен.
— Я хочу сказать — предан гласности.
— Полагаю, что это можно было бы сделать хоть завтра, если бы король…
— Не был в гостях у господина Фуке, — с достоинством ответил Людовик.
— Король везде у себя, ваше величество, и особенно в тех домах, которые содержатся на его деньги.
"Мне кажется, — тихо сказал Филипп Арамису, — что архитектор, строивший этот купол, знай он, как мы с вами его используем, должен был бы сделать его подвижным, чтобы он мог обрушиваться на голову таких редкостных негодяев, как этот Кольбер".
"И я тоже об этом подумал, — сказал Арамис, — но Кольбер в этот момент так близко от короля!"
"Это правда, возник бы вопрос о престолонаследнике…"
"И это использовал бы в своих интересах ваш младший брат. Но давайте лучше молчать и слушать".
"Нам осталось недолго слушать, — заметил молодой принц".
"Почему, монсеньер?"
"Потому что, если б я был королем, я бы ничего не добавил к тому, что уже сказано".
"А что бы вы сделали?"
"Я отложил бы решение до утра".
Людовик XIV наконец поднял глаза и, увидев выжидающего Кольбера, резко изменил направление разговора.
— Господин Кольбер, — произнес он, — уже поздно, я лягу.
— Так, — сказал Кольбер, — значит…
— Прощайте. Утром я сообщу вам мое решение.
— Отлично, ваше величество, — согласился Кольбер, который почувствовал себя оскорбленным, но постарался в присутствии короля не выдать своих истинных чувств.
Король махнул рукой, и интендант, пятясь, направился к выходу.
— Моих слуг! — крикнул король.
Слуги вошли в спальню.
Филипп хотел покинуть свой наблюдательный пост.
— Еще минуту, — сказал ему Арамис со своей обычной ласковостью, — все только что происшедшее — мелочь, и уже завтра мы не станем думать об этом; но раздевание короля, малый церемониал перед отходом ко сну, вот что, монсеньер, чрезвычайно, исключительно важно. Учитесь, учитесь, каким образом вас укладывают в постель, ваше величество. Смотрите же, смотрите!
XLII
КОЛЬБЕР
История расскажет или, вернее, история рассказала нам о событиях, происшедших на следующий день, о великолепных развлечениях, устроенных суперинтендантом для короля. Два великих писателя оставили нам свидетельство небывалого состязания зрелищ, когда нельзя было решить, чем любоваться больше — каскадом или снопом из водяных струй, фонтаном в виде короны или фигурами животных.
Итак, на следующий день были веселье и всевозможные игры, была прогулка, был роскошный обед, представление, в котором, к своему великому изумлению, Портос узнал господина Коклена де Вольер, игравшего в фарсе "Несносные". Так, по крайней мере, называл эту комедию г-н де Брасье де Пьерфон.
Лафонтен, несомненно, думал иначе; он писал своему другу г-ну Мокруа:
Вот вам творение Мольера.
Его изящная манера Чарует двор. И имя это Летит стремительно по свету:
Уже за Римом быстрый бег.
Я восхищен: он — человек!
Как видим, Лафонтен воспользовался советом Пелисона и позаботился о рифме.
Впрочем, Портос был согласен с мнением Лафонтена и, подобно ему, говорил: "Черт возьми, этот Мольер именно тот человек, какой мне нужен! Но только благодаря костюмам". Что же касается театра, то, как мы уже сказали, для г-на де Брасье де Пьерфона Мольер был лишь сочинителем фарсов.
В течение всего этого столь богатого неожиданностями, насыщенного и блестящего дня, когда на каждом шагу возникали, казалось, чудеса "Тысячи и одной ночи", король, озабоченный вчерашним разговором с Кольбером, отравленный влитым им в него ядом, был холоден, сдержан и молчалив. Ничто не могло заставить его рассмеяться; чувствовалось, что глубоко засевшее раздражение, идущее издалека и понемногу усиливающееся, как это происходит с ручейком, который становился могучей рекой, вобрав в себя тысячу питающих его водою притоков, пронизывает все его существо. Только к полудню король немного повеселел. Очевидно, он принял решение.
Арамис, следивший за каждым шагом Людовика так же, как и за каждой мыслью его, понял, что событие, которого он ожидал, не замедлит произойти.
Весь этот день король, которому, несомненно, хотелось отделаться от мучившей его мрачной мысли, с такой же настойчивостью искал общества Лавальер, как избегал встреч с Кольбером или Фуке.
Наступил вечер. Король выразил желание отправиться на прогулку лишь после карт. Поэтому между ужином и прогулкой шла игра в карты. Король выиграл тысячу пистолей, положил их в карман и, поднявшись из-за карточного стола, сказал:
— Пойдемте, господа, в парк.
Там он встретился с дамами. Король выиграл тысячу пистолей и положил их в карман, как мы только что сообщили, но Фуке сумел проиграть десять тысяч; таким образом, сто девяносто тысяч ливров достались придворным; их лица и лица офицеров королевской гвардии сияли от радости.
Совсем не то выражало лицо короля. Несмотря на выигрыш, к которому он был весьма чувствителен, черты его лица были как бы подернуты мрачною тучей. На повороте одной из аллей его дожидался Кольбер. Интендант явился сюда, несомненно, по вызову, так как король, целый день избегавший его, знаком подозвал его к себе и углубился с ним в парк.
Но и Лавальер видела нахмуренный лоб и пылающий взгляд короля, и, так как в душе его не было ни одного уголка, куда не могла бы проникнуть ее любовь, она поняла, что этот сдержанный гнев таит в себе угрозу кому-то. И она, как ангел милосердия, стала на пути мести.
Взволнованная, смущенная, грустная после длительной разлуки с возлюбленным, явилась она пред королем с таким печальным видом, что он, будучи в дурном расположении духа, истолковал настроение Лавальер к невыгоде для себя.
Они были одни или, вернее, почти одни, так как Кольбер при виде молодой девушки почтительно отстал на десять шагов. Король подошел к Лавальер, взял ее за руку и спросил:
— Не будет ли нескромностью, мадемуазель, осведомиться у вас, что с вами? Вы вздыхаете, глаза ваши влажны…
— О ваше величество, если я вздыхаю и глаза мои влажны, если, наконец, я печальна, то причина тому лишь ваша печаль, ваше величество.
— Моя печаль! Вы ошибаетесь, мадемуазель. Я испытываю не печаль, а унижение.
— Унижение! Что я слышу! Возможно ли?
— Я говорю, мадемуазель, что там, где я нахожусь, никто другой не может и не должен быть господином. А между тем поглядите, разве не меня, короля Франции, затмевает своим сиянием король этих владений? О, — продолжал он, стискивая зубы и сжимая руку в кулак, — о, когда я подумаю, что этот властелин, этот король — неверный слуга, который вознесся и возгордился, награбив мое добро… Я превращу этому бессовестному министру его празднество в траур, и нимфа Во, как выражаются поэты Фуке, долго будет помнить об этом!
— О ваше величество!
— Уж не собирается ли мадемуазель взять сторону господина Фуке? — сказал Людовик XIV в нетерпении.
— Нет, ваше величество, я только спрошу: достаточно ли хорошо вас осведомили? Ваше величество знаете по опыту цену придворных сплетен и обвинений.
Людовик XIV велел Кольберу приблизиться.
— Говорите же вы, господин Кольбер, ибо я полагаю, что мадемуазель де Лавальер нуждается в ваших словах, чтобы поверить своему королю. Объясните же мадемуазель, что именно сделал Фуке, а вы, мадемуазель, будьте добры выслушать господина Кольбера, прошу вас. Это не займет много времени.
Почему Людовик XIV так настойчиво добивался, чтобы Лавальер выслушала Кольбера? Причина здесь очень простая: сердце его не успокоилось, ум его не был до конца убежден; он догадывался о какой-то мрачной, темной, запутанной и ему непонятной интриге, скрывающейся за этой историей с тринадцатью миллионами, и ему хотелось, чтобы чистая душа Лавальер, возмущенная кражей, одобрила хотя бы единым словом решение, которое было принято им и которое он все еще колебался выполнить.
— Говорите, сударь, — сказала Лавальер подошедшему к ней Кольберу, — говорите, раз король желает, чтобы я слушала вас. Скажите, в чем преступление господина Фуке?
— О, оно не очень серьезно, мадемуазель, — ответила эта мрачная личность, — он позволил себе злоупотребить доверием…
— Говорите же, говорите, Кольбер, а когда вы расскажете обо всем, оставьте нас и предупредите шевалье д’Артаньяна, что мне нужно отдать ему приказание, — перебил Кольбера король.
— Шевалье д’Артаньяна! — воскликнула Лавальер. — К чему предупреждать шевалье д’Артаньяна? Умоляю вас, ваше величество, ответьте, зачем это нужно?
— Зачем? Чтобы арестовать этого возгордившегося титана, который, верный своему девизу, собирается взобраться на мое небо.
— У него в доме?
— А почему бы и нет? Если он виновен, то виновен и находясь у себя в доме, так же как в любом другом месте.
— Господина Фуке, который идет на полное разорение, чтобы оказать честь своему королю?
— Мне и впрямь кажется, мадемуазель, что этот предатель нашел в вас ревностную защитницу?
Кольбер тихо хихикнул. Король обернулся и посмотрел на него.
— Ваше величество, я защищаю не господина Фуке, а вас.
— Меня?.. Так это вы меня защищаете?
— Ваше величество, вы обесчещиваете себя, отдавая подобное приказание.
— Я обесчещиваю себя! — прошептал король, бледнея от гнева. — Воистину, мадемуазель, вы вкладываете в ваши слова непонятную страстность.
— Я вкладываю страстность не в свои слова, а в свое служение вам, ваше величество, — проговорила благородная девушка. — Я с той же страстностью вложила бы в это служение и свою жизнь.
Кольбер что-то пробормотал. Тогда Лавальер, кроткий агнец, гордо выпрямилась пред ним и огненным взглядом заставила его замолчать.
— Сударь, — сказала она, — когда король поступает праведно или когда он не прав предо мной или близкими мне, я молчу; но если король, даже оказывая услугу мне или тем, кого я люблю, поступает дурно, я ему говорю об этом.
— Но мне кажется, мадемуазель, — решился вставить Кольбер, — что я тоже люблю короля.
— Да, сударь, мы оба любим его, но каждый по-своему, — ответила Лавальер таким голосом, что сердце молодого монарха затрепетало. — Только я так сильно люблю его, что все это знают, так чисто, что сам король не сомневается в силе моей любви. Он мой король и мой господин, я смиренная служанка его, но тот, кто наносит удар его чести, наносит тем самым удар моей жизни. Я повторяю, что люди, советующие королю арестовать господина Фуке в его доме, лишают чести его величество короля Франции.
Кольбер опустил голову: он почувствовал, что король больше не на его стороне. Однако, все так же с опущенной головой, он прошептал:
— Сударыня, мне остается сказать одно только слово…
— Не говорите этого слова, сударь, потому что я не стану слушать его. Что вы можете мне сказать? Что господин Фуке совершил преступление? Я это знаю, потому что это сказал король. А раз король сказал: "Я этому верю", — мне не нужно, чтобы и чужие уста сказали: "Я утверждаю". Но будь господин Фуке даже последним среди людей, я говорю это во всеуслышание, он должен быть священен для короля, потому что король — его гость. Если бы его дом был притоном, Во — вертепом фальшивомонетчиков и бандитов, его дом все же свят, его замок неприкосновенен, потому что в нем пребывает его жена и потому что это — убежище, которого не оскорбили бы даже наемные палачи!
Лавальер замолчала. Король, вопреки себе самому, любовался ею. Он был побежден горячностью ее слов, благородством защиты. Кольбер согнулся, раздавленный неравной борьбой. Наконец король вздохнул, покачал головой и, протянув Лавальер руку, сказал с нежностью в голосе:
— Мадемуазель, почему вы нападаете на меня? Знаем ли мы, что сделает этот негодяй завтра же, если я дам ему возможность вздохнуть?
— Боже мой, разве он не всегда будет вашей добычей?
— А если он ускользнет, если он убежит? — воскликнул Кольбер.
— Тогда, сударь, вечной славой короля будет то, что он дал убежать господину Фуке; и чем тяжелее вина господина Фуке, тем блистательнее по сравнению с его низостью, с запятнавшим его позором будет слава его величества короля.
Людовик, поцеловав руку мадемуазель Лавальер, опустился пред ней на колени.
"Я погиб", — подумал Кольбер.
Но через мгновение лицо его осветилось радостью.
"Нет, нет, пока еще нет", — сказал он себе.
И пока король, скрытый густыми ветвями липы, обнимал Лавальер со всей страстью невыразимой любви, Кольбер, пошарив в бумажнике, спокойно вытащил из него сложенную в форме письма бумагу, слегка пожелтевшую, но, должно быть, весьма драгоценную, так как интендант улыбнулся, посмотрев на нее. Затем он перенес злобный взгляд на вырисовывавшуюся в тени чудесную пару — короля и юную девушку, — которую внезапно осветили отблески приближавшихся факелов.
Людовик увидел свет этих факелов, отраженный белым шелком платья мадемуазель Лавальер.
— Прощай, Луиза, — шепнул он, — мы не одни!
— Сударыня, сударыня, сюда идут! — добавил Кольбер, чтобы поторопить ее.
Луиза быстро исчезла среди деревьев, и, когда король поднимался с колен, Кольбер сказал, обращаясь к нему:
— Ах, мадемуазель де Лавальер что-то выронила.
— Что же? — спросил король.
— Бумагу, письмо, что-то белое, посмотрите, ваше величество.
Король быстро нагнулся и поднял письмо, которое тотчас же смял в руке. В этот момент факелы залили светом темную аллею.
XLIII
РЕВНОСТЬ
Этот яркий свет, это старание угодить, это новое чествование, устроенное Фуке королю, окончательно подорвали в Людовике XIV решимость немедленно действовать, и без того поколебленную в нем Лавальер.
Он посмотрел на Фуке даже со своего рода признательностью— ведь это он, Фуке, доставил Лавальер случай проявить столько великодушия и благородства и показать свою власть над его, Людовика, сердцем.
Подошла очередь последних чудес. Едва Фуке довел короля до замка, как огромный сноп пламени, сопровождаемый величественными раскатами, взметнувшись с купола Во, осветил в мельчайших подробностях, словно ослепительная утренняя заря, примыкающие к зданию цветники.
Начался фейерверк. Кольбер, стоя в двадцати шагах от короля, которого окружали и за которым ухаживали устроители празднества, старался напряжением своей злобной воли вернуть короля к мыслям, тревожившим его так недавно и ныне отогнанным великолепием зрелища.
Вдруг, в тот самый момент, когда король собирался уже протянуть руку Фуке, он ощутил в ней бумагу, которую Лавальер, убегая, по всей видимости, обронила у его ног.
При свете огней, разгоравшихся все ярче и ярче и исторгавших восторженные крики жителей окрестных селений, король начал читать письмо, относительно которого он вначале предполагал, что это обращенное к нему любовное послание Лавальер.
Но по мере того как он углублялся в чтение, лицо его покрывалось мертвенной бледностью, и это бледное разгневанное лицо, освещенное тысячами разноцветных огней, было до того страшно, что заставило бы содрогнуться всякого, кто мог бы проникнуть в изнуренное мрачною страстью сердце. Отныне ничто не могло удержать короля от безудержной ревности и от злобы. С мгновения, открывшего ему ужасную правду, для него перестало существовать все, решительно все: он не знал больше ни благочестия, ни душевной мягкости, ни уз, налагаемых отношениями гостеприимства.
Еще немного, и, терзаемый острою болью, зажавшей в тиски его сердце, недостаточно закаленное, чтобы таить страдание про себя, еще немного, он испустил бы отчаянный крик, призывая к оружию свою стражу.
Письмо, подброшенное Кольбером королю, было, как, вероятно, успел уже догадаться читатель, тем самым, что исчезло из Фонтенбло вместе со старым лакеем Тоби после неудачной попытки Фуке покорить сердце мадемуазель Лавальер.
Фуке заметил, что король побледнел, но догадаться о причине, вызвавшей эту бледность, он, конечно, не мог. Что до Кольбера, то он знал, что эта причина — гнев, и радовался приближению бури.
Голос Фуке вывел молодого государя из его мрачной задумчивости.
— Что с вами? — участливо спросил суперинтендант.
— Ничего.
— Боюсь, что вы нездоровы, ваше величество.
— Я действительно нездоров, и я уже говорил вам об этом, но это сущие пустяки.
И король, не дожидаясь окончания фейерверка, направился к замку. Фуке пошел вместе с Людовиком. Остальные последовали за ними.
Последние ракеты грустно догорали без зрителей.
Суперинтендант попытался еще раз осведомиться у короля о его состоянии, но не получил никакого ответа. Он предположил, что Людовик и Лавальер поспорили в парке, что эта размолвка кончилась ссорой и что король, хотя он и был отходчив, с тех пор как его возлюбленная сердится на него, возненавидел весь мир. Этой мысли было достаточно, чтобы Фуке успокоился. И когда король пожелал ему доброй ночи, он ответил, дружелюбно и сочувственно улыбаясь ему.
Но и после этого король не мог остаться наедине сам с собою. Ему пришлось выдержать большую церемонию вечернего раздевания. К тому же на следующий день был назначен отъезд, и гостю полагалось выразить свою благодарность хозяину, быть с ним любезным в возмещение истраченных им двенадцати миллионов.
И все же единственное, что Людовик нашелся сказать Фуке, отпуская его, были следующие слова:
— Господин, Фуке, вы еще услышите обо мне. Будьте любезны прислать ко мне шевалье д’Артаньяна.
Кровь столько времени подавлявшего свой гнев короля забурлила в его жилах с удвоенною силой, и он готов был велеть зарезать Фуке, как его предшественник на французском престоле велел убить маршала д’Анкра. Но он скрыл эту ужасную мысль за одной из тех королевских улыбок, которые предшествуют переворотам в придворном мире, как молния предшествует грому.
Фуке поцеловал руку Людовика. Последний вздрогнул всем телом, но позволил все же губам Фуке прикоснуться к ней.
Через пять минут после этого д’Артаньян, которому сообщили королевский приказ, входил в спальню Людовика.
Арамис и Филипп сидели у себя наверху и слушали так же внимательно, как накануне.
Король не дал своему мушкетеру подойти к его креслу.
Он сам устремился к нему навстречу.
— Примите меры, — сказал он, — чтобы никто сюда не входил.
— Хорошо, ваше величество, — отвечал капитан, который уже давно обратил внимание на истерзанное душевными муками лицо короля.
Он отдал приказание часовому, стоявшему у дверей, и, вернувшись после этого к королю, спросил:
— Что случилось, ваше величество?
— Сколько людей в вашем распоряжении? — бросил король, не отвечая на вопрос д’Артаньяна.
— Для какой цели, ваше величество? '
— Сколько людей у вас? — повторил король, топнув ногой.
— Со мной мушкетеры.
— Еще!
— Двадцать гвардейцев и тринадцать швейцарцев.
— Сколько вам нужно, чтобы…
— Чтобы? — повторил мушкетер, спокойно глядя своими большими глазами на короля.
— Чтобы арестовать господина Фуке?
Д’Артаньян от изумления сделал шаг назад.
— Арестовать господина Фуке! — сказал он, возвышая голос.
— И вы тоже заявите, что это никак невозможно! — с холодным бешенством воскликнул король.
— Я никогда не говорю, что существуют невозможные вещи, — ответил д’Артаньян, задетый за живое.
— В таком случае действуйте!
Д’Артаньян резко повернулся на каблуках и направился к двери.
Расстояние до нее было невелико. Он прошел его в шесть шагов и внезапно остановился.
— Простите, ваше величество, — сказал он.
— Что еще?
— Чтобы произвести этот арест, я хотел бы располагать приказом в письменном виде.
— К чему? И с каких это пор недостаточно королевского слова?
— Потому что королевское слово, рожденное чувством гнева, быть может, изменится, когда изменится породившее его чувство.
— Без уверток, сударь! У вас есть какая-то мысль.
— О, у меня всегда есть мысли, и такие, которых, к несчастью, нет у других, — дерзко отвечал д'Артаньян.
— Что же вы подумали? — воскликнул король.
— А вот что, ваше величество. Вы велите арестовать человека, находясь у него в гостях: это гнев. Когда вы перестанете гневаться, вы раскаетесь. И на этот случай я хочу иметь возможность показать вам вашу собственноручную подпись. Если это ничему уже не поможет, то, по крайней мере, это докажет вам, что король не должен позволять себе гневаться.
— Не позволять себе гневаться! — закричал король в бешенстве. — А разве отец мой и дед никогда не гневались, клянусь телом Господним?
— Король — ваш отец и король — ваш дед гневались только у себя дома.
— Король — всюду хозяин, он везде — у себя.
— Это слова льстеца, и, должно быть, они исходят от господина Кольбера. Но это неправда. В чужом доме король будет у себя, лишь прогнав хозяина этого дома.
Король кусал себе губы от злости.
— Как! — продолжал д’Артаньян. — Человек разорил себя, чтобы доставить вам удовольствие, а вы хотите арестовать его! Государь, если бы меня звали Фуке и если б со мной поступили таким же образом, я проглотил бы начинку десятка ракет и поднес бы ко рту огонь, чтоб меня разорвало в клочья, и меня и все вокруг. Но пусть будет по-вашему, раз вы хотите этого.
— Идите! Но достаточно ли у вас людей?
— Неужели вы думаете, ваше величество, что я возьму с собою хотя б одного капрала? Арестовать господина Фуке — но ведь это такой пустяк, что подобную вещь мог бы сделать даже ребенок. Арестовать господина Фуке— все равно что выпить рюмку абсента. Поморщишься, и все кончено.
— А если он вздумает защищаться?
— Он? Да что вы! Защищаться, когда его возвеличивают и делают мучеником! Если б у него остался один миллион, в чем я весьма и весьма сомневаюсь, он отдал бы его с величайшей охотой, побьюсь об заклад, за то, чтобы кончить именно таким образом. Но я иду, ваше величество.
— Погодите! Нужно арестовать его без свидетелей.
— Это сложнее.
— Почему?
— Потому что проще простого подойти к господину Фуке, окруженному тысячей ошалевших от восторга людей, и сказать ему: "Сударь, арестую вас именем короля". Но гоняться за ним взад и вперед, загнать его куда-нибудь в угол, как шахматную фигуру, чтобы у него не было выхода, похитить его у гостей и арестовать так, чтобы никто не услышал его печальных "увы!", в этом и заключается подлинная, истинная, высшая трудность, и я ручаюсь, что даже самые ловкие люди не сумели бы этого сделать.
— Скажите еще: "Это никак невозможно!" — и это будет скорее и проще. Ах, Боже мой, Боже мой, неужели я окружен только такими людьми, которые мешают мне поступать в соответствии с моими желаниями!
— Я вам ни в чем не мешаю. Разве я заявлял вам об этом?
— Сторожите господина Фуке до завтра, — завтра я сообщу вам решение.
— Будет исполнено, ваше величество.
— И приходите к утреннему моему туалету за приказаниями.
— Приду.
— Теперь оставьте меня одного.
— Вам не нужно даже господина Кольбера? — съязвил перед уходом капитан мушкетеров.
Король вздрогнул. Целиком отдавшись мыслям о мести, он не помнил больше об обвинениях, возводимых на суперинтенданта Кольбером.
— Никого, слышите, никого! Оставьте меня!
Д’Артаньян вышел. Король собственноручно закрыл за ним дверь и принялся бешено бегать по комнате, как раненый бык, утыканный вонзившимися в него шпагами. Наконец он стал облегчать свое сердце, выкрикивая:
— Ах, негодяй! Он не только ворует у меня деньги, но на мое же золото подкупает моих личных секретарей, друзей, генералов, артистов; он отнимает у меня даже возлюбленную! Так вот почему эта предательница так стойко защищала его! Она делала это из признательности к нему… И кто знает, быть может, и из любви!
На мгновение он погрузился в эти скорбные мысли.
"Это сатир! — подумал о с глубочайшей ненавистью, которую питают обычно юноши к пожилым людям, продолжающим помышлять о любви. — Это фавн, гоняющийся за женщинами, это сластолюбец, одаривающий их золотом и бриллиантами и имеющий наготове художников, чтобы они писали портреты с его любовниц в костюме древних богинь".
Король дрожал от отчаяния.
— Он грязнит мне решительно все, — продолжал, задыхаясь, Людовик. — Он губит мне все! Он одолеет меня: этот человек слишком силен для меня! Он мой смертельный враг! Он должен пасть! Я ненавижу его! Да, да, ненавижу, ненавижу его!
Произнося эти слова, он яростно, как помешанный, бил по ручкам своего кресла, то бросаясь в него, то вскакивая на ноги.
— Завтра, завтра!.. О, счастливейший день! — шептал он. — Когда поднимется солнце, оно увидит, что его соперник — лишь я один, а он… он падет до того низко, что, познав, на что способен мой гнев, все должны будут признать наконец, что я более велик, нежели он.
Окончательно утратив всякую власть над собой, король ударом кулака опрокинул столик возле кровати и, почти плача и задыхаясь от ярости, бросился одетый на простыни, чтобы кусать их в бессильной злобе и дать отдохновение своему телу.
Кровать заскрипела под его тяжестью, и в покоях Морфея, если не считать нескольких прерывистых вздохов, вырвавшихся из груди короля, воцарилось гробовое молчание.
XLIV
ОСКОРБЛЕНИЕ ВЕЛИЧЕСТВА
Ярость, овладевшая королем при чтении письма Фуке к Лавальер, растворялась мало-помалу в утомлении, вызванном столь бурными переживаниями.
Юность, полная сил и здоровья, нуждается в немедленном возмещении того, что она потеряла; юность не знает бесконечно тянущейся бессонницы, делающей для несчастных, которые подвержены ей, миф о все снова и снова отрастающей печени Прометея мучительной явью. И если зрелый человек во цвете лет или изнуренный годами старец находят в несчастий вечную пищу для скорби, то юноша, пораженный внезапно свалившимся горем, обессиливает в криках, в неравной борьбе и тем скорее дает повергнуть себя не знающему пощады врагу, с которым он вступил в поединок. Но, будучи повержен им наземь, он больше уже не страдает.
Людовик был укрощен в какие-нибудь четверть часа; он перестал сжимать кулаки и сжигать своим взглядом неодолимые образы своей ненависти, он перестал обвинять яростными словами Фуке и Луизу. От бешенства перешел он к отчаянию и от отчаяния к полной расслабленности.
После того что он у себя на кровати метался и подергивался в конвульсиях, его бессильные руки застыли по обе стороны туловища. Его голова замерла на отделанных кружевами подушках, его истомленное тело время от времени вздрагивало, пронизываемое легкими судорогами, из его груди вырывались теперь уже редкие вздохи.
Бог Морфей, самодержавный владыка этих покоев, названных его именем, приковал к себе распухшие от гнева и слез глаза короля, бог Морфей осыпал его маками, которыми были полны его руки, и Людовик в конце концов спокойно смежил глаза и заснул.
Тогда ему показалось, как это часто бывает в первом, нежном и легком сне, в котором тело как бы повисает над ложем, а душа — над землей, ему показалось, что бог Морфей, написанный на плафоне, смотрит на него совсем человеческими глазами; что-то блистало и шевелилось под куполом; рой мрачных снов в одно мгновение сдвинулся в сторону, и показалось человеческое лицо, с рукой, прижатой к губам, задумчивое и созерцательное. И странное дело — этот человек был до того схож с королем, что Людовику даже почудилось, будто он видит себя самого, отраженного в зеркале. Только лицо, которое видел Людовик, выражало глубокую скорбь и печаль.
Потом ему показалось, будто купол понемногу удаляется от него и аллегорические фигуры и их атрибуты, написанные Лебреном, темнеют, постепенно уменьшаясь в размерах. Мягкое, ровное, покачивающее движение, похожее на движение корабля, скользящего по волнам, сменило недавнюю неподвижность. Король, по-видимому, грезил во сне, и в этом сне золотая корона, увенчивавшая собою полог, удалялась так же, как купол, с которого она свешивалась, так что крылатый гений, обеими руками поддерживавший эту корону, казалось, напрасно звал ускользавшего вниз короля.
Кровать продолжала спускаться все ниже и ниже. Людовик с открытыми глазами отдавался этой жестокой галлюцинации. Освещение королевских покоев стало тускнеть, и наконец что-то мрачное, холодное, необъяснимое окружило со всех сторон короля. Ни фресок, ни золота, ни полога из тяжелого бархата, но тускло-серые стены и все более непроницаемый сумрак. А кровать все опускалась и через минуту, которая показалась королю вечностью, она пребывала уже в каком-то черном и холодном пространстве. Там наконец она замерла на одном месте.
Король видел свет своей комнаты, но теперь он казался ему таким, каким из глубокого колодца бывает виден солнечный свет.
"Меня мучает кошмар! — подумал Людовик. — Пора проснуться! Итак, я просыпаюсь!"
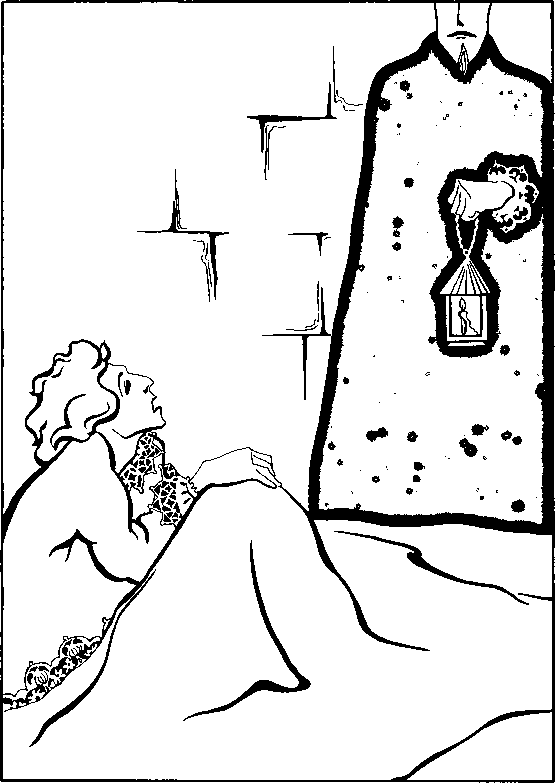
Каждому доводилось испытывать то ощущение, о котором мы говорим; нет никого, кто бы посреди душащего его кошмара не сказал себе, направляемый светом сознания, не угасающего в глубине мозга, когда все другие способности человека погружаются в полную тьму, нет никого, кто бы не сказал себе: "Это все пустяки, это сон".
Это же сказал себе и Людовик XIV, но, сказав себе "я просыпаюсь", он заметил, что не только не спит, но что у него открыты глаза. Он посмотрел по сторонам. Справа и слева увидел он двух вооруженных людей в широких плащах и в масках.
Один из них держал в руке небольшой фонарь, и его луч освещал сцену до того мрачную, что никакой король не мог бы представить себя участником чего-либо подобного.
Людовик решил, что сон его продолжается и достаточно шевельнуть рукой или заговорить, как сон тотчас же оставит его; он вскочил с кровати и обнаружил, что у него под ногами сырая земля. Тогда, обращаясь к тому, у кого был фонарь, он сказал:
— Что это, сударь, и кто выдумал подобную шутку?
— Это не шутка, — ответил глухим голосом человек с фонарем.
— Вы люди господина Фуке? — спросил немного озадаченный этим ответом король.
— Не важно, кому мы служим, — произнес таинственный призрак. — Вы в нашем распоряжении, вот и все.
Король скорее нетерпеливо, чем в страхе, обернулся ко второй маске.
— Если это комедия, — сказал он, — то передайте господину Фуке, что я считаю ее неприличной и требую, чтобы ее немедленно прекратили.
Вторая маска, к которой на этот раз обратился король, был человек огромного роста и могучего телосложения. Он стоял прямо и неподвижно, как глыба мрамора.
— Что же вы? — крикнул король, топнув ногой. — Почему вы молчите? Почему не отвечаете мне?
— Мы и не станем вам отвечать, любезнейший, — произнес великан зычным голосом, — нам нечего вам ответить, кроме разве того, что вы первейший среди несносных и что господин Коклен де Вольер забыл вывести вас в своей пьесе.
— Но чего же в конце концов хотят от меня? — гневно крикнул Людовик, скрещивая на груди руки.
— Вы узнаете это несколько позже, — ответил человек с фонарем.
— Но где же я все-таки нахожусь?
— Посмотрите.
Людовик осмотрелся еще раз, но при свете фонаря он увидел только сырые стены, на которых кое-где можно было заметить серебристый след слизня.
— О, так это тюрьма!
— Нет, подземелье.
— И оно ведет?..
— Извольте за нами следовать.
— Я не сойду с этого места.
— Если вы станете бунтовать, мой юный дружочек, — ответил тот, кто с виду был более сильным, — я возьму и закатаю вас в плащ, и если вы задохнетесь в нем, то, честное слово, тем хуже для вас!
Произнося эти слова, он приподнял плащ, которым угрожал королю, и выставил из-под него такую ручищу, что ее не прочь был бы иметь сам Милон Кротонский, особенно в тот роковой день, когда ему пришла в голову столь неудачная мысль расщепить руками последний дуб в его жизни.
Король испугался насилия. Он понимал, что люди, во власти которых он оказался, зашли так далеко, что теперь уже не отступят и свое дело доведут до конца. Он покачал головой и сказал:
— По-видимому, я попал в руки убийц. Пошли!
Люди в масках ничего не ответили. Тот, что был с фонарем, двинулся первым, за ним шел король, вторая маска следовала за королем. Так миновали они длинную и извилистую галерею с таким количеством лестниц, которое встречается только в таинственных и мрачных дворцах Анны Радклиф. Несколько раз в этих переходах и закоулках король слышал над своей головой шум текущей воды. Наконец они добрались до длинного коридора, кончавшегося железной дверью. Человек с фонарем отомкнул ее одним из ключей, висевших у его пояса, — их бряцание король слышал на протяжении всего пути.
Когда дверь отворилась и ворвался свежий воздух, Людовик почувствовал аромат, которым благоухают деревья после знойного летнего дня. На мгновение он в колебании остановился, но могучий страж, следовавший за ним, вытолкнул его из подземного коридора.
— Спрашиваю еще раз, — сказал Людовик, обернувшись к тому, кто дерзнул коснуться рукой короля, — что же вы собираетесь сделать с королем Франции?
— Постарайтесь забыть это слово, — ответил не допускающим возражений тоном человек с фонарем.
— За слова, только что произнесенные вами, вы подлежите колесованию, — добавил великан, гася фонарь, врученный ему товарищем, — впрочем, его величество чересчур милостив.
Слыша эту угрозу, Людовик сделал столь резкое и неожиданное движение, что можно было подумать, будто он хочет бежать, но на его плечо легла рука великана, пригвоздившая его к месту.
— Куда же мы идем, наконец? — спросил король.
— Пойдемте, — ответил первый из его спутников и даже с некоторою почтительностью повел своего пленника к карете, спрятанной между деревьями.
Две лошади с путами на ногах были привязаны недоуздками к низко свисавшим ветвям огромного дуба.
— Входите, — сказал тот же человек, открывая дверцу кареты и опуская подножку.
Король повиновался и сел в глубине кареты.
В то же мгновение дверца захлопнулась, и он остался в темной карете наедине со своим провожатым. Что до гиганта, то он разрезал недоуздки и путы на ногах лошадей, заложил карету и сел на козлы. Лошади с места взяли крупной рысью, и вскоре карета достигла парижской дороги. В Сенарском лесу их ожидала подстава. И здесь лошади были привязаны к деревьям. Человек, сидевший на козлах, сойдя на землю, торопливо перепряг и быстро поехал дальше. В Париж они прибыли около трех часов пополуночи.
Карета въехала в Сент-Антуанское предместье. Крикнув часовому: "Приказ короля", — кучер миновал ворота Бастилии и остановил взмыленных лошадей у крыльца коменданта. Тотчас же прибежал дежурный сержант.
— Разбудить коменданта, — сказал кучер громовым голосом.
В карете по-прежнему царила мертвая тишина. Через десять минут на пороге своей квартиры в туфлях и халате появился г-н де Безмо.
— Что это, — спросил он, — кого вы еще привезли?
Первый человек в маске открыл дверцу кареты и сказал что-то на ухо кучеру. Тот тотчас же сошел с козел, взял мушкет, который лежал у него в ногах, и приставил дуло его к груди пленника.
— Стреляйте при первой попытке заговорить! — добавил во весь голос первый, выходя из кареты.
— Хорошо, — ответил второй.
После этого тот, кто сопровождал короля, поднялся по ступеням лестницы, где его ожидал комендант.
— Господин д’Эрбле! — вскричал Безмо.
— Шш… — остановил его Арамис. — Войдем к вам.
— О Боже мой, Боже мой! Что вас привело в такой час?
— Ошибка, дорогой господин де Безмо, — спокойно отвечал Арамис. — По-видимому, вы были правы.
— По поводу чего?
— В связи с этим приказом об освобождении вашего узника.
— Объясните мне, сударь, нет, извините, я хотел сказать: монсеньер, — лепетал комендант, задыхаясь от ужаса и изумления.
— Это проще простого: вы, разумеется, помните, что вам прислали приказ об освобождении.
— Да, да! Об освобождении Марчиали.
— Так вот мы решили, что этот приказ имеет в виду Марчиали, не так ли?
— Конечно! Впрочем, вы помните, ведь я сомневался, ведь я не хотел отпускать его, и это вы принудили меня выполнить этот приказ.
— О, какое неподходящее слово употребили вы, дорогой господин Безмо… я предложил, вот и все.
— Предложили, да, да, предложили передать его вам, и вы увезли его в вашей карете.
— Так вот, дорогой мой Безмо, это была ошибка. Ее обнаружили в министерстве, и я привез королевский приказ освободить… Сельдона, знаете, того самого беднягу шотландца.
— Сельдона? Но на этот раз вы и впрямь уверены?..
— Черт возьми! Читайте-ка сами, — добавил Арамис, передавая Безмо приказ.
— Но это тот самый приказ… Я его уже видел, держал в руках…
— Неужели?
— Я же говорил вам в тот вечер об этом… И чернильное пятно… да, я узнаю его.
— Не знаю, тот ли это приказ или другой, но, как бы то ни было, я вам вручаю его.
— А как же другой?
— Какой другой?
— Марчиали?
— Я передам вам сейчас и его.
— Но мне этого недостаточно. Чтобы принять его, мне нужен новый приказ.
— Не говорите таких вещей, дорогой Безмо. Вы рассуждаете как дитя. Где у вас приказ об освобождении Марчиали?
Безмо побежал к своему сундуку и вынул приказ. Арамис взял его из рук коменданта, не торопясь разорвал на четыре части, поднес их к лампе и сжег.
— Но что же вы делаете! — закричал перепуганный насмерть Безмо.
— Поразмыслите над создавшимся положением, дорогой комендант, — сказал с невозмутимым спокойствием Арамис. — У вас больше нет приказа, который оправдывал бы освобождение Марчиали.
— Боже мой! Нет! И все же я погиб, да, да, я погиб!
— Но совсем нет, ведь я отдаю вам Марчиали назад, таким образом получается, как будто он вовсе и не выходил из Бастилии.
— Ах! — воскликнул комендант, который окончательно потерял способность соображать.
— Конечно! И вы сразу же запрете его.
— Еще бы!
— И вы отдадите мне этого… ну как его там… Сельдона, которого освобождает новый приказ. Таким образом, ваша отчетность будет в полном порядке. Понимаете?
— Я… я…
— Вы поняли, — перебил Безмо Арамис. — Вот и отлично.
Безмо умоляюще сложил руки.
— Но ради чего, взяв у меня Марчиали, вы привозите его снова ко мне? — воскликнул несчастный, совершенно растерявшийся комендант.
— Для такого друга, для такого слуги, как вы, нет секретов.
И Арамис наклонился к уху Безмо.
— Вы знаете, — сказал он шепотом, — какое необыкновенное сходство между этим несчастным и…
— Королем, да!
— Так вот первое, на что употребил Марчиали свою свободу: он стал утверждать, что он король Франции.
— Вот негодяй! — воскликнул Безмо.
— Он надел на себя такой же костюм, какой был на его величестве, и стал выдавать себя за короля Людовика Четырнадцатого.
— Боже мой!
— Вот почему я и привез его к вам, дорогой комендант. Он безумен, и своим бредом он спешит поделиться со всеми.
— Что же делать?
— Все обстоит очень просто: не давайте ему общаться с кем бы то ни было. Вы понимаете, что, когда его бред стал известен его величеству, который сжалился над его несчастьем и был вознагражден за свою доброту черной неблагодарностью, король пришел в ярость. И вот теперь — хорошенько запомните это, дорогой господин де Безмо, так как это касается вас самым непосредственным образом, — теперь всякому, кто даст ему общаться с кем бы то ни было, кроме меня или самого короля, не миновать смертной казни. Вы слышите, мой милый Безмо, — смертной казни!
— Слышу, слышу, черт подери!
— А теперь спуститесь и отведите этого бедного малого в его камеру, если только не считаете нужным, чтобы он поднялся к вам.
— Зачем?
— Да, вы правы. Полагаю, что лучше сразу же посадить его под замок, разве не так?
— Еще бы!
— В таком случае, друг мой, пошли…
Безмо велел бить барабан и звонить в колокол, предупреждая по заведенному здесь порядку о том, чтобы все входили в свои помещения, дабы избежать встречи с таинственным узником. Затем, когда проходы были расчищены, он сам подошел к карете за арестантом. Портос, верный приказу, продолжал держать мушкет у груди пленника.
— А, вот вы где, негодяй! — воскликнул Безмо, увидав короля. — Хорошо, хорошо!
И тотчас же, велев королю покинуть карету, он повел его в сопровождении Портоса, не снимавшего маски, и Арамиса, снова ее надевшего, во вторую Бертодьеру и открыл дверь той самой камеры, в которой на протяжении восьми лет томился Филипп.
Король вошел в каземат без единого слова. Он был растерян и бледен.
Безмо закрыл дверь, дважды повернул ключ в замке и, подойдя к Арамису, прошептал ему на ухо:
— Сущая правда, он очень похож на его величество, но все же не так, как вы утверждаете.
— Так что вас уж, во всяком случае, на такой подмене не проведешь?
— Что вы, что вы!
— Вы бесценный человек, дорогой мой Безмо,—
сказал Арамис. — А теперь освобождайте Сельцона.
— Верно, я и забыл… Я сейчас отдам приказание…
— Ба! Вы успеете сделать это и завтра.
— Завтра? Нет, нет, сию же минуту! Избави Боже затягивать это дело.
— Ну, идите по вашим делам, а меня ожидают мои. Но, надеюсь, вы поняли все до конца, не так ли?
— Что я должен понять?
— Что никто не войдет к узнику без приказа его величества— приказа, который привезу вам я сам.
— Да, прощайте, монсеньер. ’
Арамис вернулся к своему товарищу.
— Поехали, друг Портос, в Во! И поскорее!
— До чего же чувствуешь себя легким, когда верно послужишь своему королю и тем самым спасешь свою родину, — засмеялся довольный Портос. — Лошадям нечего будет тащить. Поехали.
И карета, освободившись от пленника, который действительно мог казаться Арамису чрезмерно тяжелым, миновала подъемный мост, который тотчас же поднялся за ней снова, и оказалась вне пределов Бастилии.
XLV
НОЧЬ В БАСТИЛИИ
Страдание в этой жизни соразмерно с силами человека. Мы отнюдь не собираемся утверждать, что Бог неизменно соразмеряет ниспосылаемое им человеку несчастье с силами этого человека; подобное утверждение было бы не вполне точным, поскольку тем же Богом дозволена смерть, являющаяся единственным выходом для души, которой невмоготу пребывать в оболочке тела. Итак, страдание в этой жизни соразмерно с силами человека. Это значит, что при равном несчастий слабый страдает больше, нежели сильный. Но что же придает человеку силу? Закалка, привычка и опыт. Мы не станем утруждать себя доказательством этого; это аксиома как в отношении нашей душевной жизни, так и нашего естества.
Когда молодой король, потеряв всякое представление о действительности, растерянный и разбитый, понял, что его ведут в одну из камер Бастилии, он решил, что смерть во многих отношениях схожа со сном, что и она полна разнообразных видений. Он вообразил, будто его кровать в замке Во провалилась сквозь пол и вслед за тем он умер; он вообразил, что он — это покойный Людовик XIV, продолжающий видеть все те же ужасы, невозможные для него в жизни и называемые низложением с трона, тюрьмой и всевозможными оскорблениями некогда всемогущего государя.
Наблюдать в качестве призрака, сохраняющего ощущение своего тела, свои собственные мучения, томиться, тщетно стараясь постигнуть непостижимую тайну, где действительность, а где лишь ее подобие, видеть все, слышать все, все понимать, отчетливо помнить мельчайшие подробности своих последних минут — разве это не пытка, пытка тем более невыносимая, что она может быть вечною?
— Не есть ли это то самое, что зовется вечностью, адом? — шептал себе Людовик XIV в то мгновение, когда за ним закрывалась дверь, запираемая Безмо.
Он не проявил ни малейшего интереса к окружающей его обстановке и, прислонившись спиной к стене, окончательно проникся мыслью о том, что он умер; он зажмурил глаза, чтобы не увидеть чего-нибудь еще худшего.
"Но все-таки как же произошла моя смерть? — спрашивал он себя, поддаваясь безумию. — Не спустили ли эту кровать при помощи какого-нибудь приспособления? Нет, нет: когда она начала опускаться, я не почувствовал ни сотрясения, ни толчка… А не отравили ли меня во время обеда или, кто знает, не окурили ли отравленною свечой, как мою прабабку Жанну д’Альбре?"
Вдруг холод камеры пронизал плечи Людовика.
"Я видел, — продолжал он, — я видел моего отца мертвым на той самой кровати, на которой он всегда спал; на нем было королевское одеяние. Это бледное лицо с заострившимися чертами, эти застывшие, некогда столь подвижные руки, эти вытянутые, похолодевшие ноги — нет, ничто не говорило о сне, полном видений. А ведь Бог должен был бы наслать на него целые полчища снов, на него, чьей смерти предшествовало столько других, ибо сколь многих он сам послал на смерть!
Нет, этот король по-прежнему был королем, он царил на смертном одре так же, как на своем бархатном троне. Он не отрекся от свойственного ему величия. Бог, ниспославший на него кару, не может наказывать и меня, не сделавшего ничего противного его заповедям".
Странный шум привлек внимание молодого человека. Он посмотрел и увидел на каминной доске под громадной грубой фреской, изображавшей распятие, огромную крысу, грызшую хлебную корку и смотревшую на нового постояльца камеры умным и любознательным взглядом.
Король испугался: крыса вызвала в нем омерзение. С громким криком бросился он к дверям. И благодаря этому вырвавшемуся из его груди крику Людовик понял, что он жив, не потерял разума и чувства его вполне естественны.
— Узник! — воскликнул он. — Я, я — узник!
Он поискал глазами звонок.
"В Бастилии нет звонков! Я в Бастилии! Но как же я сделался узником? Это все, конечно, Фуке. Пригласив в Во, меня заманили в ловушку. Но Фуке не один… Его помощник… этот голос… это был голос д’Эрбле, я узнал его. Кольбер был прав. Но чего же от меня хочет Фуке? Будет ли он царствовать вместо меня? Немыслимо! Кто знает?.. — подумал Людовик. — Кто знает, быть может, герцог Орлеанский, мой брат, сделал со мною то, о чем всю жизнь мечтал, замышляя против моего отца, мой дядя. Но королева! Но моя мать? Но Лавальер? О, Лавальер! Она окажется во власти принцессы Генриетты! Бедное дитя, ее, наверное, заперли, как заперт я сам. Мы с нею навеки разлучены!
И при одной этой мысли несчастный влюбленный разразился криками, вздохами и рыданиями.
— Есть же здесь комендант! — с яростью вскрикнул король. — Я поговорю с ним, я буду звать.
Он стал звать коменданта. Никто не ответил. Он схватил стул и стал яростно колотить им в массивную дубовую дверь. Дерево, ударяясь о дерево, порождало мрачное эхо в глубине переходов и лестниц, но ни одно живое существо так и не отозвалось.
Для короля это было еще одним доказательством того полного пренебрежения, которое он встретил к себе в Бастилии. После первой вспышки неудержимого гнева, чуточку успокоившись, он заметил полоску золотистого света: должно быть, занималась заря. После этого он опять принялся кричать, сначала не очень громко, затем все громче и громче, и на этот раз кругом все было безмолвно.
Двадцать других попыток также не привели ни к чему.
В нем начала бурлить кровь; она бросилась ему в голову. Привыкнув к неограниченной власти, он содрогнулся, столкнувшись с неповиновением подобного рода. Гнев его все возрастал. Он сломал стул, который был для него чрезмерно тяжелым, и, пустив в ход один из его обломков, стал бить им в дверь, как тараном. Он бил с таким усердием и так долго, что лоб его покрылся испариной. Шум, который до этого он поднимал, сменился неумолкающим грохотом. Несколько приглушенных и, как показалось ему, отдаленных криков ответило ему с разных сторон.
Это произвело на короля странное впечатление. Он остановился, чтобы прислушаться. Это были голоса узников, еще так недавно — его жертв, теперь сотоварищей. Эти голоса, словно легчайшие испарения, проникали сквозь толстые сводчатые потолки, сквозь стены. Они громко обвиняли того, кто шумел, как их вздохи и слезы без слов обвиняли, должно быть, того, кто лишил их свободы. Отняв у столь многих свободу, он появился здесь, между ними, чтобы отнять у них сон.
От этой мысли он едва не сошел с ума. Она удвоила его силы, и обломки стула опять были приведены в действие. Через час Людовик почувствовал какое-то движение в коридоре, и сильный стук в его дверь прекратил удары, которыми он сам осыпал ее.
— Вы что, спятили, что ли? — прикрикнул на него кто-то стоявший за дверью. — Что это с вами стряслось этим утром?
"Этим утром?" — подумал изумленный король.
Затем он вежливо обратился к своему незримому собеседнику:
— Сударь, вы комендант Бастилии?
— Милый мой, у вас мозги набекрень, — отвечал голос за дверью, — но все же это не основание производить такой грохот. Перестаньте шуметь, черт возьми!
— Вы комендант?
За дверью все смолкло. Тюремщик ушел, не удостоив короля даже ответом.
Когда король удостоверился в том, что тюремщик и в самом деле ушел, его ярость сделалась безграничною. Гибкий, как тигр, он вскочил на стол, потом на окно и на-11*чал трясти решетку. Он выдавил стекло, и тысячи звенящих осколков упали во двор. Он кричал голосом, становившимся с каждым мгновением все более хриплым: "Коменданта, коменданта!" Этот припадок длился около часа.
С растрепанными, прилипшими ко лбу волосами, с разорванной и выпачканной одеждой и бельем, превратившимся в клочья, король перестал кричать и метаться по камере, лишь окончательно обессилев, и только тогда он постиг, насколько неумолимы эти толстые стены, насколько непроницаем кирпич, из которого они сложены и насколько тщетны попытки вырваться из их плена, когда располагаешь только таким орудием, как отчаяние, тогда как над ними властно лишь время.
Он прижался лбом к двери и дал своему сердцу чуточку успокоиться: еще одно добавочное его биение, и оно бы не выдержало.
"Придет же час, — подумал король, — когда мне, как и остальным заключенным, принесут какую-нибудь еду. Я тогда увижу кого-нибудь, я спрошу, мне ответят".
И король стал вспоминать, в котором часу разносят в Бастилии завтрак. Он не знал даже этого. Как безжалостный и исподтишка нанесенный удар ножа, поразило его раскаяние: ведь двадцать пять лет прожил он королем и счастливцем, нисколько не думая о страданиях, которые испытывает несчастный, несправедливо лишенный свободы. Король покраснел от стыда. Он подумал, что Бог, допустив, чтобы его, короля Франции, подвергли столь ужасному унижению, воздал в его лице государю, причинявшему столько мучений другим.
Ничего не могло бы с большим успехом склонить эту душу, сломленную страданиями, к религии, чем подобные мысли. Но Людовик не осмелился преклонить пред Богом колени, чтобы просить, чтобы умолять его о скорейшем завершении этого испытания.
"Бог творит благо, он прав. Было бы подлостью просить Бога о том, в чем я неоднократно отказывал моим ближним".
Он предавался размышлениям этого рода, он казнил себя за былое свое равнодушие к судьбам несчастных и обездоленных, когда за дверью снова послышался шум, на этот раз сопровождавшийся, впрочем, скрипом ключа, вставляемого в замочную скважину.
Король устремился вперед, чтобы скорее узнать, кто же это пришел к нему, но, вспомнив о том, что это было бы поведением, недостойным короля Франции, он остановился на полпути, принял благородную и невозмутимую, привычную для него позу и стал ждать, повернувшись спиной к окну, чтобы скрыть хоть немного свое волнение от того, кто сейчас войдет к нему в камеру.
Это был всего-навсего сторож, принесший корзину с едой.
Король рассматривал этого человека с внутренней тревогой и беспокойством; он ждал, пока тот нарушит молчание.
— Ах, — сказал сторож, — вы сломали ваш стул, я же вам говорил! Вы что же, рехнулись, что ли?
— Сударь, — ответил ему король, — взвешивайте ваши слова, они могут иметь для вас исключительные последствия.
Сторож, поставив корзину на стол, взглянул на своего собеседника и удивленно проговорил:
— Что вы сказали?
— Извольте передать коменданту, чтобы он немедленно явился ко* мне, — с достоинством произнес король.
— Послушайте, детка, вы всегда были умницей, но от сумасшествия становятся злыми, и я хочу предупредить вас заранее: вы сломали стул и шумели; это проступки, подлежащие наказанию карцером. Обещайте, что этого больше не повторится, и я ни о чем не стану докладывать коменданту.
— Я хочу повидать коменданта, — ответил король, не обращая внимания на слова сторожа.
— Берегитесь! Он велит посадить вас в карцер.
— Я хочу! Слышите? Я хочу видеть коменданта.
— Вот оно что! Ваш взгляд становится диким. Превосходно. Я отберу у вас нож.
И сторож, прихватив с собой нож, закрыл дверь и ушел, оставив короля еще более несчастным и одиноким, чем прежде. Напрасно он снова пустил в ход сломанный стул; напрасно бросил через окно тарелки и миски; и на это не последовало никакого ответа.
Через два часа это был уже не король, не дворянин, не человек, не разумное существо; это был сумасшедший, ломающий себе ногти, царапая дверь, пытающийся поднять огромные каменные плиты, которыми был вымощен пол, и испускающий такие ужасные вопли, что старая Бастилия, казалось, дрожала до основания оттого, что посмела посягнуть на своего властелина.
Что касается коменданта, то он не проявил ни малейшего беспокойства в связи с сумасшествием узника. Сторож и часовые доложили ему об этом: но что из этого? Разве сумасшедшие не были обычным явлением в крепости и разве стены не способны удержать сумасшедших?
Господин де Безмо, свято уверовав во все то, что ему сказал Арамис, и имея на руках королевский приказ, жаждал лишь одного: пусть сошедший с ума Марчиали будет достаточно сумасшедшим, чтобы повеситься на брусьях своего полога или на одном из прутьев тюремной решетки.
И действительно, этот узник не приносил никакого дохода и ко всему еще становился чрезмерно обременительным. Все осложнения с Сельдоном и Марчиали, осложнения с освобождением и заключением вновь, осложнения, связанные со сходством, — все это нашло бы в подобной развязке чрезвычайно простое и удобное для всех разрешение; больше того, Безмо показалось к тому же, что это не было бы неприятно и г-ну д’Эрбле.
— И по правде сказать, — говорил Безмо майору, своему помощнику, — обыкновенно узник достаточно страдает от своего заключения, он страдает более чем достаточно, чтобы пожелать ему из милосердия смерти. И это тем более так, если узник сошел с ума, если он кусается и шумит; в этом случае, честное слово, можно было бы не только желать ему из милосердия смерти, но было бы добрым делом потихоньку прикончить его.
После приведенных рассуждений славный комендант принялся за свой второй завтрак.
XLVI
ТЕНЬ ГОСПОДИНА ФУКЕ
Под впечатлением разговора, происшедшего у него только что с королем, д’Артаньян не раз обращался к себе с вопросом, не сошел ли он сам с ума, имела ли место эта сцена действительно в Во, впрямь ли он — д’Артаньян, капитан мушкетеров, и владелец ли г-н Фуке того замка, в котором Людовику XIV было оказано гостеприимство. Эти рассуждения не были умозаключениями пьяного человека. Правда, на роскошном банкете в Во вина суперинтенданта занимали весьма почетное место. Но гасконец был человеком, никогда не терявшим чувства меры; прикасаясь к клинку своей шпаги, он умел заряжать свою душу холодом ее стали, когда этого требовали важные обстоятельства.
"Теперь, — говорил он себе, покидая королевские апартаменты, — мне предстоит сыграть историческую роль в судьбах короля и его министра; в анналах истории будет записано, что господин д’Артаньян, дворянин из Гаскони, арестовал господина Никола Фуке, суперинтенданта финансов Франции. Мои потомки, если я когда-нибудь буду иметь таковых, станут благодаря этому аресту людьми знаменитыми, как знамениты господа де Люин благодаря опале и гибели этого бедняги маршала д’Анкра. Надо выполнить королевскую волю, соблюдая благопристойность. Всякий сумеет сказать: "Господин Фуке, пожалуйте вашу шпагу", — но не все сумеют охранять его таким образом, чтобы никто и не пикнул по этому поводу. Как же все-таки сделать, чтобы суперинтендант по возможности неприметно освоился с тем, что из величайшей милости он впал в крайнюю степень немилости, что Во превращается для него в тюрьму, что, испытав фимиам Ассура, он попадет на виселицу Амана, или, точнее сказать, д’Ангерана де Мариньи".
Тут чело д’Артаньяна омрачилось из сострадания к несчастьям Фуке. У мушкетера было довольно забот. Отдать таким способом на смерть (ибо, конечно, Людовик XIV ненавидел Фуке), отдать, повторяем, на смерть того, кого молва считала порядочным человеком, — это и в самом деле было тяжким испытанием совести.
"Мне кажется, — сам себе говорил д’Артаньян, — что, если я не последний подлец, я должен поставить Фуке в известность о намерениях короля. Но если я выдам тайну моего государя, я совершу вероломство и стану предателем, а это — преступление, предусмотренное сводом военных законов, и мне пришлось увидеть во время войны десятка два таких горемык, которых повесили на суку за то, что они проделали в малом то самое, на что толкает меня моя щепетильность, с той, впрочем, разницей, что я проделаю это в большом. Нет уж, увольте. Полагаю, что человек, не лишенный ума, должен выпутаться из этого положения с достаточной ловкостью. Можно ли допустить, что я представляю собой человека, не лишенного кое-какого ума? Сомнительно, если принять во внимание, что за сорок лет службы я ничего не сберег, и если у меня где-нибудь завалялся хоть единый пистоль, то и это уж будет счастьем".
Д’Артаньян схватился руками за голову, дернул себя за ус и добавил:
"По какой причине Фуке впал в немилость? По трем причинам: первая состоит в том, что его не любит Кольбер; вторая — потому что он пытался покорить сердце мадемуазель Лавальер; третья — так как король любит и Кольбера, и мадемуазель Лавальер. Фуке — человек погибший. Но неужели же я, мужчина, наступлю ему на голову, когда он пал, опутанный интригами женщин и приказчиков? Какая мерзость! Если он опасен, я сражу его как врага. Если его преследуют без достаточных оснований, тогда мы еще поглядим. Я пришел к заключению, что ни король, ни кто-либо другой не должны влиять на мое личное мнение. Если б Атос оказался в моем положении, он сделал бы то же самое. Итак, вместо того чтобы грубо войти к Фуке, взять его под арест и упрятать куда-нибудь в укромное место, я постараюсь действовать так, как подобает порядочным людям. Об этом пойдут разговоры, согласен; но обо мне будут говорить только хорошее".
И, вскинув перевязь на плечо особым, свойственным ему жестом, д’Артаньян отправился прямо к Фуке, который, простившись с дамами, собирался спокойно выспаться после своих шумных дневных триумфов.
Фуке только что вошел в свою спальню с улыбкой на устах и полумертвый от утомления.
Когда д’Артаньян переступил порог его комнаты, кроме Фуке и его камердинера, в ней никого больше не было.
— Как, это вы, господин д’Артаньян? — удивился Фуке, успевший уже сбросить с себя парадное платье.
— К вашим услугам, — отвечал мушкетер..
— Войдите, дорогой д’Артаньян.
— Благодарю вас.
— Вы хотите покритиковать наше празднество? О, я знаю, у вас очень острый и язвительный ум.
— О нет.
— Что-нибудь мешает вашей охране?
— Совсем нет.
— Быть может, вам отвели неудачное помещение?
— О нет, оно выше всяких похвал.
— Тогда позвольте поблагодарить вас за вашу любезность и заявить, что я ваш должник за все то в высшей степени лестное, что вы изволили высказать мне.
Эти слова, очевидно, значили: "Дорогой господин д’Артаньян, идите-ка спать, раз у вас есть где лечь и позвольте мне сделать то же".
Д’Артаньян, казалось, не понял.
— Вы, как видно, уже ложитесь? — спросил он Фуке.
— Да. Вы ко мне с каким-нибудь сообщением?
— О нет, мне нечего сообщить. Вы будете спать в этой комнате?
— Как видите.
— Сударь, вы устроили великолепное празднество королю.
— Вы находите?
— О, изумительное.
— И король им доволен?
— В восторге!
— Быть может, он поручил рассказать мне об этом?
— Нет, для этого он нашел бы более достойного вестника, монсеньер.
— Вы скромничаете, господин д’Артаньян.
— Это ваша постель?
— Да, но почему вы задаете этот вопрос? Быть может, вы недовольны вашей постелью?
— Можно ли говорить откровенно?
— Конечно.
— В таком случае вы правы, я недоволен ею.
Фуке вздрогнул.
— Господин д’Артаньян, возьмите, сделайте одолжение, мою комнату!
— Лишить вас вашей собственной комнаты! О нет, никогда!
— Что же делать?
— Разрешите мне разделить ее с вами.
Фуке пристально посмотрел в глаза мушкетеру.
— A-а, вы только от короля?
— Да, монсеньер.
— И король изъявил желание, чтобы вы спали у меня в комнате?
— Монсеньер…
— Отлично, господин д’Артаньян, отлично, вы здесь хозяин.
— Уверяю вас, монсеньер, что я не хотел бы злоупотреблять…
Обращаясь к камердинеру, Фуке произнес:
— Вы свободны!
Камердинер ушел.
— Вам нужно переговорить со мною, сударь? — спросил Фуке.
— Мне?
— Человек вашего ума не приходит в ночную пору к такому человеку, как я, не имея к этому достаточных оснований.
— Не расспрашивайте меня.
— Напротив, буду расспрашивать. Скажите наконец, что вам нужно?
— Ничего. Лишь ваше общество.
— Пойдемте тогда в сад или в парк, — неожиданно предложил Фуке.
— О нет, — с живостью возразил мушкетер, — нет, нет.
— Почему?
— Знаете, там слишком прохладно…
— Вот оно что! Сознайтесь, что вы арестовали меня!
— Никогда!
— Значит, вы приставлены сторожить меня?
— В качестве почетного стража, монсеньер.
— Почетного?.. Это другое дело. Итак, меня арестовывают в моем собственном доме?
— Не говорите этого, монсеньер.
— Напротив, я буду кричать об этом.
— Если вы будете об этом кричать, я буду вынужден предложить вам умолкнуть.
— Так! Значит, насилие в моем собственном доме? Превосходно!
— Мы друг друга не понимаем. Вот тут шахматы: давайте сыграем партию, монсеньер.
— Господин д’Артаньян, выходит, что я в немилости?
— Совсем нет. Но…
— Но мне запрещено отлучаться?
— Я не понимаю ни слова из тог^, что вы мне говорите. Если вы желаете, чтобы я удалился, скажите мне прямо об этом.
— Дорогой господин д’Артаньян, ваше поведение сводит меня с ума. Я хочу спать, я падаю от усталости. Вы разбудили меня.
— Я никогда бы не простил себе этого, и если вы хотите примирить меня с моей собственной совестью…
— Что же тогда?..
— Тогда спите себе на здоровье в моем присутствии. Я буду страшно доволен.
— Это надзор?
— Знаете что, я, пожалуй, уйду.
— Не понимаю вас.
— Покойной ночи, монсеньер.
И д’Артаньян сделал вид, будто собирается уходить.
Тогда Фуке подбежал к нему.
— Я не лягу, — сказал он. — Я говорю совершенно серьезно. И поскольку вы не желаете обращаться со мною как с настоящим мужчиной, и виляете, и хитрите, я заставлю вас показать клыки, как это делают с диким кабаном во время травли.
— Ба! — скривил губы д’Артаньян, изображая улыбку.
— Я велю заложить лошадей и уеду в Париж, — заявил Фуке, пытаясь проникнуть в глубину души капитана.
— А! Раз так, это другое дело.
— В этом случае вы меня арестуете? Не так ли?
— О нет, в этом случае я еду с вами.
— Довольно, господин д’Артаньян, — проговорил Фуке ледяным тоном. — Вы недаром пользуетесь репутацией очень тонкого и ловкого человека, но со мной это лишнее. К делу, сударь, к делу! Скажите мне, за что вы меня арестовываете? Что я сделал?
— О, я не знаю, что вы сделали, и я вас не арестовываю… по крайней мере, сегодня…
— Сегодня? — воскликнул, бледнея Фуке. — А завтра?
— Завтра еще не пришло, монсеньер. Кто же может поручиться за завтрашний день?
— Скорей, скорей, капитан! Позвольте мне переговорить с господином д’Эрбле.
— Увы, это никак невозможно, монсеньер, у меня приказ не разрешать вам общаться с кем бы то ни было.
— И даже с господином д’Эрбле, вашим другом!
— Монсеньер, а разве не может случиться, что господин д’Эрбле, мой друг, и есть то единственное лицо, с которым я должен помешать вам общаться?
Фуке покраснел и, сделав вид, что он смиряется перед необходимостью, произнес:
— Вы правы, сударь; я получил урок, к которому не должен был подавать повода. Человек павший не может больше рассчитывать ни на что даже со стороны тех, счастье которых составил он сам; я не говорю уж о тех, которым он никогда не имел удовольствия оказать какую-либо услугу.
— Монсеньер!
— Это сущая правда, господин д’Артаньян: вы всегда держали себя со мною чрезвычайно корректно, как и подобает тому, кому было предназначено самою судьбой взять меня под арест. Вы никогда не обращались ко мне ни с малейшею просьбой.
— Монсеньер, — отвечал гасконец, тронутый такой красноречивой и благородной печалью, — согласны ли вы дать мне слово честного человека, что не покинете этой комнаты?
— Зачем, дорогой д’Артаньян, раз вы меня здесь сторожите? Неужели вы думаете, что я попытаюсь бороться с самой доблестной шпагой королевства?
— Нет, не то, монсеньер. Дело в том, что я пойду сейчас за господином д’Эрбле и поэтому оставляю вас одного.
Фуке вскрикнул от радости и удивления:
— Пойдете за господином д’Эрбле? Оставите меня одного?
— Где я найду господина д’Эрбле? В синей комнате?
— Да, мой друг, да!
— Ваш друг! Благодарю вас за эти слова, монсеньер.
— Ах, вы меня просто спасаете!
— Хватит ли десяти минут, чтобы добраться до синей комнаты и возвратиться назад? — спросил д’Артаньян.
— Приблизительно.
— Чтобы разбудить Арамиса, который умеет спать, когда ему спится, и предупредить его, я кладу еще пять минут; в общем, я буду отсутствовать четверть часа. Теперь, монсеньер, дайте мне слово, что вы не предпримете попытки бежать и что, возвратившись, я найду вас на месте.
— Даю вам слово, сударь, — сказал Фуке, с признательностью пожимая мушкетеру руку.
Д’Артаньян удалился.
Фуке посмотрел ему вслед, с видимым нетерпением подождал, пока за ним закроется дверь, и бросился за своими ключами. Он открыл несколько потайных ящиков и стал тщетно искать некоторые бумаги, к его огорчению, оставшиеся в Сен-Манде. Затем, торопливо схватив кое-какие письма, договоры и прочие документы, он собрал их в кучу и сжег на мраморной каминной доске, даже не сдвинув горшков с цветами, которые там стояли. Кончив с этим, он упал в кресло, как человек, избегший смертельной опасности и совсем обессилевший, лишь только эта опасность перестала ему грозить.
Возвратившийся д’Артаньян увидел Фуке в той же позе. Достойный мушкетер нисколько не сомневался, что Фуке, дав слово, и не подумает нарушить его; но он полагал, что суперинтендант воспользуется его временной отлучкой, чтобы избавиться от всех тех бумаг, записок и договоров, которые могли бы ухудшить его и так достаточно опасное положение. Поэтому, войдя в комнату, он поднял голову, как собака, учуявшая поблизости дичь, и, обнаружив здесь запах дыма, чего он и ждал, с удовлетворением кивнул головой.
При появлении д’Артаньяна Фуке, в свою очередь, поднял голову, и ни один жест мушкетера не ускользнул от него. Затем взгляды их встретились, и они поняли друг друга без слов.
— А где же, — удивленно спросил Фуке, — где господин д’Эрбле?
— Господин д’Эрбле, надо полагать, обожает ночные прогулки и где-нибудь в парке, озаренном лунным сиянием, сочиняет стихи в обществе какого-нибудь из ваших поэтов: в синей комнате, во всяком случае, его нет.
— Как! Его нет в синей комнате? — воскликнул Фуке, лишаясь своей последней надежды. Хотя он и не представлял себе, как именно ваннский епископ сумеет помочь ему, он все же отчетливо понимал, что ждать помощи можно лишь от него.
— Или если он все-таки у себя, — продолжал д’Артаньян, — то у него, очевидно, были причины не отвечать на мой стук.
— Быть может, вы обращались к нему недостаточно громко, и он не услышал вас.
— Уж не предполагаете ли вы, монсеньер, что, нарушив приказание короля не покидать вас ни на мгновение, я стану будить весь дом и предоставлю возможность видеть меня в коридоре, где расположился ваннский епископ, давая тем самым господину Кольберу основание думать, что я предоставил вам время сжечь ваши бумаги?
— Мои бумаги!
— Разумеется. По крайней мере, будь я на вашем месте, я не преминул бы поступить именно так. Когда мне отворяют дверь, я пользуюсь этим.
— Благодарю вас, сударь. Я и воспользовался.
— И хорошо сделали. У каждого из нас есть свои тайны, до которых не должно быть дела другим. Но вернемся, монсеньер, к Арамису.
— Так вот, повторяю, вы слишком тихо позвали его, и он вас не слышал.
— Как бы тихо ни звать Арамиса, монсеньер, Арамис всегда слышит, если считает нужным услышать. Повторяю, Арамиса в комнате не было или у Арамиса были основания не узнать моего голоса, основания, которые мне неизвестны, как они, быть может, неизвестны и вам, при всем том, что его преосвященство, монсеньер ваннский епископ, — ваш преданный друг.
Фуке тяжко вздохнул, вскочил на ноги, несколько раз прошелся по комнате и кончил тем, что уселся на свое великолепное ложе, застланное бархатом и утопающее в изумительных кружевах.
Д’Артаньян посмотрел на Фуке с выражением искреннего сочувствия.
— Я видел на своем веку, как были арестованы многие, да, да, очень многие, — сказал мушкетер с грустью в голосе, — я видел, как был арестован Сен-Мар, видел, как был арестован де Шале. Я был тогда еще очень молод. Я видел, как был арестован Конде вместе с принцами, я видел, как был арестован де Ретц, я видел, как был арестован Бруссель. Послушайте, монсеньер, страшно сказать, но больше всего в настоящий момент вы похожи на беднягу Брусселя. Еще немного, и вы, подобно ему, засунете вашу салфетку в портфель и станете вытирать рот деловыми бумагами. Черт подери, господин Фуке, такой человек, как вы, не должен склоняться перед неприятностями. Если бы ваши друзья видели вас, что бы они подумали!
— Господин д’Артаньян, — ответил суперинтендант со скорбной улыбкой, — вы меня совершенно не понимаете. Именно потому, что мои друзья не видят меня, я таков, каким вы меня видите. Когда я один, я перестаю жить, сам по себе я ничто. Посмотрите-ка, на что я употребил мою жизнь. Я употребил ее на то, чтобы приобрести друзей, которые, как я надеялся, станут моей опорой. Пока я был в силе, все эти счастливые голоса, счастливые, потому что это я доставил им счастье, хором осыпали меня похвалами и изъявлениями своей благодарности. Если меня постигала хоть малейшая неприятность, эти же голоса, но только немного более приглушенные, чем обычно, гармонически сопровождали ропот моей души. Одиночество! Но я никогда не знал, что это значит. Нищета— призрак, лохмотья которого я видел порою в конце моего жизненного пути! Нищета — неотступная тень, с которой многие из моих друзей сжились уже так давно, которую они даже поэтизируют, ласкают и побуждают меня любить! Нищета, но я примирюсь с ней, подчиняюсь ей, принимаю ее как обделенную наследством сестру, ибо нищета— это все же одиночество, не изгнание, не тюрьма! Разве я буду когда-нибудь нищим, обладая такими друзьями, как Пелисон, Лафонтен, Мольер, с такою возлюбленною, как… Нет, нет и нет, но одиночество, — для меня, человека, рожденного, чтобы жить в суете, для меня, привыкшего к удовольствиям, для меня, существующего лишь потому, что существуют другие!.. О, если б вы знали, насколько я сейчас одинок и насколько вы кажетесь мне, вы, разлучающий меня со всем тем, к чему я тянулся всем сердцем, — насколько вы кажетесь мне воплощением одиночества, небытия, смерти!
— Я уже говорил, господин Фуке, — отвечал тронутый до глубины души д’Артаньян, — что вы преувеличиваете ваши несчастья. Король любит вас.
— Нет, — покачал головой Фуке, — нет, нет!
— Господин Кольбер ненавидит.
— Господин Кольбер? О, это совершенно неважно!
— Он вас разорит.
— Это сделать нетрудно; не стану отрицать, я разорен.
При этом странном признании суперинтенданта финансов д’Артаньян обвел комнату весьма выразительным взглядом. И хотя он не промолвил ни слова, Фуке отлично понял его и добавил:
— Что делать с этим великолепием, когда в тебе самом не осталось и тени великолепия! Знаете ли вы, для чего нам, богатым людям, нужна большая часть наших богатств? Лишь для того, чтобы отвращать нас от всего, что не обладает таким же блеском, каким обладают они. Во! Вы станете говорить о чудесах Во, не так ли? Но к чему они мне? Что делать мне с этими чудесами? Где же, скажите, если я разорен, та вода, которую я мог бы влить в урны моих наяд, огонь, который я поместил бы внутрь моих саламандр, воздух, чтобы заполнить им грудь тритонов? Чтобы быть достаточно богатым, господин д’Артаньян, надо быть очень богатым.
Д’Артаньян покачал головой.
— О, я знаю, очень хорошо знаю, о чем вы думаете, — продолжал Фуке. — Если б Во было вашею собственностью, вы продали бы его и купили бы поместье в провинции. В этом поместье у вас были бы леса, огороды и пашни, и оно кормило б своего владельца. Из сорока миллионов вы бы сделали…
— Десять.
— Ни одного, мой дорогой капитан. Нет такого человека во Франции, который был бы в достаточной мере богат, чтобы, купив Во за два миллиона, поддерживать его в том состоянии, в каком оно находится ныне.
— По правде сказать, миллион — это еще не бедность.
— Это весьма близко к бедности. Но вы не понимаете меня, дорогой друг. Я не хочу продавать Во. Если хотите, я подарю его вам.
— Подарите его королю, это будет выгоднее.
— Королю не надо моего подарка. Он и так отберет Во, если оно ему понравится. Вот почему я предпочитаю, чтоб Во погибло. Знаете, господин д’Артаньян, если б король не находился сейчас под моим кровом, я взял бы вот эту свечу, подложил бы два ящика оставшихся у меня ракет и бенгальских огней под купол и обратил бы свой дворец в прах и пепел.
— Во всяком случае, — как бы вскользь заметил мушкетер, — вы не сожгли бы садов, а это лучшее, что у вас есть.
— И затем, — продолжал глухо Фуке, — что я сказал, Боже мой! Сжечь Во! Уничтожить дворец! Но Во принадлежит вовсе не мне. Все эти богатства, эти бесконечные чудеса принадлежат как временное владение тому, кто за них заплатил, это верно, но как нечто непреходящее они принадлежат тем, кто их создал. Во принадлежит Лебрену, Ленотру, Во принадлежит Пелисону, Лево, Лафонтену; Во принадлежит Мольеру, который поставил в его стенах "Несносных". Во, наконец, принадлежит нашим потомкам. Вы видите, господин д’Артаньян, у меня больше нет своего дома.
— Вот и хорошо, вот рассуждение, которое мне по-настоящему нравится, и в нем я снова узнаю господина Фуке. Вы больше не похожи на беднягу Брусселя, и я больше не слышу стенаний этого старого участника Фронды. Если вы разорились, примите это с душевной твердостью. Вы тоже, черт возьми, принадлежите потомству и не имеете права себя умалять. Посмотрите-ка на меня. От судьбы, распределяющей роли среди комедиантов нашего мира, я получил менее красивую и приятную роль, чем ваша. Вы купались в золоте, вы властвовали, вы наслаждались. Я тянул лямку, я повиновался, я страдал. И все же, как бы ничтожен я ни был по сравнению с вами, монсеньер, я объявляю вам: воспоминание о том, что я сделал, заменяет мне хлыст, не дающий мне слишком рано опускать свою старую голову. Я до конца буду хорошей полковой лошадью и паду сразу, выбрав предварительно место, где мне упасть. Сделайте так же, как я, господин Фуке, и от этого вам будет не хуже. С такими людьми, как вы, это случается один-единственный раз. Все дело в том, чтобы действовать, когда это придет, подобающим образом. Есть латинская поговорка, которую я часто повторяю себе: "Конец венчает дело".
Фуке встал, обнял д’Артаньяна и пожал ему руку.
— Вот чудесная проповедь, — сказал, помолчав, Фуке.
— Проповедь мушкетера, монсеньер.
— Вы меня любите, раз говорите все это.
— Может быть.
Фуке снова задумался, затем спросил:
— Где может быть господин д’Эрбле?
— Ах, вот вы о чем!
— Я не смею попросить вас отправиться снова на его поиски.
— Даже если б и попросили, я бы не сделал этого. Это было бы в высшей степени неосторожно. Об этом узнали бы, и Арамис, который ни в чем не замешан, был бы скомпрометирован, вследствие чего король распространил бы свою немилость и на него.
— Я подожду до утра.
— Да, это, пожалуй, самое лучшее.
— Что же мы с вами сделаем утром?
— Не знаю, монсеньер.
— Окажите любезность, господин д’Артаньян.
— С удовольствием.
— Вы меня сторожите, я остаюсь. Вы точно исполните приказание, так ведь?
— Конечно.
— Ну, так оставайтесь моей тенью. Я предпочитаю эту тень всякой другой.
Д’Артаньян поклонился.
— Но забудьте, что вы господин д’Артаньян, — капитан мушкетеров, а я Фуке — суперинтендант финансов, и поговорим о моем положении.
— Это трудновато, черт подери!
— Правда?
— Но для вас, господин Фуке, я сделаю невозможное.
— Благодарю вас. Что сказал вам король?
— Ничего.
— Вот как вы со мной разговариваете!
— Черт возьми!
— Что вы думаете о моем положении?
— Ваше положение, скажу прямо, нелегкое.
— Чем?
— Тем, что вы находитесь у себя дома.
— Сколь бы трудным оно ни было, я прекрасно его понимаю.
— Неужели вы думаете, что с другими я был бы так откровенен?
— И это называете вы откровенностью? Вы были со мной откровенны! Отказываясь мне ответить на сущие пустяки?
— Ну, если угодно, любезен.
— Это другое дело.
— Вот послушайте, монсеньер, как бы я поступил, будь на вашем месте кто-либо иной: я подошел бы к вашим дверям, едва только от вас вышли бы слуги, или, если они еще не ушли, я бы переловил их, как зайцев, тихонечко запер бы их, а сам растянулся бы на ковре в вашей прихожей. Взяв вас под наблюдение без вашего ведома, я сторожил бы вас до утра для своего господина. Таким образом, не было бы ни скандала, ни шума, никакого сопротивления; но вместе с тем не было бы никаких предупреждений господину Фуке, ни сдержанности, ни тех деликатных уступок, которые делаются между вежливыми людьми в решительные моменты их жизни. Понравился бы вам такой план?
— О, он меня ужасает!
— Не так ли! Ведь было бы весьма неприятно появиться завтра утром пред вами и потребовать у вас шпагу?
— О, сударь, я бы умер от стыда и от гнева!
— Ваша благодарность выражается слишком красноречиво, я не так уж много сделал, поверьте мне.
— Уверен, сударь, что вы не заставите меня признать правоту ваших слов.
— А теперь, монсеньер, если вы довольны моим поведением, если вы оправились уже от удара, который я постарался смягчить, как мог, предоставим времени лететь возможно быстрее. Вы устали, вам надо подумать, — умоляю вас, спите или делайте вид, что спите, — на вашей постели или в вашей постели. Что до меня, то я буду спать в этом кресле, а когда я сплю, сон у меня такой крепкий, что меня не разбудит и пушка.
Фуке улыбнулся.
— Я исключаю, впрочем, — продолжал мушкетер, — тот случай, когда открывается дверь — потайная или обыкновенная, для входа или для выхода. О, в этом случае мой слух необычайно чувствителен! Ходите взад и вперед по комнате, пишите, стирайте написанное, рвите, жгите, но не трогайте дверного замка, не трогайте ручку дверей, так как я внезапно проснусь и это расстроит мне нервы.
— Решительно, господин д’Артаньян, вы самый остроумный и вежливый человек, какого я только знаю, и от нашей встречи у меня останется только лишь одно сожаление — что мы с вами познакомились слишком поздно.
Д’Артаньян вздохнул, и этот вздох означал:
"Увы, быть может, вы познакомились со мной слишком рано?"
Затем он уселся в кресло, тогда как Фуке, полулежа у себя на кровати и опершись на руку, размышлял о случившемся. И оба, так и не погасив свечей, стали дожидаться зари, и когда Фуке слишком громко вздыхал, д’Артаньян храпел сильнее, чем прежде.
Никто, даже Арамис, не нарушил их вынужденного покоя; в огромном доме не было слышно ни малейшего шума.
Снаружи, под ногами почетного караула и патрулей мушкетеров, скрипел песок; и это, в свою очередь, способствовало тому, чтобы сон спящих был крепче. Добавим к этим звукам еще шорохи ветра и плеск фонтанов, которые были заняты своей извечной работой, не заботясь о малых делах и ничтожных волнениях, из которых складываются жизнь и смерть человека.
Назад: XXXV ГЕНЕРАЛ ОРДЕНА
Дальше: Часть шестая

