Книга: А.Дюма. Собрание сочинений. Том 11.
Назад: XXIII ТРИ СОТРАПЕЗНИКА, КРАЙНЕ ПОРАЖЕННЫЕ ТЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ, ЧТО СОШЛИСЬ ВМЕСТЕ ЗА УЖИНОМ
Дальше: XXXV ГЕНЕРАЛ ОРДЕНА
XXIX
КАК МУСТОН РАСТОЛСТЕЛ,
НЕ ПОСТАВИВ ОБ ЭТОМ В ИЗВЕСТНОСТЬ ПОРТОСА, И КАКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ ДЛЯ ДОСТОЙНОГО ДВОРЯНИНА ВОСПОСЛЕДОВАЛИ ОТ ЭТОГО
Со времени отъезда Атоса в Блуа д’Артаньян и Портос редко бывали вместе. У одного была хлопотная служба при короле, другой увлекся покупкой мебели, которую хотел отправить в свои многочисленные поместья; он задумал завести в своих резиденциях — а их у него было несколько— нечто напоминающее придворную роскошь, которую ему довелось увидеть у короля и которая ослепила его.
Д’Артаньян, сохранивший неизменную верность по отношению к старым друзьям, однажды утром, когда служба оставила ему немного свободного времени, вспомнил о Портосе и, обеспокоенный тем, что вот уже две недели ничего не слышал о нем, поехал к нему и застал его только что вставшим с постели.
Достойный барон был, по всей видимости, поглощен какими-то неприятными мыслями; больше того, он был опечален. Свесив ноги, полуголый, сидел он у себя на кровати и уныло рассматривал целые вороха платья, отделанного бахромой, галунами, вышивкой безобразных цветов, которое было навалено перед ним на полу.
Печальный и задумчивый, как пресловутый заяц в басне Лафонтена, Портос не заметил входящего д’Артаньяна, скрытого от его глаз внушительной фигурой Мустона, настолько дородного, что он мог бы заслонить своим телом любого, а в этот момент размеры его удвоились, так как дворецкий распяливал перед собою алый кафтан, который он держал за концы рукавов, чтобы хозяин мог лучше приглядеться к нему.
Д’Артаньян остановился на пороге и принялся рассматривать озабоченного Портоса: обнаружив, однако, что эта куча костюмов порождает в груди достойного дворянина тяжкие вздохи, он решил, что пора оторвать его от этого столь мучительного для него зрелища, и кашлянул, чтобы возвестить о своем приходе.
— А! — воскликнул Портос, и лицо его осветилось радостью. — Здесь д’Артаньян! Наконец-то меня осенит счастливая мысль!
Мустон, услышав эти слова, обернулся с приветливой улыбкой к другу своего хозяина, и Портос избавился, таким образом, от массивной преграды, мешавшей ему броситься к д’Артаньяну.
Он поспешно вскочил с кровати, потянулся, хрустнув суставами крепких ног, пронесся в два прыжка через комнату и порывисто прижал д’Артаньяна к груди: с каждым днем он любил его, казалось, все больше и больше.
— Ах, дорогой друг, — повторил он несколько раз, — ах, дорогой д’Артаньян, здесь вы всегда желанны, но сегодня желаннее, чем когда бы то ни было.
— Так, так. У вас неприятности? — спросил д’Артаньян.
Портос ответил взглядом, полным уныния.
— Расскажите же, друг мой, в чем дело, если это не тайна.
— Во-первых, — сказал Портос, — вы знаете, что у меня нет от вас никаких тайн, а во-вторых… во-вторых, меня огорчает следующее…
— Погодите, Портос, погодите: дайте мне сперва выбраться из этого вороха сукна, атласа и бархата.
— Шагайте, шагайте смелее! — проговорил жалобным тоном Портос. — Все это не больше чем хлам.
— Черт подери! Сукно стоимостью в двадцать ливров за локоть — хлам! Великолепный атлас и бархат, которым не погнушался бы сам король, — это, по-вашему, хлам?
— Так вы находите эти костюмы…
— Блистательными, Портос, блистательными! Готов поручиться, что во всей Франции вы один обладаете таким неимоверным количеством их, и если предположить, что, начиная с этого дня, вы не закажете больше ни одного, а проживете добрую сотню лет, что, говоря по правде, меня нисколько не удивило бы, то и в этом случае в день вашей смерти на вас будет новый костюм, и в течение всего этого времени ни один портной не покажет к вам носа.
Портос покачал головой.
— Послушайте, друг мой, — сказал д’Артаньян. — Это мрачное настроение, отнюдь не свойственное вашему нраву, пугает меня. Дорогой мой Портос, давайте покончим с ним, и чем раньше, тем лучше.
— Да, да, покончим, — ответил Портос, — избавимся, если только это вообще возможно.
— Или, быть может, вы получили дурные известия из Брасье?
— О нет; там вырубили леса, и они дали доход, превысивший ожидаемый на целую треть.
— Или в Пьерфоне прорвало запруды?
— Нет, что вы, друг мой; там выловили рыбу, но того, что осталось после продажи, более чем достаточно, чтобы сделать все окрестные пруды рыбными.
— Что же тогда? Уж не обрушился ли Валлон по причине землетрясения?
— Нет, нет! Напротив, молния ударила в какой-нибудь сотне шагов от замка, и в месте, страдавшем от недостатка воды, забил превосходный ключ.
— Но в чем же в таком случае дело?
— Видите ли, я получил приглашение на празднество в Во, — сказал Портос с похоронным видом.
— Чего же вы жалуетесь? Король был причиною более чем ста ссор, породивших непримиримых врагов, и все из-за того, что тому или иному придворному было отказано в приглашении. Так вы и в самом деле приглашены в Во? Вот оно что!
— Но, Бог мой, конечно!
— Вам предстоит увидеть поразительное великолепие.
— Что до меня, то мне едва ли удастся увидеть это.
— Но ведь там будет собрана вся наша французская знать.
— Ах, — вздохнул Портос, вырвав у себя с отчаянья клок волос.
— Господи Боже! Да не больны ли вы, дорогой мой?
— Я здоров, черт подери, как бык. Дело не в этом.
— Но в чем же?
— У меня нет костюма.
Д’Артаньян остолбенел...
— Нет костюма, Портос! Нет костюма! — вскричал он. Но ведь я вижу у вас на полу больше полусотни костюмов!
— Полусотни! Это верно. Но нет ни одного, который был бы мне впору.
— Как это нет ни одного, который был бы вам впору! Разве с вас не снимали мерки, когда их шили?
— Снимали, — ответил Мустон, — но, к несчастью, я растолстел.
— Что? Вы растолстели?
— Да, так что стал толще, гораздо толще господина барона. Могли бы вы это подумать, сударь?
— Еще бы! Мне кажется, что это видно с первого взгляда.
— Слышишь, болван? — проворчал Портос. — Это видно с первого взгляда.
— Но, милый Портос, — сказал д’Артаньян с легким нетерпением в голосе, — не могу понять, почему ваши костюмы никуда не годятся из-за того, что Мустон растолстел. ‘
— Сейчас объясню. Помните, вы мне рассказывали как-то про одного римского военачальника, которого звали Антонием и у которого всегда было семь кабанов на вертеле, жарившихся в различных местах, чтобы он мог потребовать свой обед в любой час, когда ему ни заблагорассудилось. Вот и я — поскольку в любой момент меня могут пригласить ко двору и оставить там на неделю, — вот я и решил иметь всегда наготове, если это случится, семь новых костюмов.
— Отлично придумано, мой милый Портос. Но чтобы позволить себе такого рода фантазии, нужно располагать вашим богатством, не говоря уж о времени, которое затрачиваешь на примерку. И к тому же мода так часто меняется.
— Что верно, то верно, — заметил Портос. — Но я тешил себя надеждой, что придумал нечто исключительно хитрое.
— Что же это такое? Черт возьми, я никогда не сомневался в ваших талантах!
— Вы помните те времена, когда Мустон был еще тощим?
— Конечно; это было тогда, когда он был Мушкетоном.
— А когда он начал толстеть?
— Нет, этого я не мог бы сказать. Прошу извинения, мой милый Мустон.
— О, вам нечего просить извинения, — любезно ответил Мустон, — вы были в Париже, а мы… мы в Пьерфоне.
— Так вот, дорогой Портос, — итак, с известного времени Мустон начал толстеть. Ведь вы хотели сказать именно это, не так ли?
— Конечно. И я был этим очень обрадован.
— Черт! Готов вам верить.
— Понимаете ли, — продолжал Портос, ведь это освобождало меня от хлопот.
— Нет, все еще не понимаю, друг мой. Но если вы мне объясните…
— Сейчас, сейчас… Прежде всего, как вы сказали, это потеря времени, когда даешь снимать с себя мерку хотя бы раз в две недели. Потом можешь оказаться в дороге, а когда хочешь всегда иметь семь новых костюмов… Наконец, я терпеть не могу давать с себя снимать мерку. Либо я дворянин, либо не дворянин, черт возьми. Дать себя измерять какому-нибудь проходимцу, который изучает тебя с головы до пят, — это унизительно в высшей степени. Этот народ находит вас слишком выпуклым тут, слишком вдавленным здесь, он знает все ваши достоинства и недостатки. Знаете, когда выходишь из рук портного, чувствуешь себя похожим на крепость, только что досконально изученную шпионом.
— Воистину, Портос, ваши мысли чрезвычайно своеобразны.
— Но вы понимаете, что, будучи инженером…
— И к тому же укрепившим Бель-Иль…
— Так вот, мне пришла в голову мысль, и она, конечно, была бы весьма хороша, если бы не небрежность Мустона.
Д’Артаньян бросил взгляд на Мустона, который ответил на него легким движением тела, как бы желая сказать: "Вы сами увидите, виноват ли я в том, что случилось".
— Итак, я очень обрадовался, — продолжал Портос, — увидев, что Мустон начал толстеть; больше того, чем только мог, я помогал ему нагуливать жир. Я кормил его особо питательной пищей, надеясь, что он сравняется со мной в объеме и тогда я смогу заставить его иметь дело с портными и тем самым избавлю себя от снятия мерок и прочих скучных вещей.
— А! — вскричал д’Артаньян. — Теперь я наконец понимаю… Это спасло бы вас от потери времени и унижений.
— Черт подери! Судите же сами о моей радости, когда после полутора лет отменного и искусно подобранного питания — ибо я взял на себя труд самолично кормить Мустона — этот бездельник…
— Ах, сударь, я и сам немало способствовал этому, — скромно вставил Мустон.
— Это верно. Так вот, судите о моей радости, когда в одно прекрасное утро я обнаружил, что Мустону пришлось повернуться боком, как поворачивался я сам, чтобы протиснуться сквозь потайную дверь, которую эти чертовы архитекторы устроили у меня в Пьерфоне в комнате покойной госпожи дю Валлон. Да, кстати, об этой двери, друг мой; хочу задать вам вопрос, вам, знающему решительно все на свете, какого черта эти плуты-архитекторы, которым полагается иметь подобающий глазомер, придумали двери, годные только для тощих.
— Эти двери, — сказал в ответ д’Артаньян, — предназначены для возлюбленных, а возлюбленные по большей части сложения хрупкого и изящного.
— Госпожа дю Валлон не имела возлюбленных, — величественно перебил д’Артаньяна Портос.
— Несомненно, друг мой, несомненно, — поторопился согласиться с ним д’Артаньян, — но, быть может, эти двери были придуманы архитекторами на случай вашей повторной женитьбы.
— Вот это и впрямь возможно, — заметил Портос — Теперь, когда я получил от вас разъяснение относительно этих слишком узких дверей, вернемся к нагуливанию жира Мустоном. Но заметьте себе, что первое имеет прямое отношение ко второму. Я не раз наблюдал, что наши мысли тянутся друг к другу. Подивитесь-ка на это явление, д’Артаньян: я говорил о Мустоне, который начал толстеть, а кончил тем, что вспомнил о госпоже дю Валлон…
— Которая была худощавой.
— Разве это не поразительно?
— Друг мой, один из моих ученых друзей, господин Костар, сделал то же самое наблюдение, что и вы, и он называет это каким-то греческим словом, которого я не запомнил.
— Выходит, что мое наблюдение не отличается новизной! — вскричал Портос, ошеломленный услышанным от д’Артаньяна. — А я думал, что я первый сделал его.
— Друг мой, этот факт известен еще до Аристотеля, то есть, говоря по-иному, приблизительно вот уже две тысячи лет.
— Но от этого он не становится менее достоверным, — сказал Портос, приходя в восторг от этого совпадения его собственных мыслей с мыслями философов древности.
— Безусловно. Но давайте вернемся к Мустону. Мы оставили его в тот момент, когда он стал толстеть у вас на глазах, ведь, кажется, так?
— Так точно, сударь, — вставил Мустон.
— Продолжаю, — сказал Портос. — Итак, Мустон толстел так успешно, что оправдал все мои чаяния. Он достиг моей мерки, и я смог воочию убедиться в этом, увидев в один прекрасный день на мошеннике мой собственный камзол, в который он позволил себе облачиться; этот камзол обошелся мне очень недешево: одна только вышивка стоила сотню пистолей.
— Я надел его лишь затем, чтоб примерить, сударь, — сказал Мустон.
— Итак, — продолжал Портос, — с этого дня я решил, что отныне все дела с моими портными будет вести Мустон, — с него будут снимать мерку, и во всем этом он полностью заменит меня.
— Чудесно придумано! Просто чудесно! Но ведь Мустон на полтора фута ниже вас ростом.
— Вы правы. Но я велел шить таким образом, чтобы на Мустона костюм был слишком длинным, а на меня в самый раз.
— Какой вы счастливец, Портос! Такие вещи случаются только с вами.
— Да, да! Завидуйте мне, есть действительно чему позавидовать! Это было точно в то самое время, когда я уезжал на Бель-Иль, то есть приблизительно два с половиной года назад. Уезжая, я поручил Мустону — чтобы постоянно иметь на случай нужды приличное модное платье — ежемесячно заказывать себе по костюму.
— И Мустон не исполнил вашего приказания? Нехорошо, Мустон, очень нехорошо!
— Напротив, сударь, напротив!
— Нет, он не забывал заказывать для себя костюмы, но он забыл предупредить меня, что толстеет.
— Господи Боже, я в этом нисколько не виноват; ваш портной ни разу не сказал мне об этом.
— За два года бездельник расширился в талии ни больше ни меньше, как на целые восемнадцать дюймов, и мои последние двенадцать костюмов шире, чем нужно, от фута до полутора футов.
— Ну, а прежние, сделанные в те времена, когда ваши талии были приблизительно одинаковыми?
— Они успели выйти из моды, и если бы я надел их, у меня был бы вид человека, приехавшего из Сиама и не бывавшего при дворе добрых два года.
— Теперь мне понятны ваши заботы. Сколько же у вас новых костюмов? Тридцать шесть? И вместе с тем ни одного. Выходит, что нужно сшить тридцать седьмой, а остальные тридцать шесть подарить Мустону.
— Ах, сударь, — сказал довольный Мустон, — вы всегда были добры ко мне.
— Черт возьми! Неужели вы думаете, что подобная мысль не приходила мне в голову или что меня останавливают расходы? До празднества в Во остается каких-нибудь двое суток. Я получил приглашение только вчера и немедленно вызвал Мустона, приказав, чтобы он явился сюда с моим гардеробом на почтовых; но я заметил приключившееся со мной несчастье лишь этим утром, и где такой более или менее модный портной, который взялся бы изготовить за это время костюм?
— То есть костюм, расшитый вдоль и поперек золотом?
— Да, я хочу, чтобы золото было повсюду.
— Мы это уладим. В вашем распоряжении трое суток. Вы приглашены на среду, а сейчас воскресенье, и притом утро.
— Это правда. Но Арамис настоятельно просил прибыть в Во за сутки.
— Как Арамис?
— Да, это приглашение привез Арамис.
— А, понимаю. Вы приглашенный господина Фуке.
— Нет, я приглашен королем. На записке ясно написано:
"Господина дю Валлона предупреждают, что король удостоил включить его в список своих приглашенных".
— Прекрасно! Но все же вы уезжаете с господином Фуке?
— И когда я подумаю, — вскричал Портос, отломив кусок паркета ударом ноги, — когда я подумаю, что у меня не будет костюмов, я готов прямо лопнуть от злости! Мне хочется задушить кого-нибудь или что-нибудь разорвать на части!
— Никого не душите и ничего не рвите на части; я это улажу; наденьте один из тридцати шести ваших костюмов, и поехали вместе к портному.
— Мой посланный обошел этим утром их всех.
— И он побывал даже у Персерена?
— Кто такой Персерен?
— Портной короля, и вы не знаете этого?
— Да, да, конечно, — сказал Портос, делая вид, что портной короля хорошо известен ему, хотя он слышал о нем впервые, — у Персерена, портного его величества короля? Да, да, конечно! Но я думал, что он перегружен работой.
— Конечно, он перегружен работой; но будьте спокойны, Портос, он сделает для меня то, чего не сделал бы ни для кого другого. Только на этот раз вам придется позволить снять с себя мерку, дорогой друг.
— Ах, — вздохнул Портос, — это ужасно. Но что же поделаешь?
— Вы поступите как все, вы поступите как король.
— Как? И с короля также снимают мерку? И он это терпит?
— Король, дорогой мой, щеголь. И вы также, что бы вы об этом ни говорили.
Портос улыбнулся с победным видом:
— Идемте к портному его величества. И раз он снимает мерку с самого короля, мне, право, кажется, что и я могу позволить ему обмерить меня с головы до пят!
XXX
ЧТО ЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ СОБОЙ МЕССИР ЖАН ПЕРСЕРЕН
Портной короля, мессир Жан Персерен, занимал довольно большой дом на улице Сент-Оноре, близ улицы Сухого Дерева. Это был человек, понимавший толк в красивых тканях, в красивых вышивках и красивом бархате, ибо Персерены из поколения в поколение занимались одним и тем же: шили на королей. Эта профессия их восходит ко временам Карла IX, частенько предававшегося бурным фантазиям, удовлетворить которые было достаточно трудно.
Первый Персерен, подобно Амбруазу Паре, был гугенотом, но наваррская королева, прекрасная Марго, как называли ее в те времена и в литературных произведениях, и в просторечии, спасла его, потому что ему одному удавались ее удивительные верховые костюмы, скрывавшие кое-какие недостатки ее телосложения и поэтому весьма ценимые ею.
Спасшийся от гибели Персерен в благодарность за это шил очень красивые и очень дешевые черные телогрейки для королевы Екатерины, которая долго косилась на гугенота, но кончила тем, что была рада его спасению. Персерен, однако, был человеком благоразумным: он слыхал, что ничто не могло быть для гугенота опаснее, чем улыбка королевы Екатерины, и, заметив, что она улыбается ему чаще обычного, поторопился перейти в католичество вместе со всею своей семьей. Став таким образом лицом безупречным, он достиг высокого положения главного портного французской короны.
При Генрихе III, самом большом щеголе из королей, это положение стало настолько высоким, что его было бы уместно сравнить с какой-нибудь высочайшей вершиной Кордильеров.
Персерен в течение всей своей жизни слыл ловкачом, и, дабы сохранить эту свою репутацию и за гробом, он позаботился о том, чтобы хорошенько поводить за нос смерть: он скончался как раз тогда, когда его воображение начало иссякать. После него остались один сын и одна дочка, достойные его имени; сын — смелый закройщик, точный, как циркуль, дочка — вышивальщица и художница, создававшая прекрасные узоры для вышивок.
Свадьба Генриха IV и Марии Медичи, замечательные траурные наряды названной королевы и несколько слов, вырвавшихся у г-на де Бассомопьера, короля щеголей того времени, обеспечили процветание и второму поколению Персеренов.
Кончило Кончини и его жена Галигаи, блиставшие после этого при французском дворе, пожелали итальянизировать французский костюм и выписали портных из Флоренции. Но Персерен, задетый за живое в своем патриотизме и самолюбии, обратил в ничто чужеземцев своими рисунками узорчатой парчи и своей неподражаемой вышивкой гладью. Дело кончилось тем, что сам Кончини первым отказал своим соотечественникам и так высоко оценил таланты французского мастера, что одевался лишь у него, и в тот день, когда Витри застрелил его на мостике во дворе Лувра, на нем был сшитый у Персерена костюм. Этот костюм парижане с удовольствием разорвали на части вместе с прикрываемой им человеческой плотью.
Несмотря на благоволение, которым пользовался Персерен у Кончини, Людовик XIII не обрушил на него кары, великодушно простив его, сохранил за ним его должность. К тому времени, когда Людовик XIII Справедливый явил столь великий пример беспристрастия, Персерен успел уже воспитать двоих сыновей, и один из них испробовал свои силы на свадьбе Анны Австрийской, изготовил для кардинала Ришелье тот самый испанский костюм, в котором кардинал протанцевал сарабанду, создал костюмы для трагедии "Мирам" и пришил к плащу герцога Бекингема жемчуг, которому суждено было просыпаться на паркет Лувра.
Стать знаменитым нетрудно, если довелось одевать герцога Бекингема, Сен-Мара, мадемуазель Нинон, де Бофора и Марион Делорм. И к моменту кончины своего отца Персерен III был в апогее славы.
Тот же Персерен III, старый, прославленный и богатый, одевал и Людовика XIV. У него не было сына, и это составляло печаль его жизни, так как вместе с ним угасала династия, однако было несколько подающих надежды учеников. Были у Персерена также карета, имение, самые рослые во всем Париже лакеи и, по специальному разрешению короля, свора гончих. Он одевал де Лиона и Летелье, оказывая им своеобразное благоволение, но, будучи политиком, воспитанным на государственных тайнах, он никак не мог сделать удачный костюм Кольберу. Это необъяснимо, но тем не менее это так. Великие люди, в чем бы их таланты ни проявлялись, живут неуловимыми и неощутимыми побуждениями; они действуют, не зная и сами, что именно побуждает их к тому или иному поступку.
Великий Персерен (а великим был прозван последний из династии, а не первый, как это обыкновенно принято) вдохновенно кроил юбку для королевы, придумывал особый фасон плаща для королевского брата или вышивку для какого-нибудь уголка чулок принцессы Генриетты, его супруги, но, несмотря на все свои дарования, не мог запомнить мерку Кольбера.
— Этот человек, — нередко говаривал он, — мне положительно не дается, и я никогда не увижу его в хорошо сшитом костюме, хотя этот костюм и сшит моею иглой.
Само собой разумеется, что Персерен обшивал Фуке, и последний чрезвычайно ценил его мастерство.
Персерену было близко к восьмидесяти, но он все еще был полон сил и вместе с тем до того сухощав, что придворные остряки утверждали, будто ему грозит опасность сломаться. Его слава и состояние были настолько внушительны, что брат короля, и он же некоронованный король щеголей, брал его под руку, беседуя с ним о модах, и даже наименее склонные к платежам придворные, и те не осмеливались затягивать с ним расчеты, ибо Персерен шил в кредит не более одного костюма и никогда не брался за второй, пока не был оплачен первый.
Легко догадаться, что подобный портной отнюдь не гнался за заказчиками; напротив, он был почти недоступен для тех, кто обращался к нему впервые. Вот почему Персерен отказывался обшивать третье сословие или новоиспеченных дворян. Ходила даже молва, утверждавшая, что в благодарность за подаренное Персереном парадное кардинальское одеяние Мазарини сунул ему в карман дворянскую грамоту.
Персерен был остроумен и злоречив. Говорили, что он порядочный волокита и что при своих восьмидесяти годах он снимает мерку, чтобы сшить дамский корсаж, достаточно твердой рукой.
Вот к этому ремесленнику-вельможе и повел д’Артаньян отчаявшегося Портоса.
— Смотрите, дорогой д’Артаньян, оградите знатность такого человека, как я, — говорил Портос по дороге, — от столкновения с наглостью этого Персерена, который, должно быть не слишком учтив; считаю нужным предупредить, что, если он позволит себе непочтительность, я задам ему хорошую трепку.
— Будучи рекомендованы мною, — отвечал д’Артаньян, — вы можете ни о чем не тревожиться и могли бы не тревожиться даже в том случае, если б были совсем не тем, кем являетесь. Или, быть может, Персерен в чем-нибудь виноват перед вами?
— Мне кажется, что однажды…
— Ну так что же случилось однажды?
— Я послал Мушкетона к бездельнику, который звался этим именем.
— Что же дальше?
— И этот бездельник отказался шить на меня.
— Здесь что-то не то, и это недоразумение нужно выяснить. Мустон, несомненно, напутал.
— Все может быть.
— Он смешал имена.
— Возможно; этот мошенник Мустон никогда не помнит имен.
— Словом, я беру это дело целиком на себя.
— Отлично.
— Велите остановить карету, Портос; мы приехали.
— Как, уже! Да ведь мы у Центрального рынка; а вы говорили, что Персерен живет на углу улицы Сухого Дерева.
— Это верно, но посмотрите-ка хорошенько.
— Я смотрю и вижу…
— Что же вы видите?
— Что мы возле рынка, черт подери.
— Но не хотите же вы, чтобы наши лошади вскарабкались на карету, которая перед нами.
— Разумеется.
— Ни чтобы предшествующая карета наехала на ту, что стоит перед нею.
— Еще того меньше.
— Ни чтобы та, вторая карета протащилась на брюхе по тридцати или сорока каретам, стоящим впереди и прибывшим раньше, чем мы.
— Ах, Бог мой! Вы правы.
— То-то же!
— Сколько народа, сколько народа!
— Каково?
— Что же они тут делают, эти люди?
— Ответ очень прост — они дожидаются своей очереди.
— Вот тебе на! А может быть, актеры Бургундского отеля перебираются на новое место?
— Нет, мой дорогой. Это очередь к Персерену.
— И нам также придется ждать?
— Нет, мы с вами будем хитрее и не столь спесивы, как все остальные.
— Что же мы сделаем?
— Мы сейчас выйдем из кареты, проберемся через толпу пажей и лакеев и войдем в дом, даю вам в этом честное слово, особенно если первый пойдете вы.
— Идем, — сказал на это Портос.
И, выйдя из кареты, они направились к дому портного.
Причиной этого скопления народа и толчеи было то, что дверь Персерена была заперта, и лакей, стоявший у входа, объяснял знатным заказчикам, что в настоящий момент г-н Персерен решительно никого не может принять. Тот же лакей конфиденциально сообщил одному вельможе, к которому благоволил, что г-н Персерен занят пятью костюмами для короля и обдумывает у себя в кабинете украшения, цвет и покрой этих костюмов.
Иные, удовлетворившись этим ответом, возвращались домой, в восторге оттого, что могут распространить его дальше, другие же, более упорные и настойчивые, требовали, чтобы дверь была открыта немедленно, и среди этих последних бросались в глаза три кавалера с голубыми орденскими лентами; им предстояло принять участие в балете на празднестве в Во: ведь балет, разумеется, не состоится, если на них не будет костюмов, скроенных рукой великого Персерена.
Д’Артаньян, пустив перед собой Портоса, силой прокладывавшего путь сквозь толпу, добрался наконец до прилавков, за которыми подмастерья отбивались, как могли, от заказчиков. Мы забыли упомянуть, что Портоса, наравне с прочими, не хотели пропустить в дом, но д’Артаньян, выйдя вперед, произнес: "Именем короля", — после чего они беспрепятственно прошли в дверь.
Этим бедным ребятам — мы имеем в виду подмастерьев— приходилось несладко, и они в меру сил пытались удовлетворить в отсутствие хозяина нетерпеливые требования заказчиков, прерывая порой стежок, чтобы ввернуть несколько слов, и, когда чьи-нибудь оскорбленная гордость или обманутые надежды порождали опасность слишком бурного объяснения, тот, на кого обрушивались особенно яростные нападки, внезапно нырял под прилавок и скрывался под ним.
Вереница недовольных вельмож являла собою картину, во многих отношениях весьма любопытную.
Капитан мушкетеров, отличавшийся быстрым и верным взглядом, сразу же оценил ее по достоинству. Но после того как он бегло оглядел отдельные группы, взгляд его остановился на человеке, сидевшем на табурете прямо против него, причем голова этого человека лишь слегка возвышалась над укрывавшим его прилавком. Это был мужчина лет сорока, с меланхоличным и бледным лицом, с добрыми, светящимися умом глазами. Он рассматривал д’Артаньяна и всех других, подперев рукой подбородок, как спокойный и любознательный наблюдатель. Заметив и узнав нашего капитана, он надвинул на глаза шляпу.
Этот жест, быть может, и привлек внимание д’Артаньяна. Если наше предположение правильно, то человек с опущенной шляпой достиг результата, явно не соответствовавшего его намерениям.
Костюм этого человека был достаточно прост, парик на его голове — самый обыкновенный, и не очень наблюдательные заказчики могли бы счесть его простым подмастерьем, присевшим на табурет за дубовым прилавком и тщательно вышивающим по сукну или бархату.
Впрочем, он слишком часто нагибал голову, чтобы успешно работать руками.
Д’Артаньян не дал себя обмануть и тотчас же понял, что если этот человек и работает, то уж, конечно, не над какой-нибудь тканью.
— Вот оно что, — сказал капитан, обращаясь к этому человеку, — итак, вы превратились в портного, мой дорогой господин Мольер?
— Тише, господин д’Артаньян! Тише, Бога ради, молчите! Ведь вы меня выдаете, меня узнают.
— Что же в этом плохого?
— Плохого тут нет, но…
— Но вы хотите сказать, что и хорошего тоже, не так ли?
— Увы, вы правы, так как я, уверяю вас, был занят рассматриванием очень интересных фигур.
— Продолжайте, господин Мольер. Продолжайте. Вполне понимаю, насколько это интересно для вас… и не стану мешать вам в этом занятии, но с условием — скажите, где господин Персерен?
— Охотно скажу: он в своем кабинете. Только…
— Только проникнуть к нему невозможно?
— Он и впрямь совершенно недосягаем.
— Для всех?
— Для всех. Он привел меня в эту комнату, чтобы я мог предаться в свое удовольствие наблюдениям, после чего удалился к себе.
— В таком случае, дорогой господин Мольер, пойдите и скажите ему, что я здесь, хорошо?
— Я! — вскричал Мольер тоном честной собаки, у которой хотят отнять доставшуюся ей на законном основании кость. — Я должен оторваться от моего дела? Ах, господин д’Артаньян, до чего же вы дурно ко мне относитесь.
— Если вы тотчас же не отправитесь предупредить Персерена о том, что я здесь, дорогой господин Мольер, — вполголоса сказал д’Артаньян, — то и я не покажу вам одного из моих друзей, который пришел вместе со мной, о чем и предупреждаю вас.
— Вот того, да?
— Да.
Мольер оглядел Портоса взглядом, проникающим в сердца и умы. Этот осмотр показался ему, очевидно, многообещающим, так как он сразу же встал и прошел в соседнюю комнату.
XXXI
ОБРАЗЦЫ
В этот момент толпа начала расходиться, бросая в каждом углу обширного помещения мастерской ворчание или угрозу; она напоминала собой океан во время отлива, оставляющий на прибрежном песке водоросли и пену.
Спустя десять минут появился Мольер и сделал из-за портьеры знак д’Артаньяну. Тот поспешил вслед за ним, увлекая вместе с собой Портоса. По довольно запутанным коридорам Мольер привел их в кабинет Персерена. Старик, засучив рукава, перебирал куски роскошной парчи, затканной золотыми цветами. Он хотел посмотреть, какова игра этой ткани при том или ином освещении.
Заметив входящего д’Артаньяна, он отложил материю и пошел навстречу ему, не изображая особых восторгов, без чрезмерных любезностей, но с соблюдением должной учтивости.
— Господин капитан гвардии, — обратился он к д’Артаньяну, — вы, конечно, простите меня, не так ли, но я страшно занят.
— Да, да, господин Персерен, слышал, знаю, — костюмами короля. Говорят, что вы шьете его величеству три новых костюма?
— Пять, сударь, пять!
— Три или пять, меня это нисколько не беспокоит. Ведь я знаю, что они будут самыми красивыми на всем свете.
— Да, да, так думают все. Когда они будут закончены, тогда и станут самыми красивыми на всем свете, не буду оспаривать. Но прежде их следует сшить, господин капитан, а для этого необходимо время.
— О, у вас еще два дня впереди, и времени в вашем распоряжении даже больше, чем нужно, господин Персерен, — сказал д’Артаньян, напуская на себя полнейшее равнодушие.
Персерен поднял голову, как человек, не привыкший к тому, чтобы ему перечили даже тогда, когда дело идет о какой-нибудь его прихоти, но д’Артаньян не обратил никакого внимания на чело прославленного портного, чародея парчи, которое начало заволакиваться тучами. Он продолжал:
— Дорогой господин Персерен, я привел к вам заказчика.
— Что вы, что вы! — угрюмо бросил портной.
— Господина барона дю Валлона де Брасье де Пьерфона, — продолжал д’Артаньян.
Персерен отвесил поклон, не вызвавший никакого чувства симпатии в грозном Портосе, который с той поры, как вошел в кабинет, не переставал искоса смотреть на портного.
— Одного из моих ближайших друзей, — добавил в заключение д’Артаньян.
— К услугам господина барона, но не сейчас, а немного спустя.
— Немного спустя? Но когда же?
— Тогда, когда буду располагать временем.
— То же самое вы сказали моему слуге, — сказал с недовольным видом Портос.
— Возможно, — ответил портной, — я почти всегда занят по горло.
— Друг мой, — назидательно заметил Портос, — когда хочешь, время найдется.
Персерен побагровел, что у стариков, кожа которых поблекла от старости, всегда является опасным симптомом.
— Сударь, — буркнул он, — вы вольны заказывать себе платья у кого вам будет угодно.
— Погодите, Персерен, погодите, — произнес примирительным тоном капитан мушкетеров, — вы сегодня не слишком любезны. Ну что ж, я произнесу одно слово, которое заставит вас покориться. Барон дружен не только со мной, он к тому же один из друзей господина Фуке.
— Так, так! — промолвил портной. — Это меняет дело, да, да, меняет. — Затем, повернувшись к Портосу, он спросил: — Господин барон из числа сторонников господина суперинтенданта?
— Я сам по себе, — вскрикнул Портос, и как раз в этот момент поднялась портьера, давая проход еще одному свидетелю этой сцены.
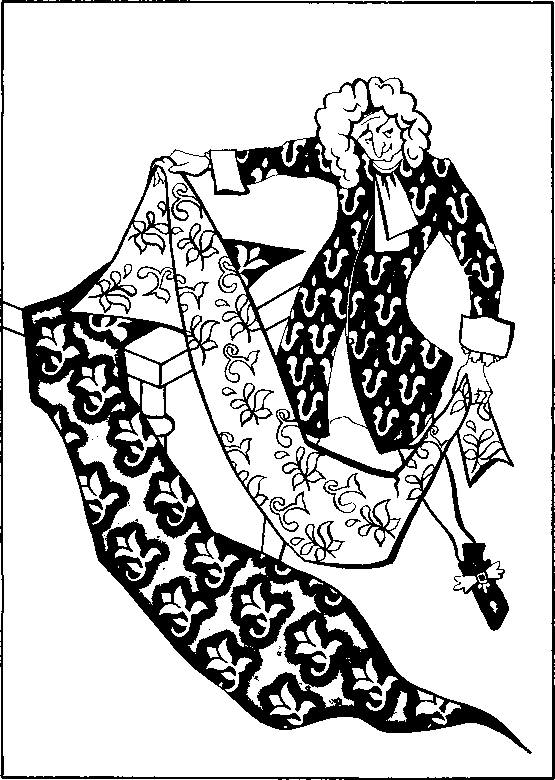
Мольер наблюдал. Д’Артаньян смеялся. Портос мысленно сыпал проклятиями.
— Дорогой Персерен, — поклонился д’Артаньян, — вы сошьете костюм господину барону; это я прошу вас об этом.
— Ради вас — ну что ж, не возражаю, господин капитан.
— Но это еще не все; вы безотлагательно приметесь за этот костюм.
— Раньше чем через неделю — немыслимо.
— Но это все равно как если бы вы решительно отказали: этот костюм необходим для празднества в Во.
— Повторяю, что это немыслимо, — настаивал на своем упрямый старик.
— Нет, нет, дорогой господин Персерен, погодите отказываться, в особенности если об этом попрошу вас и я, — произнес у двери ласковый голос, заставивший д’Артаньяна насторожиться. Это был Арамис.
— Господин д’Эрбле! — воскликнул портной.
— Арамис! — пробормотал д’Артаньян.
— Ах, наш епископ! — приветствовал его Портос.
— Здравствуйте, д’Артаньян! Здравствуйте, милый Портос! Здравствуйте, дорогие друзья! — сказал Арамис. — Так вот, любезнейший господин Персерен, сшейте костюм господину барону, и я ручаюсь, что, сшив его, вы доставите удовольствие господину Фуке.
Произнеся эти слова, он сделал знак Персерену, гласивший: "Берите заказ и прощайтесь с ними". Арамис, по-видимому, пользовался у Персерена даже большим влиянием, чем д’Артаньян; во всяком случае, портной поклонился, показывая тем самым, что он соглашается, и, повернувшись к Портосу, сухо заметил:
— Отправляйтесь к моим подмастерьям, они снимут с вас мерку.
Портос покраснел так, что на него было страшно смотреть.
Д’Артаньян понял, что вот-вот разразится гроза, и, обращаясь к Мольеру, вполголоса произнес:
— Дорогой господин Мольер, вы видите пред собой человека, который считает, что он подвергнет поношению свою честь, если позволит снять мерку со своих костей и своей плоти, дарованных ему Господом Богом; присмотритесь к этой весьма примечательной личности и используйте, мой высокочтимый Аристофан, свои наблюдения.
Мольер не нуждался в этом совете, он и так не спускал глаз с барона Портоса.
— Сударь, — сказал он, обращаясь к последнему, — если вы соблаговолите пройти вместе со мной, я устрою так, что закройщик, снимая с вас мерку, ни разу не прикоснется к вам.
— Но как же он это проделает, друг мой?
— Я утверждаю, что, снимая с вас мерку, вам не будут докучать локтями, футами или дюймами. Это новый способ, придуманный нами для знатных господ, которые настолько чувствительны, что не могут позволить какому-нибудь деревенщине касаться и ощупывать их. Мы сталкивались с людьми, которые не в состоянии вынести, чтобы с них была снята мерка, — ведь и в самом деле подобная церемония оскорбляет, по-моему, естественное достоинство человека — так вот, если и вы, сударь, случайно принадлежите к разряду таких людей…
— Черт возьми, полагаю, что да.
— Отлично, господин барон; в таком случае все устроится как нельзя лучше, и вы будете первым, кто испытает на себе придуманный нами способ.
— Но как же все-таки снимут эту чертову мерку?
— Сударь, — ответил, отвешивая поклон, Мольер, — если вы соблаговолите пройти вместе со мной, вы убедитесь в этом собственными глазами.
Арамис наблюдал эту сцену с неослабным вниманием. Быть может, он думал, основываясь на интересе, проявляемом к ней д’Артаньяном, что и он уйдет из кабинета портного вместе с Портосом, чтобы не упустить развязки столь забавно начатой сцены. Но, несмотря на всю свою проницательность, Арамис все же ошибся. Ушли только Портос и Мольер. Д’Артаньян остался у Персерена. Почему же он там остался? Из любопытства, и только; может быть, и ради того, чтобы провести несколько лишних мгновений в обществе Арамиса, своего доброго старого друга. После того как Портос и Мольер удалились, д’Артаньян подошел к епископу, что, по-видимому, не входило в планы последнего.
— И вам нужно новое платье, не так ли, дорогой друг?
Арамис усмехнулся.
— Нет.
— Но ведь вы поедете в Во?
— Поеду, но без нового платья. Вы забываете, дорогой д’Артаньян, что ваннский епископ не настолько богат, чтобы шить себе новое платье к каждому празднеству.
— Ба, — сказал, смеясь, мушкетер, — а поэмы, разве мы их больше не пишем?
— О д’Артаньян, — проговорил Арамис, — подобную чепуху я давно уже выбросил из головы.
— Так, так, — произнес д’Артаньян, отнюдь не уверенный в том, что Арамис говорит правду.
Что касается Персерена, то он снова погрузился в рассматривание своей парчи.
— Не думаете ли вы, дорогой д’Артаньян, — сказал с улыбкой Арамис, — что мы стесняем своим присутствием этого славного человека?
"Так вот оно что, — проворчал про себя мушкетер, — это значит ни больше ни меньше, что я стесняю тебя".
Затем он произнес уже вслух:
— Ну что ж, пойдемте; и, если вы так же свободны, как я, любезный мой Арамис…
— Нет, не совсем, я хотел…
— Ах, вам нужно переговорить наедине с Персереном? Почему же вы сразу не предупредили меня об этом?
— Наедине, — повторил Арамис. — Да, да, разумеется, наедине, но только вы, д’Артаньян, не в счет. Никогда, прошу вас поверить, не будет у меня тайн, которых я не мог бы открыть такому другу, как вы.
— О нет, нет, я удаляюсь, — настаивал д’Артаньян, хотя в голосе его и слышалось любопытство; замешательство Арамиса, как бы тонко он его ни маскировал, не укрылось от д’Артаньяна, а он знал, что в непроницаемой душе этого человека решительно все, даже то, что имеет видимость сущего пустяка, подчинено заранее намеченной цели; пусть эта цель была д’Артаньяну неведома и непонятна, но, изучив характер своего давнего друга, он понимал, что она, во всяком случае, должна быть немаловажною.
Арамис, заметив, что у д’Артаньяна появились какие-то подозрения, также стоял на своем:
— Оставайтесь, молю вас; вот в чем, в сущности, дело…
Затем, обернувшись к портному, он начал:
— Дорогой господин Персерен… Я бесконечно счастлив, д’Артаньян, что вы здесь.
— Вот как! — воскликнул капитан мушкетеров, веря в искренность Арамиса еще меньше, чем прежде.
Персерен не пошевелился. Взяв из его рук кусок ткани, в созерцание которой он был погружен, Арамис силою возвратил его к реальной действительности.
— Дорогой господин Персерен, — сказал он, — здесь господин Лебрен, один из живописцев господина Фуке.
"Чудесно, — подумал д’Артаньян, — но при чем тут Лебрен?"
Арамис посмотрел на д’Артаньяна, который сделал вид, будто рассматривает гравюры с изображением Марка Антония.
— И вы хотите, чтобы ему сшили такой же костюм, какие заказаны эпикурейцам? — спросил Персерен.
Произнеся с отсутствующим видом эти слова, достойный портной сделал попытку отобрать у Арамиса свою парчу.
— Костюм эпикурейца? — переспросил д’Артаньян тоном следователя.
— Воистину, — сказал Арамис, улыбаясь своей чарующей улыбкой, — воистину самою судьбой предначертано, что д’Артаньян этим вечером проникнет во все наши тайны. Вы, конечно, слышали об эпикурейцах господина Фуке, не так ли?
— Разумеется. Кажется, это своего рода кружок поэтов, состоящий из Лафонтена, Лоре, Пелисона, Мольера и кто его знает кого еще, и заседающий в Сен-Манде?
— Это верно. Так вот, мы одеваем наших поэтов в форму и зачисляем их на королевскую службу.
— Превосходно! Догадываюсь, что это сюрприз, который господин Фуке готовит для короля. Будьте спокойны! Если тайна господина Лебрена состоит только в этом, я не выдам ее.
— Вы очаровательны, как всегда, дорогой друг. Нет, господин Лебрен к этому непричастен; тайна, к которой он имеет касательство, гораздо значительнее, чем эта.
— Раз она не уступает в значительности первой из ваших тайн, то я предпочитаю не быть посвященным в нее, — заметил д’Артаньян, притворяясь, будто собрался уходить.
— Входите, Лебрен, входите, — сказал Арамис, открывая правой рукой боковую дверь и удерживая левою д’Артаньяна.
— Честное слово, я ничего не понимаю, — буркнул Персерен.
Как говорят в театре, Арамис выдержал паузу.
— Дорогой господин Персерен, — начал он, — вы шьете пять костюмов его величеству, не так ли? Один из парчи, один охотничий из сукна, один из бархата, один из атласа и последний, наконец, из флорентийской ткани?
— Верно, но откуда, монсеньер, вы все это знаете? — спросил изумленный Персерен.
— Все это исключительно просто, сударь: предстоят охота, празднество, концерт, прогулка и прием; пять названных мною тканей предусмотрены этикетом.
— Монсеньер, вы знаете решительно все на свете.
"И многое другое к тому же, будьте спокойны", — пробормотал д’Артаньян.
— Но, — вскричал, торжествуя, портной, — чего вы все же не знаете, хоть вы и великий князь церкви, чего не знает и не узнает никто и что знаем лишь король, мадемуазель де Лавальер и я, — это цвет материй и вид украшений, это покрой, это соотношение частей, это костюм в целом!
— Вот с этим всем, — сказал Арамис, — я и хотел бы при вашей помощи ознакомиться, дорогой господин Персерен.
— Никогда! — побледнел перепуганный насмерть портной, хотя Арамис произнес только что приведенные нами слова голосом самым ласковым и сладким как мед.
Притязания Арамиса показались Персерену после того, как он подумал над ними, настолько несообразными, настолько смешными, настолько чрезмерными, что он сначала тихонечко рассмеялся, затем принялся смеяться все громче и громче и кончил взрывами неудержимого хохота.
Д’Артаньян последовал примеру портного, но не потому, что находил эту просьбу и впрямь смешною; он имел в виду еще больше распалить Арамиса. Этот последний предоставил им смеяться, сколько они пожелают, и, когда они наконец утихли, проговорил:
— На первый взгляд может и в самом деле показаться, что я позволил себе нечто нелепое, — разве не так? Но д’Артаньян, воплощенное благоразумие, разумеется, подтвердит, дорогой господин Персерен, что я не мог поступить иначе и должен был обратиться к вам с своей просьбою.
— Как это? — удивился мушкетер, превращаясь в слух? благодаря своему поразительному чутью он уже понял, что до этой поры действовали только застрельщики, как говорят военные, и что настоящее сражение впереди.
— Как это? — недоверчиво сказал Персерен.
— Почему, — продолжал Арамис, — господин Фуке дает празднество в честь короля? Разве не для того, чтобы сделать ему приятное?
— Верно, — подтвердил Персерен.
Д’Артаньян выразил свое одобрение словам Арамиса кивком головы.
— Каким же образом он может достигнуть этого? Посредством обходительности, любезности, забавных выдумок; посредством целого ряда сюрпризов, вроде того, о котором мы только что говорили, — я имею в виду зачисление на королевскую службу поэтов.
— Прекрасно.
— Речь пойдет еще об одном сюрпризе, дорогой друг. Присутствующий здесь господин Лебрен — живописец, рисующий с исключительной точностью.
— Да, да, — сказал Персерен. — Я видел картины господина Лебрена и отметил себе, что костюмы у него выписаны весьма тщательно. Вот почему я тут же согласился сделать ему костюм, будь он такой же, какой шьется эпикурейцам, или в каком-нибудь ином роде.
— Дорогой господин Персерен, ваше обещание для нас драгоценно, но мы вспомним о нем несколько позже. А сейчас господин Лебрен имеет нужду не в новом костюме, который вы сошьете ему в скором будущем, но в костюмах, изготовленных вами для короля.
Персерен отскочил назад, и д’Артаньян, человек спокойный и выдержанный, привыкший размышлять над тем, что он видит, нисколько не удивился этой необычной резвости Персерена: настолько просьба, с которой Арамис рискнул обратиться к портному, была, и на взгляд капитана, странной и вызывающей.
— Костюмы, изготовленные для короля! Дать скопировать кому бы то ни было костюмы его величества короля?! О господин епископ! Простите меня, но в своем ли уме ваше преосвященство? — вскричал бледный портной, окончательно потеряв голову.
— Помогите же д’Артаньян, — сказал Арамис, расплываясь в улыбке и ничем не выражая досады, — помогите же убедить этого господина. Ведь вы понимаете, в чем тут дело, не так ли?
— Говоря по правде, не очень.
— Как! И вы тоже не понимаете, что господин Фуке хочет приготовить сюрприз королю, сюрприз, состоящий в том, чтобы король тотчас же по прибытии в Во увидел там свой новый портрет? И чтобы портрет, написанный с ошеломляющим сходством, изображал его в том же самом костюме, в каком он будет в тот день, когда увидит этот портрет?
— Так вот оно что, — вскричал мушкетер, почти поверивший Арамису, — ведь все рассказанное им было настолько правдоподобно, — да, да, дорогой Арамис, вы правы; да, да, ваша мысль просто великолепна. Готов спорить на что угодно, что она исходит от вас, Арамис!
— Не знаю, — ответил с небрежным видом ваннский епископ, — от меня или от господина Фуке…
Затем, обнаружив нерешительность на лице д’Артаньяна, он, наклонившись к Персерену, проговорил:
— Ну что ж, господин Персерен, что вы на это скажете? С нетерпением жду ваших слов.
— Я говорю, что…
— Вы хотите сказать, что в вашей воле ответить отказом. Я и сам это знаю и никоим образом не собираюсь насиловать вашу волю, мой милый; скажу больше, мне отлично понятна и та щепетильность, которая препятствует вам пойти навстречу идее господина Фуке; вы страшитесь, как бы не показалось, что вы льстите его величеству. Благородство души, господин Персерен, благородство!
Портной пробормотал что-то невнятное.
— Ив самом деле, это было бы откровенною лестью по отношению к нашему юному государю, — продолжал Арамис. — "Но, — сказал мне господин суперинтендант, — если Персерен откажет вам в вашей просьбе, скажите ему, что он от этого в моих глазах нисколько не потеряет и что я буду и впредь относиться к нему с большим уважением. Только…"
— Только?.. — повторил обеспокоенный Персерен.
— "Только, — продолжал Арамис, — мне придется сказать королю (помните, дорогой господин Персерен, что это говорит господин Фуке, а не я)… мне придется сказать королю: "Государь, у меня было намерение предложить вашему величеству ваше изображение; но щепетильность господина Персерена, быть может преувеличенная, но достойная уважения, воспротивилась этому".
— Воспротивилась! — вскричал портной, испуганный возлагаемой на него ответственностью. — Я противлюсь тому, чего желает господин Фуке, когда дело идет о том, чтобы доставить удовольствие королю? Ах, господин епископ, какое скверное слово сорвалось с ваших уст! Противиться! Благодарение Господу, уж я-то не произносил этого слова. Призываю в свидетели капитана мушкетеров его величества. Разве я противлюсь чему-нибудь, господин д’Артаньян?
Д’Артаньян замахал рукою, показывая, что хочет остаться нейтральным; он чувствовал всем своим существом, что тут кроется какая-то неведомая интрига, кто его знает — комедия или трагедия; он проклинал себя за то, что в этом случае так недогадлив, но пока, в ожидании дальнейшего хода событий, решил воздержаться.
Персерен, однако, устрашаемый мыслью, что королю могут сказать, будто он, Персерен, воспротивился подготовке сюрприза, который предполагали сделать его величеству, пододвинул Лебрену кресло и принялся извлекать из шкафа четыре сверкающих золотым шитьем великолепных костюма — пятый пока еще находился в работе у подмастерьев. Он развешивал эти произведения портновского искусства одно за другим на манекенах, привезенных некогда из Бергамо, которые, попав во Францию во времена Кончини, были подарены Персерену Второму маршалом д’Анкром, — это случилось после поражения итальянских портных, разоренных успешною конкуренцией Персеренов.
Художник приступил к зарисовкам, затем принялся раскрашивать их.
Арамис, стоявший возле него и пристально наблюдавший за каждым движением его кисти, внезапно остановил Лебрена:
— Мне кажется, что вы не вполне уловили тона, дорогой господин Лебрен. Ваши краски обманут вас, и на полотне не удастся воспроизвести полного сходства, которое нам решительно необходимо. Очевидно, чтобы передать оттенки с большей точностью, требуется работать подольше.
— Это верно, — сказал Персерен, — но времени у нас очень мало, и тут, господин епископ, я, согласитесь, совершенно бессилен.
— В таком случае, — спокойно заметил Арамис, — наша попытка обречена на провал, и это произойдет из-за неверной передачи оттенков.
Между тем Лебрен срисовывал ткань и шитье очень точно, и Арамис наблюдал за его работой с плохо скрываемым нетерпением.
"Что за чертову комедию тут разыгрывают?" — продолжал спрашивать себя мушкетер.
— Дело у нас решительно не пойдет, — молвил Арамис. — Господин Лебрен, собирайте свои ящики и сворачивайте холсты.
— Верно, верно! — вскричал раздосадованный художник. — Здесь ужасное освещение.
— Это мысль, Лебрен, да, да, это мысль. А что, если б мы с вами располагали образчиком каждой ткани, и временем, и подобающим освещением…
— О, тогда! — воскликнул Лебрен. — Тогда я готов поручиться, что все будет в порядке.
"Так, так, — сказал себе д’Артаньян, — тут-то и есть узелок всей интриги. Ему требуется образец каждой ткани. Но, черт подери, даст ли ему эти образчики Персерен?"
Персерен, выбитый с последних позиций и к тому же обманутый притворным добродушием Арамиса, отрезал пять образчиков, которые и отдал епископу.
— Так будет лучше. Не правда ли? — обратился Арамис к д’Артаньяну. — Ваше мнение по этому поводу?
— Мое мнение, дорогой Арамис, — проговорил д’Артаньян, — что вы неизменно все тот же.
— И следовательно, неизменно ваш друг, — подхватил епископ своим чарующим голосом.
— Да, да, конечно, — громко сказал д’Артаньян. Затем про себя добавил: "Если ты, сверхиезуит, обманул меня, то я отнюдь не хочу быть одним из твоих сообщников, и, чтобы не сделаться им, теперь самое время удалиться". — Прощайте, Арамис, — продолжал д’Артаньян, громко обращаясь к епископу, — прощайте! Пойду поищу Портоса.
— Подождите минутку, — сказал Арамис, засовывая в карман образчики, — подождите, я закончил дела и буду в отчаянии, если не перекинусь на прощание несколькими словами с нашим дорогим другом.
Лебрен сложил свои краски и кисточки, Персерен убрал королевские костюмы в тот самый шкаф, из которого они были извлечены, Арамис ощупал карман, желая удостовериться, что образчикам не грозит опасность вывалиться оттуда, и они все вместе вышли из кабинета портного.
XXXII
КАК, БЫТЬ МОЖЕТ, У МОЛЬЕРА ВПЕРВЫЕ ВОЗНИК ЗАМЫСЕЛ ЕГО КОМЕДИИ "МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ"
Д’Артаньян обнаружил Портоса в соседней комнате, но это был уже не прежний озадаченный и раздраженный Портос, а Портос радостно возбужденный, сияющий, любезный, очаровательный. Он оживленно болтал с Мольером, который смотрел на него с восторгом, как человек, не только никогда не видевший ничего более примечательного, но и вообще чего-либо подобного.
Арамис направился прямо к Портосу и протянул ему свою тонкую, белую руку, которая тотчас же потонула в гигантской руке его старого друга. К этой операции Арамис неизменно приступал с некоторым страхом, но на этот раз дружеское рукопожатие не причинило ему особых страданий. Затем ваннский епископ обратился к Мольеру.
— Так вот, сударь, — сказал он ему, — едете ли вы со мной в Сен-Манде?
— С вами, монсеньер, я поеду куда угодно, — ответил Мольер.
— В Сен-Манде! — воскликнул Портос, пораженный короткими отношениями между неприступным ваннским епископом и никому не ведомым подмастерьем. — Вы увозите, Арамис, этого господина в Сен-Манде?
— Да, — ответил с улыбкой Арамис, — да, увожу его в Сен-Манде, и у нас мало времени.
— И затем, мой милый Портос, — проговорил д’Артаньян, — господин Мольер не совсем то, чем кажется.
— То есть как? — удивился Портос.
— Господин Мольер — один из главных приказчиков Персерена, и его ждут в Сен-Манде, где он должен примерить костюмы, заказанные господином Фуке для эпикурейцев в связи с предстоящим празднеством.
— Да, да! Совершенно верно, — подтвердил Мольер.
— Итак, — сказал Арамис, — если вы закончили ваши дела с господином дю Валлоном, поехали, дорогой господин Мольер!
— Мы кончили, — заявил Портос.
— И довольны? — спросил его д’Артаньян.
— Вполне, — ответил Портос.
Мольер распрощался с Портосом, отвесив ему несколько почтительнейших поклонов, и пожал руку, которую капитан мушкетеров украдкой протянул ему.
— Сударь, — сказал Портос на прощанье с преувеличенной учтивостью, — сударь, прошу вас прежде всего о безукоризненной точности.
— Завтра же вы получите ваш костюм, господин барон, — ответил Мольер.
И он удалился вместе с ваннским епископом.
Тогда д’Артаньян, взяв под руку Портоса, спросил его:
— Что же проделал с вами этот портной, сумевший так понравиться вам?
— Что он проделал со мной, мой друг, что он проделал?! — вскричал в восторге Портос.
— Да, я спрашиваю, что же он с вами проделал?
— Друг мой, он сумел сделать то, чего до сих пор не делал ни один из представителей всей портновской породы. Он снял мерку, ни разу не прикоснувшись ко мне.
— Что вы! Расскажите же, друг мой!
— Прежде всего он велел разыскать — уж право не знаю где — целый ряд манекенов различного роста, надеясь, что, быть может, среди них найдется что-нибудь подходящее и для меня. Но самый большой — манекен тамбурмажора швейцарцев, — и тот оказался на два дюйма ниже и на полфута меньше в объеме, чем я.
— Вот как!
— Это настолько же истинно, как то, что я имею честь разговаривать с вами, мой дорогой д’Артаньян. Но господин Мольер — великий человек или, по меньшей мере, великий портной, и эти затруднения его ни в малой степени не смутили.
— Что же он сделал?
— О, чрезвычайно простую вещь. Это неслыханно, честное слово, неслыханно! До чего же тупы все остальные, раз они сразу же не додумались до этого способа! От скольких неприятностей и унижений они могли бы избавить меня!
— Не говоря уже о костюмах, мой милый Портос.
— Да, да, не говоря уже о трех десятках костюмов.
— Но все же объясните мне метод господина Мольера.
— Мольера? Вы зовете его этим именем, так ведь? Ну что ж, запомнить его не составляет труда.
— Да, или Покленом, если это для вас предпочтительнее.
— Нет, для меня предпочтительнее Мольер. Когда мне захочется вспомнить, как зовут этого господина, я подумаю о вольере, и так как в Пьерфоне у меня есть вольера…
— Чудесно, друг мой! Но в чем же заключается его метод?
— Извольте! Вместо того чтобы расчленять человека на части, как поступают эти бездельники, вместо того чтобы заставлять меня нагибаться, выворачивать руки и ноги и проделывать всевозможные отвратительные и унизительные движения…
Д’Артаньян одобрительно кивнул головой.
— "Сударь, — сказал он мне, — благородный человек должен самолично снимать с себя мерку. Будьте любезны приблизиться к этому зеркалу". Я подошел к зеркалу. Должен сознаться, что я не очень-то хорошо понимал, чего хочет от меня этот Вольер.
— Мольер.
— Да, да, Мольер, конечно, Мольер. И так как я все еще опасался, что с меня все-таки начнут снимать мерку, то сказал ему: "Действуйте поосторожнее, я очень боюсь щекотки, предупреждаю вас", — но он ответил мне ласково и учтиво (надо признаться, что он отменно вежливый малый): "Сударь, чтобы костюм сидел хорошо, он должен быть сделан в соответствии с вашей фигурой. Ваша фигура в точности воспроизводится зеркалом. Мы снимем мерку не с вас, а с зеркала".
— Недурно, — одобрил д’Артаньян, — ведь вы видели себя в зеркале; но скажите, друг мой, где ж они нашли зеркало, в котором вы смогли поместиться полностью?
— Дорогой мой, это было зеркало, в которое смотрится сам король.
— Но король на полтора фута ниже.
— Не знаю уж, как это все у них делается: думаю, что они, конечно, льстят королю, но зеркало даже для меня было чрезмерно большим. Правда, оно было составлено из девяти венецианских зеркал — три по горизонтали и столько же по вертикали.
— О друг мой, какими поразительными словами вы пользуетесь! И где-то вы их набрались?
— На Бель-Иле, друг мой, на Бель-Иле. Там я слышал их, когда Арамис давал указания архитектору.
— Очень хорошо, но вернемся к нашему зеркалу.
— Так вот этот славный Вольер…
— Мольер.
— Да, вы правы… Мольер. Теперь-то я уж не спутаю этого. Так вот, этот славный Мольер принялся расчерчивать мелом зеркало, нанося на него линии, соответствующие очертаниям моих рук и плеч, и он при этом все время повторял правило, которое я нашел замечательным: "Необходимо, чтобы платье не стесняло того, кто его носит", — говорил он.
— Да, это великолепное правило, но — увы! — оно не всегда применяется в жизни.
— Вот потому-то я и нашел его еще более поразительным, когда Мольер стал развивать его.
— Так он, стало быть, развивал его?
— Черт возьми, и как!
— Послушаем, как же он развивал его.
— "Может статься, — говорил он, — что вы, оказавшись в затруднительном положении, не пожелаете скинуть с себя одежду".
— Это верно, — сказал д’Артаньян.
— "Например"… — продолжал господин Вольер.
— Мольер!
— Да, да, господин Мольер! "Например, — продолжал господин Мольер, — вы столкнетесь с необходимостью обнажить шпагу в тот момент, когда ваше парадное платье будет на вас. Как вы поступите в этом случае?"
— "Я сброшу с себя все лишнее", — ответил я.
"Нет, зачем же?" — возразил он.
"Как же так?"
"Я утверждаю, что платье должно сидеть до того ловко, чтобы не стеснять ваших движений, даже если вам придется обнажить шпагу".
"Так вот оно что!"
"Займите оборонительную позицию", — продолжал он. Я сделал такой замечательный выпад, что вылетело два оконных стекла.
"Пустяки, пустяки, — сказал он, — оставайтесь, пожалуйста, в таком положении, как сейчас". Левую руку я поднял вверх и изящно выгнул, так что манжет свисал вниз, а кисть легла сводом, тогда как правая рука была выброшена вперед всего лишь наполовину и защищала грудь кистью, а талию — локтем.
— Да, — одобрил д’Артаньян, — это и есть настоящая оборонительная позиция, позиция, можно сказать, классическая.
— Вот именно, друг мой, — вы нашли подходящее слово. В это время Вольер…
— Мольер!
— Послушайте д’Артаньян, я, знаете ли, предпочел бы называть его тем, другим именем… как он там еще называется?
— Покленом.
— Уж лучше пусть он будет Покленом.
— А почему вы рассчитываете запомнить это имя скорее, чем первое?
— Понимаете ли… его зовут Покленом, не так ли?
— Да.
— Ну так я вспомню госпожу Кокнар.
— Отлично.
— Я заменю Кок на Пок, и нар на лен и вместо Кокнар у меня выйдет Поклен.
— Чудесно! — вскричал д’Артаньян, ошеломленный словами Портоса. — Но продолжайте, друг мой, я с восхищением слушаю вас.
— Итак, этот Коклен начертил на зеркале мою руку.
— Простите, но его имя Поклен.
— А я как сказал?
— Вы сказали Коклен.
— Да, вы правы. Так вот, это Поклен рисовал на зеркале мою руку; на это ушло, однако, немало времени… он довольно долго смотрел на меня. Я и в самом деле был просто великолепен.
"А вас это не утомляет?" — спросил он меня. — "Слегка, — сказал я в ответ, чуть-чуть сгибая колени. — Однако я могу простоять таким образом еще час или больше". — "Нет, нет, я никоим образом не допущу этого! У нас найдутся услужливые ребята, которые сочтут своим долгом поддержать ваши руки, как во время оно поддерживали руки пророков, когда они обращались с мольбою к Господу". — "Отлично", — ответил я. "Но вы не сочтете подобную помощь унизительной для себя?" — "О нет, мой милый, — сказал я ему в ответ, — полагаю, что позволить себя поддерживать и позволить снять с себя мерку — это вещи очень и очень различные".
— Ваше рассуждение чрезвычайно глубокомысленно.
— После этого, — продолжал Портос, — он подал знак; подошли двое подмастерьев; один стал поддерживать мне левую руку, тогда как другой с бесконечной предупредительностью сделал то же самое с правой.
"Третий подмастерье — сюда!" — крикнул он.
Подошел третий.
"Поддерживайте поясницу господина барона".
И подмастерье стал поддерживать мне поясницу.
— Так вы и позировали? — спросил д’Артаньян.
— Так и позировал, пока Покнар расчерчивал зеркало.
— Поклен, друг мой.
— Вы правы… Поклен. Послушайте, д’Артаньян, я предпочитаю называть этого человека Вольером.
— Хорошо, пусть будет по-вашему.
— Все это время Вольер расчерчивал зеркало.
— Это было неплохо придумано.
— Еще бы! Мне чрезвычайно понравился этот способ; он очень почтителен и отводит каждому его место.
— И чем же все это кончилось?
— Тем, что никто так и не прикоснулся ко мне.
— Кроме трех подмастерьев, которые вас поддерживали.
— Разумеется, но я уже, кажется, изложил, какое различие между тем, чтобы позволить себя поддерживать, и тем, чтобы позволить снять с себя мерку.
— Вы правы, — сказал д’Артаньян, говоря одновременно себе самому: "Черт возьми, или я глубоко заблуждаюсь, или этот мошенник Мольер и в самом деле получил от меня драгоценный подарок, и в какой-нибудь из его комедий мы вскоре увидим сцену, списанную с натуры".
Портос улыбался.
— Чему вы смеетесь? — спросил его д’Артаньян.
— Нужно ли объяснять? Я улыбаюсь, так как считаю себя счастливцем.
— Безусловно, я не знаю ни одного человека счастливее вас. Но какое же новое счастье привалило вам, мой милый Портос?
— Поздравьте меня.
— С удовольствием.
— По-видимому, я первый, с кого сняли этим способом мерку.
— Вы уверены в этом?
— Почти. Некоторые знаки, которыми обменялся Вольер с подмастерьями, внушили мне эту уверенность.
— Но, дорогой друг, меня это нисколько не удивляет, раз вы имели дело с Мольером.
— Вольером!
— Да нет же, черт подери! Зовите его, Бог с вами, Вольером, но для меня он и впредь будет Мольер. Так вот, я сказал, что меня это нисколько не удивляет, раз вы имели дело с Мольером. Он человек очень смышленый, и именно вы внушили ему блестящую мысль.
— И я уверен, что она послужит ему в дальнейшем.
— Еще бы! Думаю, что она и впрямь послужит ему, и притом весьма основательно. Ибо, видите ли, дорогой мой Портос, из наших сколько-нибудь известных портных не кто иной, как Мольер лучше всех одевает наших баронов, наших графов и наших маркизов… в точности по их мерке.
Произнеся эти слова, которые мы не собираемся обсуждать ни со стороны остроумия, ни с точки зрения их глубины, д’Артаньян, увлекая за собой Портоса, вышел от Персерена и сел вместе с бароном в карету. Мы их в ней и оставим и, если это угодно читателю, последуем в Сен-Манде за Мольером и Арамисом.
XXXIII
УЛЕЙ, ПЧЕЛЫ И МЕД
Ваннский епископ весьма недовольный встречей с д’Артаньяном у Персерена, возвратился в Сен-Манде в достаточно дурном настроении. Мольер, напротив, восхищенный тем, что ему удалось сделать такой превосходный набросок и что, захоти он превратить этот набросок в картину, оригинал у него всегда под рукой, — Мольер вернулся в самом радостном расположении духа.
Вся левая сторона первого этажа дома была заполнена эпикурейцами; тут собрались все парижские знаменитости из числа тех, с кем Фуке был близок. Все они, уединившись в своих углах, занимались, подобно пчелам в ячейках сот, изготовлением меда для королевского пирога, которым Фуке предполагал угостить его величество Людовика XIV на предстоящем празднестве в Во.
Пелисон, подперев рукой голову, возводил фундамент пролога к "Несносным" — трехактной комедии, которую предстояло представить Поклену де Мольер, как говорил д’Артаньян, или Коклену де Вольер, как говорил Портос.
Лоре со всем простодушием, присущим ремеслу журналиста— ведь журналисты всех времен были всегда просто душными, — сочинял описание еще не состоявшегося празднества в Во.
Лафонтен переходил от одних к другим, как потерянная, рассеянная, назойливая и несносная тень, гудящая и нашептывающая каждому на ухо всякий поэтический вздор. Он столько раз мешал Пелисону сосредоточиться, что тот наконец, подняв недовольно голову, попросил:
— Отыскали бы мне, Лафонтен, хорошую рифму; ведь вы утверждаете, что прогуливаетесь в рощах Парнаса.
— Какая вам нужна рифма? — спросил баснописец, именуемый так г-жой де Севинье.
— Мне нужна рифма к свет.
— Бред, — отвечал Лафонтен.
— Но, друг мой, куда же вы сунетесь со своим бредом, когда речь идет о прелестях Во? — вставил Лоре.
— К тому же, — заметил Пелисон, — это не рифма.
— Как так не рифма? — вскричал озадаченный Лафонтен.
— У вас отвратительная привычка, мой милый, привычка, которая помешает вам стать первоклассным поэтом. Вы небрежно рифмуете.
— Вы это и вправду находите, Пелисон?
— Да, нахожу. Знайте же, что всякая рифма плоха, если можно отыскать лучшую.
— В таком случае отныне я пишу только прозой, — сказал Лафонтен, воспринявший урок Пелисона всерьез. — Я и так не раз уже думал, что я шарлатан, а не поэт, вот что я такое! Да, да, да, это — чистая правда.
— Не говорите этого, друг мой! Вы слишком к себе придирчивы. В ваших баснях много хорошего.
— И для начала, — продолжал Лафонтен, — Я сожгу сотню стихов, которые я только что сочинил.
— Где же ваши стихи?
— В голове.
— Но как же вы их сожжете, раз они у вас в голове?
— Это правда. Но если я их не предам сожжению, они навеки застрянут в моем мозгу, и я никогда не забуду их.
— Черт возьми, — заметил Лоре, — это опасно, ведь так недолго и спятить.
— Черт, черт, черт, черт! Как же мне быть?
— Я нашел способ, — предложил Мольер, входя в комнату.
Какой?
— Сначала вы записываете свои стихи на бумаге, а потом сжигаете их.
— До чего просто! Никогда бы мне не придумать такого! Как же он остроумен — этот дьявол Мольер! — сказал Лафонтен.
Потом, ударив себя по лбу, он добавил:
— Ты всегда будешь ослом, Жан де Лафонтен.
— Что вы говорите, друг мой? — спросил Мольер, подходя к Лафонтену.
— Я говорю, что всегда буду ослом, дорогой собрат, — ответил Лафонтен, тяжко вздыхая и устремив на Мольера опечаленные глаза. — Да, друг мой, — продолжал он со всё возрастающей печалью в голосе, — да, да, я, оказывается, прескверно рифмую.
— Это большой недостаток.
— Вот видите! Я негодяй!
— Кто это сказал?
— Пелисон. Разве не так, Пелисон?
Пелисон, погруженный в работу, ничего не ответил.
— Но если Пелисон сказал, что вы негодяй, — воскликнул Мольер, — то выходит, что он нанес вам оскорбление!
— Вы полагаете?
— И, дорогой мой, советую, раз вы дворянин, не оставлять такого оскорбления безнаказанным. Вы когда-нибудь дрались на дуэли?
— Один-единственный раз; мой противник был лейтенантом легкой кавалерии.
Что же он сделал вам?
— Надо думать, он соблазнил мою жену.
— А, — кивнул Мольер, слегка побледнев.
Но так как признание Лафонтена привлекло внимание остальных, Мольер насмешливо улыбнулся и снова принялся расспрашивать Лафонтена:
— И что же вышло из этой дуэли?
— Вышло то, что противник выбил из моих рук оружие и извинился передо мной, обещая, что его ноги больше не будет у меня в доме.
— И вы были удовлетворены?
— Нет, напротив. Я поднял шпагу и твердо сказал: "Послушайте, сударь, я дрался с вами не потому, что вы любовник моей жены, но мне сказали, что я должен драться, и я послал вызов. И, поскольку я никогда не был так счастлив, как с того времени, что вы стали ее любовником, будьте любезны по-прежнему бывать у меня или, черт возьми, давайте возобновим поединок". Таким образом, ему пришлось остаться любовником моей дорогой супруги, а я продолжаю быть самым счастливым мужем на свете.
Все разразились хохотом. Один Мольер провел рукой по глазам. Почему? Чтобы стереть слезу или, быть может, подавить вздох. Увы, известно, что Мольер был моралистом, но не был философом.
— Все равно, — сказал он, — вернемся к началу нашего разговора. Пелисон нанес вам оскорбление.
— Ах да! Я об этом уже забыл. К тому же Пелисон был тысячу раз прав. Но что меня огорчает по-настоящему, мой дорогой, так это то, что наши эпикурейские костюмы, видимо, не будут готовы.
— Вы рассчитывали быть на празднестве в вашем костюме?
— И на празднестве, и после празднества. Моя служанка осведомила меня, что мой костюм уже не совсем свеж.
— Черт возьми! Ваша служанка права; он более чем несвеж.
— Видите ли, я оставил его на полу у себя в кабинете, и моя кошка…
— Кошка?
— Да, моя кошка окотилась на нем, и от этого он несколько пострадал.
Мольер громко расхохотался. Пелисон и Лоре последовали его примеру.
В этот момент появился ваннский епископ со свертком чертежей и листами пергамента, и будто ангел смерти дохнул ледяным холодом и заморозил непринужденное и игривое воображение; бледное лицо этого человека вспугнуло, казалось, граций, жертвенные дары которым приносил Ксенократ: в мастерской воцарилась мертвая тишина, и все с сосредоточенным видом снова взялись за перья.
Арамис роздал всем присутствующим пригласительные билеты на предстоящее празднество и передал им благодарность от имени Фуке. Суперинтендант, сказал он, занятый работой у себя в кабинете, лишен возможности повидаться с ними, но он просит прислать плоды их дневного труда и доставить ему, таким образом, отдохновение от его упорных ночных занятий.
При этих словах головы всех наклонились. Даже Лафонтен присел за стол и принялся строчить на листе тонкой бумаги; Пелисон окончательно выправил свой пролог; Мольер сочинил пятьдесят новых стихов, на которые его вдохновило посещение Персерена; Лоре дал статью — пророчество об изумительном празднестве; и Арамис, нагруженный добычей, словно владыка пчел — большой черный шмель, изукрашенный пурпуром и золотом, — молчаливый и озабоченный, направился в отведенные ему комнаты. Но прежде чем удалиться, он обратился ко всем:
— Помните, господа, завтра вечером мы выезжаем.
— В таком случае мне нужно предупредить об этом домашних, — сказал Мольер.
— Да, да, мой бедный Мольер! — произнес, улыбаясь, Лоре. — Он любит своих домашних.
— Он любит, это так, — ответил Мольер, сопровождая свои слова нежной и грустной улыбкой, — но он любит еще вовсе не означает, что и его любят!
— Что до меня, — сказал Лафонтен, — то меня любят в Шато-Тьерри, в этом я убежден.
В этот момент снова вошел Арамис.
— Кто-нибудь поедет со мной? Я отправляюсь в Париж через четверть часа, мне нужно только переговорить с господином Фуке. Предлагаю свою карету.
— Отлично, — отозвался Мольер. — Принимаю ваше приглашение и тороплюсь.
— А я пообедаю здесь, — сказал Лоре. — Господин де Гурвиль обещал угостить раками. Предложены мне будут раки…
— Ищи рифму, Лафонтен.
Арамис, смеясь от всего сердца, вышел из комнаты. За ним последовал Мольер. Они уже успели спуститься с лестницы, как вдруг Лафонтен, приоткрыв дверь, крикнул:
В награду за труды, писаки,
Предложены вам будут раки.
Хохот эпикурейцев усилился, и в тот момент, когда Арамис входил в кабинет Фуке, долетел до слуха последнего.
Что до Мольера, то Арамис поручил ему заказать лошадей, пока он перемолвится с суперинтендантом несколькими словами.
— О, как они там смеются! — вздохнул Фуке.
— А вы, монсеньер, вы больше уже не смеетесь?
— Я потерял способность смеяться, господин д’Эр-бле.
— День празднества подходит.
— А деньги уходят.
— Не говорил ли я вам, что это моя забота?
— Вы мне сулили миллионы.
— Вы и получите их на следующий день после прибытия короля.
Фуке обратил на Арамиса пристальный взгляд и провел своей ледяною рукой по влажному лбу. Арамис понял, что суперинтендант сомневается в нем или думает, что не в его силах добыть обещанные им деньги. Мог ли Фуке поверить, что неимущий епископ, бывший аббат, бывший мушкетер, сможет достать подобную сумму?
— Вы сомневаетесь? — спросил Арамис.
Фуке улыбнулся и покачал головой.
— Недоверчивый вы человек!
— Дорогой д’Эрбле, — сказал Фуке, — если я упаду, то, по крайней мере, с такой высоты, что, падая, разобьюсь.
Потом, встряхнув головой, как бы затем, чтобы отогнать подобные мысли, он спросил:
— Откуда вы теперь, друг мой?
— Из Парижа. И прямо от Персерена.
— Зачем же вы сами ездили к Персерену? Не думаю, чтобы вы придавали такое уж большое значение костюмам наших поэтов.
— Нет, но я заказал сюрприз.
— Сюрприз?
— Да, сюрприз, который вы сделаете его величеству королю.
— И он дорого обойдется?
— В каких-нибудь сто пистолей, которые вы дадите Лебрену.
— А, так это картина! Ну что ж, тем лучше! А что она будет изображать?
— Я расскажу вам об этом позднее. Кроме того, я заодно посмотрел и костюмы наших поэтов.
— Вот как! И они будут нарядными и богатыми?
— Восхитительными! Лишь у немногих вельмож будут равные им. И все заметят различие между придворными, обязанными своим блеском богатству, и теми, кто обязан им дружбе.
— Вы, как всегда, остроумны и благородны, дорогой мой прелат!
— Ваша школа, — ответил ваннский епископ.
Фуке пожал ему руку.
— Куда вы теперь?
— В Париж, лишь только вы вручите мне письмо к господину де Лиону.
— А что вам нужно от господина де Лиона?
— Я хочу, чтобы он подписал приказ.
— Приказ об аресте? Вы хотите кого-нибудь засадить в Бастилию?
— Напротив, я хочу освободить из нее одного бедного малого, одного молодого человека, можно сказать ребенка, который сидит взаперти почти десять лет, и все за два латинских стиха, которые он сочинил против иезуитов.
— За два латинских стиха! За два латинских стиха томиться в тюрьме десять лет? О, несчастный!
— Да.
— И за ним нет никаких других преступлений?
— Если не считать этих стихов, он столь же ни в чем не повинен, как вы или я.
— Ваше слово?
— Клянусь моей честью.
— И его зовут?
— Сельдон.
— Нет, это ужасно! И вы знали об этом и ничего мне не сказали?
— Его мать обратилась ко мне только вчера, монсеньер.
— И эта женщина очень бедна?
— Она дошла до крайней степени нищеты.
— Господи Боже, ты допускаешь порой такие несправедливости, и я понимаю, что существуют несчастные, которые сомневаются в твоем бытии!
Фуке, взяв перо, быстро написал несколько строк своему коллеге де Лиону.
Арамис, получив из рук Фуке это письмо, собрался уходить.
— Погодите, — остановил его суперинтендант.
Он открыл ящик и, вынув из него десять банковых билетов, вручил их Арамису. Каждый билет был достоинством в тысячу ливров.
— Возьмите, — сказал Фуке. — Возвратите свободу сыну, а матери отдайте вот это, но только не говорите ей…
— Чего монсеньер?
— Того, что она на десять тысяч ливров богаче меня; она скажет, пожалуй, что как суперинтендант я никуда не гожусь. Идите! Надеюсь, что Господь благословит тех, кто не забывает о бедных.
— И я тоже надеюсь на это, — ответил Арамис, пожимая с чувством руку Фуке.
И он торопливо вышел, унося письмо к Лиону и банковые билеты для матери бедняги Сельдона. Прихватив с собой Мольера, который уже начал терять терпение, он снова помчался в Париж.
XXXIV
ОПЯТЬ УЖИН В БАСТИЛИИ
На башенных часах Бастилии пробило семь, на тех знаменитых башенных часах, которые, как, впрочем, и вся обстановка этого ужасного места, были пыткой для несчастных узников, напоминая им о страданиях, которые им предстоят в течение ближайшего часа; часы Бастилии, украшенные лепкою во вкусе того времени, изображали св. Петра в оковах.
Наступил час ужина. Скрипя огромными петлями, распахивались тяжелые двери, пропуская подносы и корзины с различными кушаньями, качество которых, как мы знаем от самого де Безмо, находилось в прямой зависимости от звания узника.
Нам известны уже теории, разделяемые на этот счет почтенным Безмо, полновластным распорядителем гастрономических удовольствий и шеф-поваром королевской тюрьмы. Поднимаемые по крутым лестницам и набитые снедью корзины несли на дне честно наполненных винных бутылок хоть немного забвения заключенным.
В этот час ужинал и сам комендант. Сегодня он принимал гостя, и вертел на его кухне вращался медленнее обычного. Жареные куропатки, обложенные перепелами, и в свою очередь, окружающие шпигованного зайчонка; куры в собственном соку, окорок, залитый белым вином, артишоки из Гипускоа и раковый суп, не считая других супов, а также закусок, составляли ужин коменданта.
Безмо сидел за столом, потирая руки и не отрывая взгляда от ваннского епископа, который, шагая по комнате в высоких сапогах, словно кавалерист, весь в сером, со шпагою на боку, беспрестанно повторял, что он голоден, и выказывал признаки живейшего нетерпения.
Господин де Безмо де Монлезен не привык к откровенности его преосвященства ваннского монсеньера, а между тем Арамис в этот вечер, придя в игривое настроение, делал ему признание за признанием. Прелат снова стал похожим на мушкетера. Епископ шалил. Что касается до Безмо, то он, с легкостью, свойственной вульгарным натурам, в ответ на несколько большую, чем обычно, непринужденность в обращении своего гостя стал держать себя недопустимо развязно.
— Сударь, — обратился он к Арамису, — ибо называть вас монсеньером я, говоря по правде, сегодня вечером не решаюсь.
— Вот и хорошо, — сказал Арамис, — зовите меня, пожалуйста, сударем: ведь я в сапогах.
— Так вот, сударь, знаете ли вы, кого вы мне сегодня напоминаете?
— Нет, честное слово, не знаю! — ответил ваннский епископ, наливая себе вина. — Надеюсь все же, что прежде всего я напоминаю вам приятного гостя.
— И не одного, а двоих. Франсуа, друг мой, закройте окно; как бы ветер не обеспокоил его преосвященство, господина епископа.
— И пусть он оставит нас, — добавил Арамис. — Ужин подан, а съесть его мы сумеем и без лакея. Люблю посидеть в небольшом обществе, наедине с другом.
Безмо почтительно поклонился.
— Мы сможем сами поухаживать за собою, — продолжал Арамис.
— Идите, Франсуа, — приказал Безмо, — итак, я говорил, что ваше преосвященство напоминаете мне не одного, а двоих; один из них весьма знаменит — это покойный кардинал, великий кардинал, тот, что взял Ла-Рошель, — у него, кажется, были такие же сапоги, как и у вас.
— Да, клянусь честью! — сказал Арамис. — Ну а кто же второй?
— Второй — это некий мушкетер, очень красивый, очень храбрый, очень дерзкий, очень счастливый, который из аббата сделался мушкетером, а из мушкетера — аббатом.
Арамис снизошел до улыбки.
— Из аббата, — продолжал Безмо, ободренный улыбкой его преосвященства епископа ваннского, — из аббата епископом, а из епископа…
— Ах, сделайте милость, остановитесь! — сказал Арамис.
— Говорю вам, сударь, я вижу в вас кардинала.
— Оставим это, любезнейший господин де Безмо. И хотя, как вы заметили, на мне сегодня кавалерийские сапоги, тем не менее я не хотел бы ссориться с церковью даже на один этот вечер.
— А все-таки у вас дурные намерения, монсеньер.
— О, сознаюсь, дурные, как все мирское.
— Вы бродите по городу, по переулкам, в маске?
— Вот именно, в маске.
— И по-прежнему пускаете в ход вашу шпагу?
— Пожалуй, что так, но только в тех случаях, когда меня вынуждают к этому. Будьте добры, кликните Франсуа.
— Вино перед вами.
— Он мне нужен не для вина: здесь очень жарко, а окно между тем закрыто.
— Когда я ужинаю, то всегда закрываю окно, чтобы не слышать, как проходит патруль или прибывают курьеры.
— Вот как… значит, если окно открыто, вы слышите их?
— Слишком хорошо, а это всегда неприятно. Вы понимаете?
— Но здесь положительно задыхаешься. Франсуа!
Франсуа немедленно явился на зов.
— Откройте, прошу вас, окно, любезнейший Франсуа, — произнес Арамис. — Ведь вы разрешите, господин де Безмо?
— Монсеньер, вы здесь у себя дома, — сказал в ответ комендант.
Франсуа отворил окно.
— Знаете, — заговорил де Безмо, — теперь, после того как граф де Ла Фер возвратился к своим пенатам в Блуа, вы, пожалуй, будете чувствовать себя совсем одиноким. Ведь он давний ваш друг, не так ли?
— Вы знаете это не хуже меня, Безмо; ведь вы служили в мушкетерах в одно время с нами.
— Ну, с друзьями я ни бутылок, ни лет не считаю.
— И вы правы. Но я испытываю к графу де Ла Фер не только любовь, я глубоко уважаю его.
— Ну, а я, как ни странно, — сказал комендант, — предпочитаю ему шевалье д’Артаньяна. Вот человек, который пьет хорошо и долго. Такие люди, по крайней мере, не таят своих мыслей.
— Безмо, напоите меня нынешним вечером: давайте пировать, как бывало; обещаю, что, если у меня на сердце есть какая-нибудь печаль, вы сможете увидеть ее, как увидели бы бриллиант на дне своего стакана.
— Браво! — крикнул Безмо.
Он налил себе полный стакан вина и выпил его, радуясь от всего сердца при мысли о том, что грехопадение его преосвященства епископа совершается не без его участия.
Поглощенный своими мыслями и вином, он не заметил, что Арамис внимательно прислушивается к каждому звуку, доносившемуся с главного двора крепости.
Часов около восьми, в то время как Франсуа подавал пятую бутылку вина, во двор въехал курьер, и, хотя прибытие его сопровождалось изрядным шумом, Безмо ничего не услышал.
— Черт его побери! — проговорил Арамис.
— Что? Кого? — встрепенулся Безмо. — Надеюсь, не вино, которое вы сейчас пьете, и не того, кто им угощает вас?
— Нет, ту лошадь, и только ее, которая производит не меньше шума, чем эскадрон в полном составе.
— Ну, так это курьер, — буркнул, не прекращая возлияний, Безмо. — Черт бы его унес! И поскорее, чтобы нам больше не слышать о нем. Ура! Ура!
— Вы обо мне забываете, любезный Безмо. У меня стакан пуст, — молвил Арамис, указывая на свой хрустальный бокал.
— Клянусь, вы меня восхищаете… Франсуа, вина!
Вошел Франсуа.
— Вина, каналья, и самого лучшего!
— Слушаю, сударь, но… там приехал курьер.
— Я сказал: к черту!
— Сударь, однако…
— Пусть передаст дежурному, завтра посмотрим.
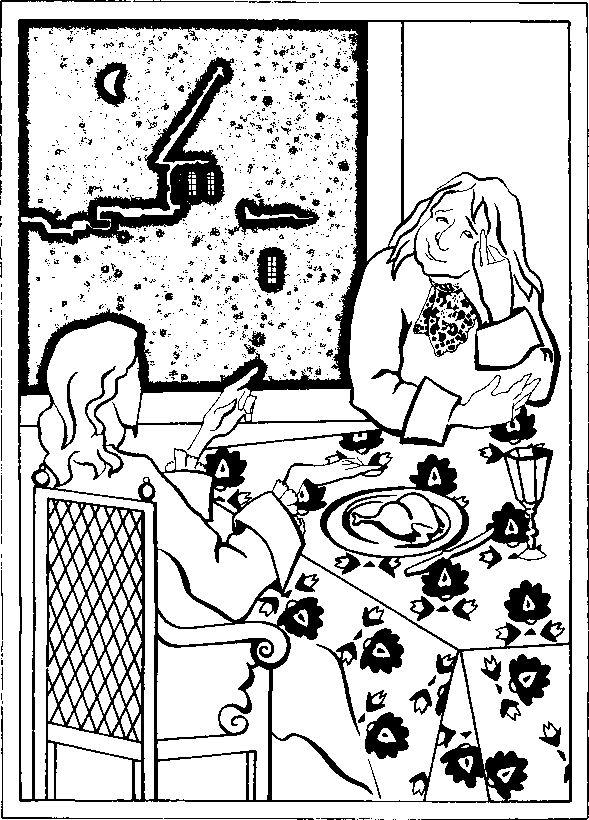
Завтра у нас будет время, завтра будет светло, — ответил солдату Безмо, причем заключительные слова он произнес нараспев.
— Ах, сударь, сударь… — проворчал невольно солдат.
— Будьте осторожнее! — сказал Арамис.
— В чем, дорогой господин д’Эрбле? — спросил полупьяный Безмо.
— Письмо, посланное коменданту цитадели с курьером, бывает порой приказом.
— Почти всегда.
— А разве приказы посылаются не министрами?
— Да, конечно, но…
— А разве министры не скрепляют своей подписью подписи короля?
— Может быть, вы и правы. Но все это очень досадно, когда сидишь вот так, перед вкусной едой, наедине с другом. Ах, сударь, простите, я позабыл, что это я угощаю вас ужином и говорю с будущим кардиналом.
— Оставим это, любезный Безмо, и вернемся к вашему солдату по имени Франсуа.
— Но что же он сделал?
— Он ворчал.
— Напрасно!
— Да, но так как он все же ворчал, то возможно, что там происходит что-нибудь необычное. Может быть, Франсуа нисколько не виноват в том, что ворчал, а виноваты вы, не пожелав его выслушать.
— Виноват? Я виноват перед Франсуа? Это уж слишком!
— Виноваты в уклонении от служебных обязанностей. Простите, но я счел долгом сделать вам замечание, которое кажется мне довольно серьезным.
— Возможно, что я не прав! — заикаясь, сказал Безмо. — Приказ короля священен. Но приказ, который приходит за ужином, повторяю снова, чтоб его черт…
— Если б вы позволили себе нечто подобное по отношению к великому кардиналу, — а, дорогой мой Безмо? — да если б к тому же приказ оказался спешным…
— Я это сделал, чтобы не беспокоить епископа; разве, черт возьми, это не оправдание?
— Не забывайте, Безмо, что и я носил когда-то мундир и привык иметь дело с приказами.
— Значит, вы желаете…
— Я желаю, друг мой, чтобы вы выполнили ваш долг. Да, я прошу вас исполнить его, хотя бы ради того, чтобы вас не осудил этот солдат.
Франсуа все еще ждал.
— Пусть принесут приказ короля, — сказал, приосаниваясь, Безмо и прибавил шепотом: — Знаете, что в нем будет написано? Что-нибудь в таком роде: "Будьте осторожны с огнем поблизости от порохового склада". Или: "Следите за таким-то, он хитер и способен совершить побег". Ах, когда бы, монсеньер, вы только знали, сколько раз меня внезапно будили посреди самого сладкого, самого безмятежного сна; сломя голову летели сюда гонцы лишь затем, чтобы передать мне записку, содержащую в себе следующие слова: "Господин де Безмо, что нового?" Видно, что люди, которые теряют время для писания подобных приказов, никогда сами не ночевали в Бастилии. Узнали б они тогда толщину моих стен, бдительность офицеров и количество патрулей. Ну, ничего не поделаешь, монсеньер! Это и есть их настоящее ремесло — мучить меня, когда я спокоен, и тревожить, когда я счастлив, — прибавил Безмо, кланяясь Арамису. — Предоставим же им заниматься их ремеслом.
— А вы занимайтесь вашим, — добавил, улыбаясь, епископ; при этом он устремил на Безмо настолько пристальный взгляд, что слова Арамиса, несмотря на ласковый тон, прозвучали для коменданта как приказание.
Франсуа возвратился. Безмо взял у него посланный ему министром приказ. Он неторопливо распечатал его и столь же неторопливо прочел. Арамис, делая вид, что пьет, сквозь хрусталь бокала наблюдал за хозяином.
— Ну, что я вам говорил! — проворчал Безмо.
— А что? — спросил ваннский епископ.
— Приказ об освобождении. Скажите на милость, хороша новость, чтобы из-за нее беспокоить нас?
— Хороша для того, кого она касается непосредственно, и против этого вы, вероятно, не станете возражать, мой дорогой комендант.
— Да еще в восемь вечера!
— Это из милосердия.
— Из милосердия, пусть будет так; но его оказывают негодяю, томящемуся от скуки, а не мне, развлекающемуся в доброй компании, — сердито сказал Безмо.
— Разве это освобождение потеря для вас? Что же, узник, которого теперь у вас отбирают, содержался в особых условиях?
— Как бы не так! Дрянь, жалкая крыса; он сидел на пяти франках в день.
— Покажите, — попросил Арамис, — или, быть может, это нескромность?
— Нисколько, читайте.
— Тут написано: "Спешно!" Вы видели?
— Восхитительно! Спешно! Человек, который сидит у меня добрых десять лет! И его спешат выпустить, и притом сегодня же, и притом в восемь вечера!
И Безмо, пожав плечами с выражением царственного презрения, бросил приказ на стол и снова принялся за еду.
— У них бывают такие порывы, — проговорил он все еще с полным ртом. — В один прекрасный день хватают человека, кормят его десять лет сряду, а мне беспрестранно пишут: "Следите за негодяем!" или "Держите его построже!" А затем, когда привыкнешь смотреть на узника как на человека опасного, тут вдруг, без всякого повода и причины, вам объявляют: "Освободите". И еще надписывают на послании: "Спешно!" Признайтесь, монсеньер, что тут ничего другого не остается, как только пожать плечами.
— Что поделаешь! — вздохнул Арамис. — Возмущаешься, а приказ все-таки выполняешь.
— Конечно! Разумеется, выполняешь!.. Но немного терпения!.. Не следует думать, будто я раб.
— Боже мой, любезнейший господин де Безмо, кто же думает о вас нечто подобное? Всем известна свойственная вам независимость.
— Благодарение Господу!
— Но известно также и ваше доброе сердце.
— Ну, что о нем говорить!
— И ваше повиновение вышестоящим. Видите ли, Безмо, кто был солдатом, тот останется им на всю жизнь.
— Вот поэтому я и оказываю беспрекословное повиновение, и завтра, на рассвете, узник будет освобожден.
— Завтра?
— На рассвете.
— Но почему не сегодня, раз на пакете и на самом приказе значится спешно?
— Потому что сегодня мы с вами ужинаем и для нас это также достаточно спешное дело.
— Дорогой мой Безмо, хоть я сегодня и в сапогах, все же я не могу не чувствовать себя духовным лицом, и долг милосердия представляется мне вещью более неотложной, чем удовлетворение голода или жажды. Этот несчастный страдал достаточно долго; вы сами только что говорили, что в течение целых десяти лет он был вашим нахлебником. Сократите же ему хоть немного его страдания! Счастливая минута ожидает его, дайте же ему поскорей насладиться ею, и Господь вознаградит вас за это годами блаженства в раю.
— Таково ваше желание?
— Я прошу вас об этом.
— Сейчас, посреди нашего ужина?
— Умоляю вас; поступок такого рода стоит десяти "Benedicite".
— Пусть будет по-вашему. Только нам придется доедать ужин холодным.
— О, пусть это вас не смущает!
Безмо откинулся на спинку своего кресла, чтобы позвонить Франсуа, и повернулся лицом к входной двери. Приказ лежал на столе. Арамис воспользовался теми несколькими мгновениями, пока Безмо не смотрел в его сторону, и обменял лежавшую на столе бумагу на другую, сложенную совершенно таким же образом и вынутую им из кармана.
— Франсуа, — сказал комендант, — пусть пришлют ко мне господина майора и тюремщиков из Бертодьеры.
Франсуа, поклонившись, пошел выполнять приказание, и собеседники остались одни.
Назад: XXIII ТРИ СОТРАПЕЗНИКА, КРАЙНЕ ПОРАЖЕННЫЕ ТЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ, ЧТО СОШЛИСЬ ВМЕСТЕ ЗА УЖИНОМ
Дальше: XXXV ГЕНЕРАЛ ОРДЕНА

