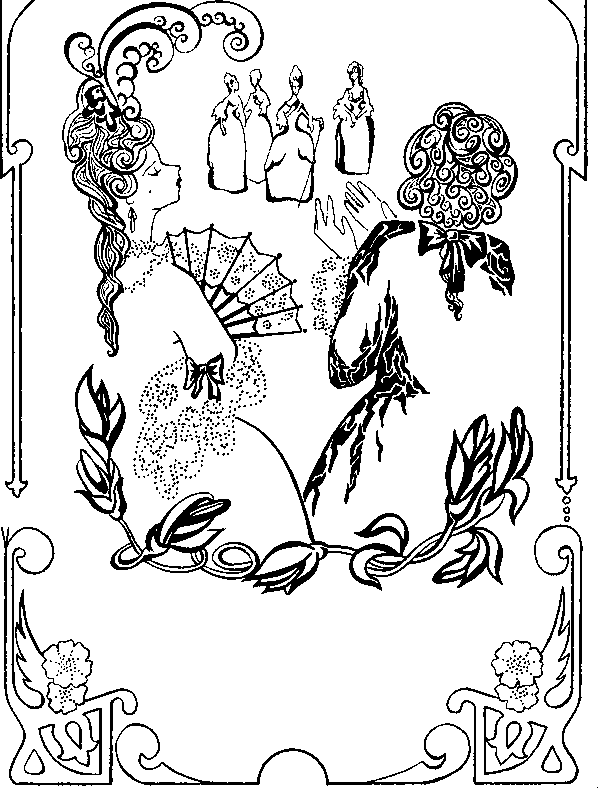Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 19.Джузеппе Бальзамо. Часть 4,5
Назад: CV ТЕЛО И ДУША
Дальше: СХV РОМАН ЖИЛЬБЕРА
СХ
ЗА КУЛИСАМИ ТРИАНОНА
Подробности путешествия мы опускаем. Скажем только, что Руссо был вынужден ехать в обществе швейцарца, подручного приказчика, мещанина и аббата.
Он прибыл к половине шестого. Весь двор уже собрался в Трианоне. В ожидании короля кое-кто пробовал голос; никому и в голову не приходило говорить об авторе оперы.
Некоторым из присутствовавших было известно, что репетицию будет проводить г-н Руссо из Женевы. Однако увидеть Руссо было им интересно не более, чем познакомиться с г-ном Рамо, или г-ном Мармонтелем или каким-нибудь другим любопытным существом, которых придворные видели иногда у себя в гостиных или в скромных домах этих людей.
Руссо был встречен офицером, которому г-н де Куаньи приказал дать ему знать немедленно по прибытии философа.
Этот дворянин, со свойственными ему любезностью и предупредительностью, поспешил навстречу Руссо. Однако, едва на него взглянув, он очень удивился и, не удержавшись, стал рассматривать его еще внимательнее.
Помятая одежда Руссо запылилась, лицо его было бледно и покрыто такой щетиной, отражения которой церемониймейстер Версаля никогда не видывал в дворцовых зеркалах.
Руссо почувствовал смущение под взглядом г-на де Куаньи. Он еще более смутился, когда, подойдя к зрительному залу, увидел множество великолепных костюмов, пышные кружева, бриллианты и голубые орденские ленты; все это вместе с позолотой зала производило впечатление букета цветов в огромной корзине.
Плебей Руссо почувствовал себя не в своей тарелке, едва ступив в зал, самый воздух которого благоухал и действовал на него возбуждающе.
Однако надо было идти дальше и попробовать взять дерзостью. Взгляды доброй части присутствовавших остановились на нем: он казался темным пятном в этом пышном собрании.
Господин де Куаньи по-прежнему шел впереди. Он подвел Руссо к оркестру, где его ожидали музыканты.
Здесь философ почувствовал некоторое облегчение; пока звучала его музыка, он думал о том, что опасность рядом, что он пропал и никакие рассуждения ему не помогут.
Дофина уже вышла на сцену в костюме Колетты; она ждала своего Колена.
Господин де Куаньи переодевался в своей уборной.
Неожиданно появился король, и все головы окружавших его придворных склонились.
Людовик XV улыбался и, казалось, был в прекрасном расположении духа.
Дофин сел справа от него, а граф Прованский — слева.
Полсотни присутствовавших, составлявших это, так сказать, интимное общество, сели, повинуясь жесту короля.
— Отчего же не начинают? — спросил Людовик XV.
— Сир! Еще не одеты пастухи и пастушки, мы их ждем, — отвечала дофина.
— Они могли бы играть в обычном платье, — сказал король.
— Нет, сир, — возразила принцесса, — мы хотим посмотреть, как будут выглядеть костюмы при свете, чтобы представлять себе, какое они производят впечатление.
— Вы правы, — согласился король. — В таком случае, давайте прогуляемся.
И Людовик XV встал, чтобы пройтись по коридору и сцене. Он был, кстати говоря, очень обеспокоен отсутствием графини Дюбарри.
Когда король покинул ложу, Руссо с грустью стал рассматривать зал, сердце его сжалось при мысли о собственном одиночестве.
Ведь он рассчитывал на совсем иной прием.
Он воображал, что перед ним будут расступаться, что придворные окажутся любопытнее парижан; он боялся, что его засыплют вопросами, станут наперебой представлять друг другу. И что же? Никто не обращает на него ни малейшего внимания.
Он подумал, что его щетина не так уж страшна, а вот старая одежда действительно должна бросаться в глаза. Он мысленно похвалил себя за то, что не стал пытаться придать себе элегантности — это выглядело бы теперь слишком смешно.
Помимо всего прочего, он чувствовал унижение оттого, что его роль была сведена всего-навсего к руководству оркестром.
Неожиданно к нему подошел офицер и спросил, не он ли господин Руссо.
— Да, сударь, — ответил он.
— Ее высочество, дофина желает с вами поговорить, сударь, — сообщил офицер.
Взволнованный Руссо встал.
Принцесса ждала его. Она держала в руках ариетту Колетты и напевала:
Меня покидает веселье и счастье…
Едва завидев Руссо, она пошла ему навстречу.
Философ низко поклонился, утешая себя тем, что приветствует женщину, а не принцессу.
А дофина заговорила с дикарем-философом так же любезно, как с самым утонченным дворянином Европы.
Она спросила, как ей следует исполнять третий куплет:
Со мной расстается Колен…
Руссо принялся излагать теорию декламации и мелопеи, однако этот ученый разговор был прерван: в сопровождении нескольких придворных подошел король.
Он с шумом вошел в артистическую, где философ давал урок ее высочеству.
Первое движение, первое же чувство короля при виде неопрятного господина было в точности такое, как у г-на де Куаньи, с той лишь разницей, что граф знал Руссо, а Людовик XV был незнаком с ним.
Он внимательно рассматривал свободолюбивого господина, выслушивая комплименты и слова благодарности принцессы.
Его властный взгляд, не привыкший опускаться никогда и ни перед кем, произвел на Руссо непередаваемое впечатление: философ оробел и почувствовал неуверенность.
Дофина дала Людовику XV время вдоволь насмотреться на философа, а затем подошла к Руссо и обратилась к королю:
— Ваше величество! Позвольте представить вам нашего автора!
— Вашего автора? — спросил король, делая вид, что пытается что-то припомнить.
Руссо казалось, что во время этого диалога он стоит на раскаленных углях. Испепеляющий взгляд короля, подобный солнечному лучу, падающему сквозь увеличительное стекло, переходил поочередно с длинной щетины на сомнительной свежести жабо, затем на покрытый густым слоем пыли кафтан, на неряшливый парик величайшего писателя его королевства.
— Перед вами господин Жан Жак Руссо, сир, — проговорила сжалившаяся над философом принцесса, — автор прелестной оперы, которую мы собираемся представить снисходительности вашего величества.
Король поднял голову.
— A-а, господин Руссо… Здравствуйте! — холодно сказал он и снова с осуждением стал разглядывать его костюм.
Руссо спрашивал себя, как следует приветствовать короля Франции, не будучи придворным, но и не желая показаться невежливыми, раз уж он очутился в королевской резиденции.
В то время как он раздумывал, король непринужденно беседовал с ним, как и все государи, нимало не заботясь о том, приятны его слова собеседнику или нет.
Руссо молчал и словно окаменел. Он забыл все фразы, которые собирался бросить в лицо тирану.
— Господин Руссо! — обратился к нему король, не переставая разглядывать его сюртук и парик. — Вы написали чудную музыку, благодаря ей я пережил прекрасные минуты.
И затем, в высшей степени противным голосом и страшно фальшивя, король запел:
Когда б я всем речам внимала Любезных франтов городских,
Других возлюбленных немало Легко нашла б я среди них.
— Прелестно! — воскликнул король, едва допев куплет.
Руссо поклонился.
— Не знаю, смогу ли я хорошо пропеть, — проговорила дофина.
Руссо повернулся к принцессе, собираясь дать ей несколько советов. Но король опять запел, на сей раз — романс Колена:
В лачуге сумрачной моей Я средь забот с утра.
Привычен труд мне в смене дней, Как холод и жара.
Его величество пел отвратительно. Руссо был польщен памятливостью монарха, но его задело скверное исполнение. Он скорчил гримасу и стал похож на обезьяну, грызущую луковицу: одна половина его лица смеялась, другая плакала.
Дофина сохраняла невозмутимый вид, не теряя хладнокровия, как это умеют делать лишь при дворе.
Король, нимало не смущаясь, продолжал:
Колетта! Знай, любовь моя,
Что и средь этих стен С тобою был бы счастлив я,
Твой брошенный Колен.
Руссо почувствовал, как краска бросилась ему в лицо.
— Скажите, господин Руссо, — обратился к нему король, — правду ли говорят, что вы иногда наряжаетесь в армянский костюм?
Руссо еще больше покраснел, язык словно застрял у него в горле, и он ни за что на свете не смог бы в тот момент им пошевелить.
Не дожидаясь ответа, король запел:
Всем тем, кто влюблен,
Непонятен закон,
И смысл им не виден в запрете…
— Вы, кажется, живете на улице Платриер, господин Руссо? — осведомился король.
Руссо в ответ кивнул, но это была его ultima thule… Никогда еще ему так не хотелось воззвать к помощи.
Король промурлыкал:
Ведь это же чистые дети,
Ведь это же чистые дети…
— Говорят, вы в очень плохих отношениях с Вольтером, господин Руссо?
Руссо окончательно потерял голову. Он не мог больше сдерживаться. Но король, вероятно, не собирался его щадить и направился к выходу, фальшиво напевая:
Пойдем-ка в рощу танцевать,
Подружки, будьте веселее! —
и продолжая под звуки оркестра свои чудовищные вокальные упражнения, от которых умер бы Апполон точно так же, как этот бог сам некогда покарал Марсия.
Руссо остался в одиночестве. Принцесса покинула его, чтобы в последний раз взглянуть на свой костюм.
Спотыкаясь на каждом шагу, Руссо ощупью выбрался в коридор. Он столкнулся с юношей и молодой дамой, которые сверкали бриллиантами, кружевами и от которых пахло цветами. Они занимали весь коридор, хотя молодой человек держался близко от дамы, нежно пожимая ее ручку.
Дама утопала в кружевах, голову ее украшала гигантски высокая прическа, она обмахивалась веером и источала благоухания. Вся она так и светилась. С ней-то и столкнулся Руссо.
Юноша, худенький, нежный, очаровательный, теребил голубую орденскую ленту, прикрывавшую жабо из английских кружев. Он громко искренне смеялся, а затем внезапно обрывая взрывы хохота, переходил на шепот, заставлявший смеяться даму; похоже было, что они прекрасно понимают друг друга.
Руссо узнал в прекрасной даме, в этом соблазнительном создании, графиню Дюбарри. Едва увидев ее, он, по своему обыкновению, сосредоточил на ней все свое внимание, словно не замечая ее спутника.
Молодой человек с голубой лентой был не кто иной, как граф д’Артуа, от всей души резвившийся вместе с любовницей своего деда.
Заметив темную фигуру Руссо, графиня Дюбарри вскрикнула:
— О Боже!
— Что такое? — спросил граф д’Артуа, бросив взгляд на философа.
Он хотел пропустить свою спутницу вперед.
— Господин Руссо! — вскричала Дюбарри.
— Руссо из Женевы? — спросил граф д’Артуа тоном школьника на каникулах.
— Да, ваше высочество, — отвечала графиня.
— Ах, здравствуйте, господин Руссо! — подхватил шалун, видя, что Руссо отчаянно и безуспешно пытается проскочить. — Здравствуйте!.. Так мы сейчас будем слушать вашу музыку?
— Ваше высочество! — пролепетал Руссо, рассмотрев голубую ленту.
— Да, прелестную музыку! — прибавила графиня. — Она прекрасно отражает дух и стремления автора!
Руссо поднял голову и почувствовал, как его словно ослепил взгляд графини.
— Сударыня… — начал было он недовольным тоном.
— Я буду исполнять роль Колена, графиня! — воскликнул граф д’Артуа. — А вас прошу быть Колеттой.
— С большим удовольствием, ваше высочество. Однако я не смею, не будучи актрисой, осквернять музыку маэстро.
Руссо был готов отдать жизнь за то, чтобы взглянуть на нес еще хоть раз. Ее голос, ее тон, ее лесть, ее красота рвали его сердце на части.
Он решил сбежать.
— Господин Руссо! — продолжал принц, преграждая ему путь. — Я хочу, чтобы вы помогли мне сыграть Колена.
— А я не смею просить у господина Руссо совета, как лучше исполнить роль Колетты, — лепетала графиня, разыгрывая скромницу, что окончательно сразило философа.
Его глаза продолжали вопросительно смотреть на графиню.
— Господин Руссо меня ненавидит, — сказала она принцу чарующим голосом.
— Да что вы! — вскричал граф д’Артуа. — Кто может ненавидеть вас, графиня?
— Вы же сами видите, — отвечала она.
— Господин Руссо, человек учтивый, сочиняющий прелестные вещицы, не может избегать столь обворожительной женщины, — заметил граф д’Артуа.
Руссо громко вздохнул, словно готовился испустить дух, и шмыгнул в узкую щель, неосторожно оставленную графом д’Артуа.
Однако в тот вечер Руссо решительно не везло. Не пройдя и нескольких шагов, он наткнулся на еще одну группу людей.
На сей раз это были старик и юноша: у юноши грудь была украшена голубой лентой, а его собеседник, на вид лет пятидесяти пяти, был одет в красное и имел бледное лицо и строгий вид.
Оба они услыхали, как веселится граф д’Артуа и кричит изо всех сил:
— Господин Руссо! Господин Руссо! Я расскажу, как вы сбежали от графини, да ведь никто не поверит!
— Руссо? — прошептали оба собеседника.
— Задержите его, брат! — со смехом продолжал принц. — Держите его, господин де Ла Вогийон!
Руссо понял, к какому рифу подвела его корабль несчастная звезда.
Граф Прованский и воспитатель детей Франции!
Граф Прованский также преградил Руссо путь.
— Здравствуйте, сударь! — отрывисто и высокомерно сказал он.
Совершенно потерявшись, Руссо поклонился и пробормотал:
— Мне не суждено отсюда выйти!..
— Какая удача, что я встретил вас, сударь! — произнес принц тоном наставника, который искал и наконец нашел провинившегося ученика.
"Опять нелепые комплименты, — подумал Руссо, — до чего же однообразны великие мира сего!"
— Я прочел ваш перевод из Тацита, сударь.
"A-а, этот и впрямь ученый педант", — сказал себе Руссо.
— Тацита переводить трудно, не правда ли?
— Да, ваше высочество, я ведь написал об этом в небольшом предисловии.
— Да, знаю, знаю. Вы там пишете, что лишь отчасти владеете латынью.
— Да, ваше высочество.
— Зачем же тогда вы взялись переводить Тацита, господин Руссо?
— Я, ваше высочество, оттачивал стиль.
— А знаете, господин Руссо, вы неправильно перевели "imperatoria brevitate" как "торжественное лаконичное выступление".
Смущенный Руссо изо всех сил напрягал память.
— Да, вы именно так это перевели, — проговорил юный принц с самоуверенностью старого ученого, который нашел ошибку у Сомеза. — Это в том месте, где Тацит рассказывает, как Пизон обратился с речью к своим солдатам.
— Так что же, ваше высочество?
— А то, господин Руссо, что "imperatoria brevitate" означает "с лаконичностью военачальника", или "человека, привыкшего командовать". "Лаконичность полководца"… вот подходящее выражение, не правда ли, господин де Л а Вогийон?
— Да, ваше высочество, — отвечал воспитатель.
Руссо не проронил ни слова. Принц продолжал:
— Это ведь полное извращение смысла, господин Руссо… Да я вам еще найду пример!
Руссо побледнел.
— Вот послушайте, господин Руссо, это в том отрывке, где речь идет о Цецине. Он начинается так: "At in superiore Germania…" Вы знаете, что в этом месте идет описание Цецины, и Тацит говорит: "Cito sermone".
— Я прекрасно помню это место, ваше высочество.
— Вы перевели это место следующим образом: "обладающий даром слова"…
— Совершенно верно, ваше высочество, я полагал, что…
— "Cito sermone" означает "говорящий быстро", то есть легко.
— Я и сказал: "обладающий даром слова"…
— Тогда в тексте было бы "decoro" или "ornato", или "eleganti sermone". "Cito" — это выразительный эпитет, господин Руссо. Тем же приемом Тацит пользуется, описывая, как изменилось поведение Отона. Он пишет: "Delata voluptas, dissimulata luxuria cunctaque, ad imperii decorem composita".
— Я перевел это так: "Оставив для другого времени роскошь и сладострастие, он удивил весь мир, посвятив себя восстановлению славы империи".
— Напрасно, господин Руссо, напрасно. Прежде всего, вы расчленили одну фразу на три части, из-за этого вы плохо перевели "dissimulata luxuria". Далее: вы исказили смысл последней части фразы. Тацит имел в виду не то, что император Отон посвятил себя восстановлению славы империи; он хотел сказать, что, не находя более удовлетворения своим страстям и скрывая привычку к роскоши, Отон подчинял все, употреблял все, жертвовал всем, всем, — понимаете, господин Руссо? — то есть своими страстями и даже пороками, во имя славы империи. Фраза имеет двоякий смысл, а ваш перевод не передает это в полной мере. Не правда ли, господин де Ла Вогийон?
— Да, ваше высочество.
Руссо обливался потом и не смел рта раскрыть под столь безжалостным напором.
Принц дал ему передохнуть, а затем продолжал:
— Вы замечательный философ…
Руссо поклонился.
— Однако ваш "Эмиль" — опасная книга.
— Опасная, ваше высочество?
— Да, из-за неимоверного количества ложных идей, способных сбить с толку мелких буржуа.
— Ваше высочество! Как только человек становится отцом семейства, он попадает в условия, описанные в моей книге, независимо от того, будет ли он великим мира сего или последним нищим в королевстве… Быть отцом… это…
— Знаете, господин Руссо, — грубо перебил его принц, — ваша "Исповедь" — довольно забавная книга… Скажите, сколько у вас было детей?
Руссо побледнел, зашатался и поднял на юного палача гневный и в то же время растерянный взгляд, но это лишь раззадорило графа Прованского.
Не дожидаясь ответа, принц удалился, держа под руку своего наставника и продолжая комментировать произведения господина, которого он только что с такой жестокостью раздавил.
Оставшись один, Руссо понемногу пришел в себя, как вдруг услышал первые такты своей увертюры в исполнении оркестра.
Он пошел в ту сторону, откуда доносилась музыка и, добравшись до своего места, рухнул на стул.
— Какой же я безумец, глупец, трус! — сказал он. — Мне надо было бы ответить этому маленькому и жестокому педанту: "Ваше высочество! Молодой человек не должен мучить бедного старика, это неблагородно*
Он все еще сидел там, весьма довольный этой фразой, когда ее высочество дофина и г-н де Куаньи начали свой дуэт. Теперь мучения философа сменились страданиями музыканта: раньше его уязвили в самое сердце, теперь — терзали слух.
CXI
РЕПЕТИЦИЯ
Как только началась репетиция, всеобщее внимание было захвачено зрелищем, и о Руссо забыли.
Теперь он решил оглядеться. Он слушал фальшивое пение господ, переодетых поселянами, и рассматривал дам, кокетничавших, словно пастушки, переодетые в костюмы придворных.
Принцесса пела правильно, но была никудышной актрисой. Впрочем, у нее почти не было голоса, и ее едва было слышно. Не желая никого смущать, король скрылся в темной ложе и беседовал с дамами.
Дофин был суфлером. Вся опера шла по-королевски плохо.
Руссо решил больше не слушать, однако не слышать было нелегко. У него было только одно утешение: среди пастушек он заметил одну, наделенную не только чудесной внешностью, но и прелестным голоском, выделявшимся из хора.
Руссо сосредоточил на ней внимание и стал пристально рассматривать эту очаровательную инженю поверх своего пюпитра, любуясь красивым лицом и в то же время наслаждаясь ее мелодичным голосом.
Перехватив взгляд автора, дофина скоро поняла по его улыбке, по блеску его глаз, что он удовлетворен исполнением отдельных сцен и, желая услышать комплимент, — ведь она была женщина! — склонилась к пюпитру.
— Разве это так уж плохо, господин Руссо? — спросила она.
Растерявшийся и подавленный Руссо промолчал.
— Ну, значит, мы фальшивим, — проговорила дофина, — а господин Руссо не решается нам это сказать. Ну, прошу вас, господин Руссо!..
Руссо не сводил взгляда с прелестной девушки, которая даже не подозревала, что вызвала его интерес.
— A-а, это мадемуазель де Таверне! — сообщила принцесса, проследив глазами за взглядом нашего философа. — Она сфальшивила!..
Андре покраснела; она заметила, что на нее устремлены взгляды всех присутствующих.
— Нет, нет! — крикнул Руссо. — Это не она! Мадемуазель поет, как ангел!
Графиня Дюбарри метнула в философа взгляд, более смертоносный, чем дротик.
Барон де Таверне, напротив, почувствовал, как сердце его наполняется счастьем, и послал Руссо одну из самых своих любезных улыбок.
— Вы тоже находите, что эта юная особа поет хорошо? — спросила г-жа Дюбарри у короля, которого задели за живое слова Руссо.
— Я не слышу… в хоре… — отвечал Людовик XV. — Для этого надо быть музыкантом…
В это время Руссо оживился за своим пюпитром, заставив хор пропеть:
К своей подружке возвращается Колен, Отпразднуем прекрасное событье!
Когда музыка умолкла, обернувшись, он увидел г-на де Жюсьё, приветствовавшего его со своего места.
Для женевского философа оказалось немалым удовольствием на виду у всех дирижировать придворными, особенно на глазах у того, кто его обидел, дав почувствовать свое превосходство.
Он чопорно с ним раскланялся и вновь уставился на Андре: от похвалы она стала еще красивее.
Репетиция продолжалась; графиня Дюбарри помрачнела. Она дважды пыталась отвлечь заинтересовавшегося спектаклем Людовика XV, говоря ему комплименты.
Так главным действующим лицом спектакля к неизбежной зависти остальных стала Андре. Впрочем, это ни в малейшей степени не помешало ее высочеству дофине выслушивать горячие комплименты и выказывать бурную веселость.
Герцог де Ришелье порхал вокруг нее с легкостью юноши; ему удалось собрать в глубине театра кружок веселящихся зрителей, центром которого была сама принцесса — это очень беспокоило сторонников Дюбарри.
— Кажется, у мадемуазель де Таверне красивый голос, — громко сказал Ришелье.
— Чудесный! — подхватила дофина. — Не будь я эгоисткой, я уступила ей роль Колетты. Впрочем, я выбрала эту роль для себя ради развлечения и не отдам ее никому.
— Мадемуазель де Таверне спела бы ее не лучше, чем ваше королевское высочество, — возразил Ришелье, — и…
— Мадемуазель — поразительно музыкальна! — перебил его Руссо.
— Поразительно! — согласилась ее высочество. — Я должна признаться, что она помогает мне разучивать роль. А как восхитительно она танцует! Вот я совсем не умею танцевать.
Нетрудно себе представить, как подействовали эти разговоры на короля, на графиню Дюбарри и на всех любопытных, сплетников, интриганов и завистников. Каждый из присутствовавших наслаждался нанесенным ударом или страдал от боли и сгорал от стыда, получая этот удар. Равнодушных не было, за исключением, пожалуй, самой Андре.
Поощряемая Ришелье, дофина заставила Андре пропеть романс:
Над милым слугою утратила власть я,
Со мной расстается Колен.
Все видели, как король покачивал головой в такт пению с выражением удовольствия, отчего все румяна осыпались с лица г-жи Дюбарри, подобно влажной штукатурке.
Ришелье, более злобный, чем любая женщина, наслаждался своей местью. Он подошел к Таверне-отцу, и оба старика застыли, словно изваяния, олицетворяя собою союз Лицемерия с Развратом.
Их оживление возрастало по мере того, как все более хмурилась графиня Дюбарри. Не выдержав, она резким движением поднялась с места, что было против всех правил приличия, потому что король еще не вставал.
Подобно муравьям, придворные почуяли бурю и поспешили укрыться вблизи наиболее сильных из них. Таким образом, принцесса оказалась в окружении своих друзей, а вокруг графини Дюбарри сгрудились ее приспешники.
Постепенно интерес к репетиции у присутствовавших угас, их вниманием овладели другие события. Дело теперь было не в Колетте и не в Колене. Многие думали о том, что графине Дюбарри вскоре придется, вероятно, пропеть:
Над милым слугою утратила власть я,
Со мной расстается Колен.
— Ты только посмотри, — прошептал Ришелье, обращаясь к Таверне, — какой ошеломляющий успех у твоей дочери!
И он потащил его за собой в коридор, толкнув застекленную дверь; при этом он чуть не сбил с ног какого-то любопытного, заглядывавшего через стекло в зал.
— Чертов болван! — проворчал герцог де Ришелье, поправляя рукав, смявшийся от соприкосновения с дверью, ударившей его рикошетом, и особенно сердясь потому, что отскочивший от двери любопытный был одет как один из дворцовых рабочих. В руках он держал корзину с цветами.
Когда удар дверью отбросил его в коридор, он едва не упал навзничь. Однако ему все-таки чудом удалось удержаться на ногах, а вот корзина перевернулась.
— A-а, я знаю этого дурака, — со злостью проговорил Таверне.
— Кто же он? — спросил герцог.
— Что ты здесь делаешь, шалопай? — спросил Таверне.
Жильбер — а это был он, о чем уже, наверное, догадался читатель, — с гордостью ответил:
— Смотрю, как видите.
— Вместо того, чтобы работать!.. — проворчал Ришелье.
— Моя работа окончена, — спокойно отвечал Жильбер, обращаясь к герцогу и даже не глядя на Таверне.
— Ла-ла-ла, сударь! — прервал его вдруг чей-то ласковый голос. — Мой маленький Жильбер — прекрасный работник и прилежный ботаник.
Таверне обернулся и увидел г-на де Жюсьё. Тот подошел и потрепал Жильбера по щеке.
Таверне покраснел от злости и пошел дальше.
— Слуги — здесь? — возмутился он.
— Тише! — шепнул ему Ришелье. — Николь тоже здесь… Взгляни. Вон у той двери, наверху… Резвая девчонка! Она тоже не теряет времени даром!
Это и в самом деле была Николь. Вместе с другими слугами Трианона она с восхищением следила за спектаклем. Казалось, ее широко раскрытые глаза видели больше других.
Заметив ее, Жильбер пошел в противоположную сторону.
— Идем, идем! — обратился Ришелье к Таверне. — Мне кажется, король хочет с тобой поговорить… он ищет кого-то глазами.
Друзья направились к королевской ложе.
Графиня Дюбарри, стоя, переговаривалась с герцогом д’Эгильоном. Тот следил глазами за каждым движением дядюшки.
Оставшись один, Руссо продолжал восхищаться Андре. Он был всецело поглощен ею и, если можно употребить это выражение, почти влюблен.
Знатные актеры отправились переодеваться, каждый в свою ложу, где Жильбер расставил свежие цветы.
Ришелье пошел к королю, а Таверне, сгорая от нетерпения, остался ждать его в коридоре. Наконец герцог возвратился и прижал палец к губам.
Таверне побледнел от радости и пошел навстречу другу. Тот повел его в королевскую ложу.
Там они услышали нечто такое, что немногим дано было услышать.
Графиня Дюбарри спросила короля:
— Ждать ли мне ваше величество сегодня к ужину?
Король ответил ей:
— Я очень устал, графиня. Прошу меня простить!
В ту же минуту явился дофин и, почти наступая графине на ноги и словно не замечая ее, обратился к королю:
— Сир! Будем ли мы иметь честь видеть ваше величество за ужином в Трианоне?
— Нет, дитя мое. Я сказал графине, что очень устал.
Рядом с вами, молодыми, я чувствовал бы себя стариком… Я буду ужинать один.
Дофин отвесил поклон и удалился. Графиня Дюбарри низко поклонилась и вышла, задохнувшись от злобы.
Король подал знак Ришелье.
— Герцог! — сказал он. — Мне нужно поговорить с вами об одном касающемся вас деле.
— Сир…
— Я был недоволен… Я желаю услышать от вас объяснения. Знаете… Я ужинаю один, составьте мне компанию.
Король взглянул на Таверне.
— Вы знаете этого дворянина, герцог?
— Барона де Таверне? Да, сир.
— A-а! Отец очаровательной певицы!
— Да, сир.
— Послушайте, герцог…
Король наклонился и зашептал Ришелье на ухо.
Таверне до боли сжал кулаки, чтобы не выдать своего волнения.
Через мгновение Ришелье прошел перед Таверне, шепнув на ходу:
— Незаметно следуй за мной.
— Куда?
— Сам увидишь.
Герцог вышел. Таверне пропустил его шагов на двадцать вперед и пошел следом. Так они подошли к королевским апартаментам.
Герцог вошел в комнату. Таверне остался в приемной.
CXII
ЛАРЕЦ
Барону де Таверне не пришлось долго ждать. Ришелье спросил у камер-лакея его величества, что король оставил на туалетном столике, и вскоре вернулся, держа в руках какой-то предмет, завернутый в шелк.
Маршал положил конец беспокойству своего друга, увлекая его за собой в галерею.
— Барон! — воскликнул он, убедившись, что их никто не видит. — Мне показалось, что ты иногда сомневался в моей дружбе к тебе.
— С тех пор, как мы помирились, уже нет! — отвечал Таверне.
— Однако же ты сомневался в том, что тебя и твоих детей ждет удача?
— Да, в этом я и впрямь сомневался.
— Ну и напрасно! Твое счастье, а также счастье твоих детей устраивается с такой стремительностью, что у тебя, должно быть, кружится голова!
— Да что ты — воскликнул Таверне, начиная догадываться, однако еще боясь верить в свою удачу. — Каким же это образом так скоро устраивается счастье моих детей?
— Да ведь Филипп — капитан, а его рота — на содержании у короля.
— Верно… И этим я обязан тебе.
— Ни в коей мере. А скоро мы, возможно, увидим, как мадемуазель де Таверне станет маркизой.
— Что ты! — вскричал Таверне. — Моя дочь?..
— Слушай, Таверне! У короля — хороший вкус. Когда красивая, изящная, добродетельная девица наделена еще и талантами, она не может не пленить его величество… А мадемуазель де Таверне обладает всеми этими достоинствами в высшей степени. И король, стало быть, очарован ею.
— Герцог! Что ты подразумеваешь под словом "очарован"? — спросил Таверне, напустив на себя важный вид, способный лишь рассмешить маршала.
Ришелье не любил чванства; он сухо ответил другу:
— Барон! Я не силен в лингвистике, не говоря уж о том, что очень плохо знаю орфографию. "Очарован", по-моему, всегда означало "доволен сверх всякой меры", вот так… Если ты сверх всякой меры огорчен тем, что твой король доволен красотой, талантом, достоинствами твоих детей, то так и скажи… и я передам это его величеству.
Ришелье круто повернулся, да так легко, словно в одно мгновение помолодел.
— Герцог, ты неверно меня понял! — воскликнул барон, хватая его за руку. — Черт побери, до чего же ты скор!
— Зачем же ты говоришь, что недоволен?
— Я этого не говорил.
— Но ведь ты же требуешь от меня объяснить поступок короля… Дьявольщина, до чего надоели дураки!
— Чего ты сердишься, герцог? Ведь я об этом ни единым словом не обмолвился! Разумеется, я доволен.
— Да неужели? Кто же тогда будет недоволен? Может, твоя дочь?
— Хм-хм…
— Дорогой мой! Ты сам дикарь и воспитал дочь такой же дикаркой.
— Дорогой мой! Моя дочь росла совсем одна. Ты понимаешь, что я себя не особенно утомлял ее воспитанием. С меня довольно было и того, что я сидел в этой дыре — Таверне… Добродетель проросла в ней сама собой.
— Я слышал, что люди, живущие в деревне, умеют бороться с сорняками. Одним словом, твоя дочь — дура.
— Ошибаешься, она голубица.
Ришелье поморщился.
— В таком случае, бедняжке остается только найти хорошего мужа, потому что на карьеру не приходится надеяться, имея такой недостаток.
Таверне бросил на герцога беспокойный взгляд.
— К счастью для нее, — продолжал тот, — король так ослеплен графиней Дюбарри, что не сможет заинтересоваться другой женщиной.
Беспокойство Таверне стало переходить в страх.
— Я думаю, что вы с дочерью можете не беспокоиться. Я дам королю необходимые разъяснения, и король не будет настаивать.
— Да на чем, Бог мой? — вскричал Таверне, смертельно побледнев и тряся друга за руку.
— На том, чтобы сделать мадемуазель Андре небольшой подарок, господин барон.
— Небольшой подарок!.. Что же это за подарок? — спросил Таверне; глаза у него горели.
— Да так, сущая безделица, — небрежно бросил Ришелье, — вот она… смотри!
Он развернул шелк и показал ларец.
— Ларец?
— Да, мелочь… Ожерелье в несколько тысяч ливров; его величеству понравилось, как ему спели его любимую песенку, и он хотел поблагодарить певицу. Это в порядке вещей. Но раз твоя дочь так пуглива, то не будем больше об этом говорить.
— Герцог! Что ты! Ведь это значит оскорбить короля!
— Конечно, это было бы оскорблением его величества. Да ведь добродетели свойственно постоянно кого-нибудь или что-нибудь оскорблять!
— Знаешь, герцог, — спохватился Таверне, — моя дочь не может быть до такой степени неразумной.
— Это ты так говоришь, а не она!
— Я отлично знаю, что скажет или сделает моя дочь!
— Можно позавидовать китайцам! — заметил Ришелье.
— Почему?
— Потому что у них в стране много каналов и рек.
— Герцог, зачем ты пытаешься переменить тему разговора? Я в отчаянии! Поговори со мной.
— Я с тобой разговариваю, барон, и не думал ничего менять.
— Зачем же тогда говорить про китайцев? Какое отношение имеют их реки к моей дочери?
— Очень большое… Как я тебе говорил, китайцам можно позавидовать, потому что они могут утопить слишком добродетельных дочерей и никто им слова не скажет.
— Слушай, герцог, надо же быть справедливым, — возразил Таверне. — Ну, представь, что у тебя есть дочь.
— Тысяча чертей!.. Да есть у меня дочь… И если бы кто-нибудь сказал мне, что она чересчур добродетельна… Я бы этого не вынес!
— А ты бы хотел, чтобы было наоборот?
— Я не вмешиваюсь в дела своих детей после того, как им исполнилось восемь лет.
— Ты хотя бы выслушай меня! Что было бы, если бы король поручил мне передать ожерелье твоей дочери, а дочь тебе пожаловалась бы?..
— Друг мой! Не надо сравнивать… Я всю жизнь провел при дворе. Ты же скорее похож на дикаря; между нами не может быть ничего общего. Что для тебя добродетель, то для меня глупость. Нет большей неловкости, к твоему сведению, чем спрашивать у людей: "Что бы вы сделали в таком-то и таком-то случае?" И потом, ты напрасно сравниваешь нас, дорогой мой. Я не собираюсь передавать твоей дочери ожерелье.
— Ты же сам мне сказал…
— Я ни словом об этом не обмолвился. Я сказал, что король приказал мне забрать у него ларец для мадемуазель де Таверне, голос которой ему очень понравился. Но я не говорил, что его величество поручил мне передать его девушке.
— Тогда уж я не знаю, что и думать! — в отчаянии воскликнул барон. — Я ни слова не понимаю, ты говоришь загадками. Зачем было давать тебе это ожерелье, если ты не должен его вручить? Зачем было поручать его тебе, если не для того, чтобы передать кому следует?
Ришелье возопил, словно увидя паука.
— Тьфу, черт! Дикарь! Деревенская скотина!
— О ком это ты?
— Да о тебе, мой добрый друг, о тебе, мой верный товарищ… Ты будто с луны свалился, бедный барон.
— Ничего не понимаю…
— Да, ты ничего не понимаешь. Дорогой мой! Если король хочет сделать подарок женщине и поручает это сделать герцогу де Ришелье, значит, подарок окажется достойным, а поручение будет в точности исполнено, запомни это хорошенько… Я не передаю драгоценности, дорогой мой; это обязанность господина Лебеля. Ты знаешь господина Лебедя?
— Кому же ты собираешься поручить это дело?
— Друг мой! — отвечал Ришелье, хлопнув Таверне по плечу и сопровождая свой жест демонической улыбкой. —
Когда я имею дело с таким ангелом чистоты, как мадемуазель де Таверне, я и сам чувствую себя добродетельным; когда я приближаюсь к голубице, как ты ее называешь, ничто во мне не напоминает ворона; когда меня посылают с поручением к благородной девице, я начинаю с разговора с ее отцом… Вот я и говорю с тобой, Таверне, и передаю ларец тебе, с тем чтобы ты сам отдал его дочери… Что ты на это скажешь?
Он протянул ларец.
— Может быть, ты не захочешь его взять?
Он отдернул руку.
— Скажи только, что его величество сам поручил мне передать дочери этот подарок, — вскричал Таверне, — и он будет выглядеть совсем иначе, это будет отеческий знак внимания, он словно очистится от скверны!..
— Ты что же, подозреваешь его величество в недобрых намерениях? — строго спросил Ришелье. — Как ты посмел это подумать?
— Боже меня сохрани! Однако люди… то есть моя дочь…
Ришелье пожал плечами.
— Так ты берешь или нет? — спросил он.
Таверне торопливо протянул руку.
— Так ты считаешь себя порядочным человеком? — спросил он Ришелье, ответив ему той же улыбкой, которую послал барону герцог.
— Не кажется ли тебе, барон, — отвечал маршал, — что с моей стороны было бы благородно сделать посредником отца? Ведь отец словно очищает этот поступок от скверны, как ты говоришь, — так вот, я выбираю тебя посредником между очарованным монархом и твоей прелестной дочерью… Если бы нас взялся рассудить сам Жан Жак Руссо, который недавно тут рыскал, он сказал бы тебе, что я чище самого Иосифа.
Ришелье произнес эти слова сдержанно, с чувством собственного достоинства. Таверне удержался от замечаний и заставил себя поверить в то, что Ришелье его убедил.
Он схватил своего великого друга за руку и с чувством пожал ее.
— Благодаря твоей деликатности моя дочь сможет принять этот подарок.
— Твоя дочь — источник и первопричина тех милостей, о которых я говорил тебе с самого начала.
— Спасибо, дорогой герцог, от всего сердца тебя благодарю!
— Еще одно слово… Постарайся скрыть от друзей графини Дюбарри новость об этой милости. Графиня Дюбарри способна бросить короля и сбежать.
— Разве король рассердился бы за это на нас?
— Не знаю. А вот графиня не была бы нам благодарна. Я бы погиб… Вот почему я прошу тебя никому об этом не говорить.
— Не беспокойся. Передай королю благодарность от меня.
— И от твоей дочери, разумеется… Но ты нынче в милости, ты и сам можешь поблагодарить короля, дорогой мой. Его величество приглашает тебя сегодня на ужин.
— Меня?
— Тебя, Таверне. Мы поужинаем в узком кругу: его величество, ты и я. Поговорим о добродетелях твоей дочери. Прощай, Таверне! Вон идут Дюбарри с господином д’Эгильоном, они не должны видеть нас вместе.
Тут он с юношеской легкостью исчез в конце галереи, оставив Таверне с ларцом в руках; Таверне напоминал немецкого мальчика, который, проснувшись, обнаружил в руках игрушки, оставленные ночью отцом Ноэлем.
CXIII
УЖИН В УЗКОМ КРУГУ У КОРОЛЯ ЛЮДОВИКА XV
Маршал нашел его величество в малой гостиной, куда он удалился вместе с несколькими придворными, которые предпочли обойтись без ужина, нежели уступить другим возможность находиться поблизости от повелителя, ловя на себе его рассеянный взгляд.
Впрочем, казалось, что в этот вечер Людовику XV было не до них. Он отпустил всех, объявив, что не будет ужинать, или если и будет, то в полном одиночестве. Получив свободу, придворные, из опасения вызвать неудовольствие монсеньера дофина своим отсутствием на празднике, устроенном им после репетиции, вспорхнули, подобно стае прожорливых голубей, и полетели к тому, кто позволял им себя лицезреть. Они были готовы объявить, что ради дофина покинули гостиную его величества.
Оставленный ими с такой поспешностью, Людовик XV был далек от того, чтобы думать о них. Ничтожество всего этого придворного сброда могло бы при других обстоятельствах вызвать у него усмешку. На этот раз оно не пробудило в монархе никакого чувства, несмотря на то что он был по природе очень насмешлив и не прощал ни физических, ни моральных недостатков даже лучшим своим друзьям, если предположить, что у Людовика XV были когда-нибудь друзья.
Нет, в эту минуту внимание Людовика XV привлекла карета, стоявшая у служб Трианона. Казалось, кучер только и ждал, когда хозяин усядется в золоченый экипаж, чтобы огреть кнутом лошадей.
Карета, принадлежавшая графине Дюбарри, была освещена факелами. Сидевший рядом с кучером Замор болтал ногами, словно на качелях.
Госпожа Дюбарри, поджидавшая, по-видимому, в коридоре посланца от короля, появилась наконец под руку с д’Эгильоном. Судя по ее торопливой походке, она была вне себя от гнева и разочарования. За внешней решительностью она пыталась скрыть растерянность.
Рассеяно сжимая в руках шляпу, Жан шел вслед за сестрой. Он не участвовал в спектакле, так как дофин забыл его пригласить. Однако он вместе с лакеями зашел в переднюю и оттуда в задумчивости, словно Ипполит, наблюдал за происходившим, не обращая внимания на то, что жабо выбилось из-под его серебристого камзола, расшитого розовыми цветами, и не замечая, что манжеты обтрепались; и это прекрасно сочеталось с грустным выражением его лица.
Жан видел, как побледнела от испуга его сестра, из чего он заключил, что опасность велика. Жан был силен только в рукопашной, зато ничего не понимал в дипломатии, потому что не умел воевать с призраками.
Из своего окна, спрятавшись за занавеской, король наблюдал за мрачной процессией. Он видел, как все трое исчезли в карете графини. Когда дверь захлопнулась и лакей поднялся на запятки, кучер взмахнул вожжами и лошади рванули с места в галоп.
— Ого! — воскликнул король. — Она даже не пытается со мной увидеться и поговорить? Графиня разгневана!
И он повторил громче:
— Да, графиня разгневана!
Ришелье, только что проскользнувший в комнату без доклада, так как король его ждал, услышал эти слова.
— Разгневана, сир? — переспросил он. — А чем? Тем, что вашему величеству стало весело? Это дурно со стороны графини.
— Герцог! Мне совсем не весело, — возразил король. — Напротив, я устал и хочу отдохнуть. Музыка меня раздражает, а мне пришлось бы, послушайся я графиню, ехать ужинать в Люсьенн — есть и, главное, пить. А у графини коварные вина; не знаю уж, из какого винограда их делают, но я после них чувствую себя разбитым. Честное слово, я предпочитаю понежиться здесь.
— И вы, ваше величество, тысячу раз правы, — согласился герцог.
— Кстати, и графиня развлечется! Неужели я такой приятный собеседник? Хоть она так и говорит, я ей не верю.
— А вот сейчас вы, ваше величество, не правы, — возразил маршал.
— Нет, герцог, нет, это в самом деле так: мне остались считанные дни, и я думаю, что говорю.
— Сир, графиня понимает, что ей в любом случае не удастся найти лучшее общество, — вот что приводит ее в бешенство.
— Признаться, герцог, я не знаю, как вам удается так устроиться, что вокруг вас всегда женщины, будто вам двадцать лет. Ведь именно в этом возрасте выбирает мужчина. А в мои годы, герцог…
— Что, сир?
— В мои годы можно рассчитывать не на любовь, а на женскую расчетливость.
Маршал рассмеялся:
— В таком случае, сир, это только лишний довод, и если ваше величество полагает, что графиня развлекается, у нас нет повода для беспокойства.
— Я не говорю, что она развлекается, герцог. Я говорю, что она в конце концов начнет искать развлечений.
— Не смею сказать вашему величеству, что такого еще никто никогда не видывал.
Король поднялся в сильном волнении.
— Кто здесь еще находится? — спросил он.
— Все, кто состоит у вас на службе, сир.
Король на мгновение задумался.
— А из ваших-то есть кто-нибудь?
— Со мной Рафте.
— Прекрасно!
— Что ему надлежит сделать, сир?
— Герцог! Пусть он узнает, действительно ли графиня Дюбарри поехала в Люсьенн.
— Да ведь графиня уехала, если не ошибаюсь.
— Так это, во всяком случае, выглядело.
— Куда же она могла отправиться, как вы полагаете, ваше величество?
— Кто знает? Она может потерять голову от ревности, герцог!
— Сир! Скорее уж вам следовало бы…
— Что?
— Ревновать…
— Герцог!
— Да, вы правы: это было бы унизительно для всех нас, сир.
— Чтобы я ревновал! — воскликнул Людовик XV, натянуто улыбнувшись… — Неужели вы говорите серьезно, герцог?
Ришелье и в самом деле не верил в то, что говорил. Надобно признать, он был весьма недалек от истины, когда думал, напротив, что король желал знать, поехала ли графиня Дюбарри в Люсьенн только для того, чтобы быть совершенно уверенным: она не вернется в Трианон.
— Итак, сир, решено, — произнес он вслух, — я посылаю Рафте на поиски?
— Да, пошлите, герцог.
— А чем угодно заняться вашему величеству перед ужином?
— Ничем. Мы будем ужинать сейчас же. Вы предупредили известное лицо?
— Да, оно в приемной у вашего величества.
— Что это лицо ответило?
— Просил благодарить.
— А дочь?
— С ней еще не говорили.
— Герцог! Графиня Дюбарри ревнива и может возвратиться.
— Ах, сир, это было бы дурным тоном! Я полагаю, что графиня не способна на такую дерзость.
— Герцог! В такую минуту она способна на все, в особенности когда злоба подогревается ревностью. Она вас ненавидит, не знаю, известно ли вам это.
Ришелье поклонился.
— Я знаю, что она удостаивает меня этой чести, сир.
— Она ненавидит также господина де Таверне.
— Если вашему величеству угодно было бы перечислить всех, я уверен, что найдется третье лицо, которое она ненавидит еще сильнее, чем меня и барона.
— Кого же?
— Мадемуазель Андре.
— Ну, по-моему, это вполне естественно, — заметил король.
— В таком случае…
— Однако не мешало бы, герцог, проследить за тем, чтобы графиня Дюбарри не наделала шуму нынешней ночью.
— Да, это нелишне.
— А вот и дворецкий! Тише! Отдайте приказания Рафте и идите вслед за мной в столовую вместе с известным вам лицом.
Людовик XV поднялся и пошел в столовую, а Ришелье вышел в другую дверь.
Пять минут спустя он с бароном догнал короля.
Король ласково поздоровался с Таверне.
Барон был умным человеком: он ответил так, как умеют это делать иные господа, которых короли и принцы признают себе ровней и с которыми, в то же время, они могут не церемониться.
Все трое сели за стол и принялись за ужин.
Людовик XV был плохой король, но приятный собеседник. Его общество, когда он этого хотел, было притягательно для любителей выпить, а также для говорунов и сластолюбцев.
И потом, король посвятил много времени изучению приятных сторон жизни.
Он ел с аппетитом и следил за тем, чтобы бокалы сотрапезников не пустовали. Он завел речь о музыке.
Ришелье подхватил мяч на лету.
— Сир! — проговорил он. — Если музыка способна привести к согласию мужчин, как говорит учитель танцев и как полагает, кажется, ваше величество, то можно ли это же сказать и о женщинах?
— Герцог! Не будем говорить о женщинах, — сказал король. — Со времен Троянской войны и до наших дней на женщин музыка производит обратное действие. У вас-то с ними особые счеты, и я не думаю, чтобы вам был приятен этот разговор; среди них есть одна дама, не самая безобидная, с которой вы на ножах.
— Вы имеете в виду графиню, сир? Разве в том моя вина?
— Разумеется.
— Вот как? Надеюсь, ваше величество мне объяснит…
— Сейчас же и с большим удовольствием, — с насмешкой сказал король.
— Я вас слушаю, сир.
— Ну как же! Она предлагает вам портфель не знаю уж какого ведомства, а вы отказываетесь, потому что, как вы говорите, она не пользуется большой популярностью!
— Я это сказал? — переспросил Ришелье, смутившись оттого, что беседа принимает такой оборот.
— Ходят слухи, черт побери! — отвечал король, напустив на себя, по обыкновению, добродушный вид. — Я уж не помню, от кого я это узнал… Из газеты, должно быть.
— Ну что ж, сир, — молвил Ришелье, воспользовавшись свободой, которую предоставил своим гостям августейший хозяин, — должен признать, что на этот раз и слухи, и даже газеты не так уж далеки от истины.
— Как! — вскричал Людовик XV. — Вы в самом деле отказались от министерства, дорогой герцог?
Нетрудно догадаться, что Ришелье оказался в довольно щекотливом положении. Король лучше, чем кто бы то ни было, знал, что герцог ни от чего не отказывался. Однако Таверне должен был по-прежнему верить в то, что Ришелье сказал ему правду. Герцогу следовало найти такой ответ, чтобы разом не попасться на розыгрыш короля и не заслужить упрек во лжи, готовый сорваться с губ барона и уже мелькавший в его улыбке.
— Сир! — заговорил Ришелье. — Не будем, умоляю вас, обращать внимания на следствие и остановимся на причине. Отказался я или не отказался от портфеля — это государственная тайна, и вашему величеству не следует ее разглашать за бокалом вина. Главное — это причина, по которой я мог бы отказаться от портфеля.
— Герцог! Кажется, эта причина не является государственной тайной? — со смехом воскликнул король.
— Нет, сир, в особенности для вашего величества. Ведь вы для меня и моего друга барона де Таверне являетесь сейчас — да простит мне Бог — самым радушным из смертных амфитрионов. Итак, у меня нет секретов от моего короля. Я изливаю перед ним свою душу, так как не хочу, чтобы кто-нибудь имел основание утверждать, будто у короля Франции не было слуги, способного сказать ему всю правду.
— Что же это за правда? — спросил король, в то время как Таверне, обеспокоенный тем, что Ришелье может сказать лишнее, кусал губы и старательно принимал такое же выражение лица, как у короля.
— Сир! В вашем государстве есть две силы, которым должен был бы подчиняться министр: одна сила — это ваша воля; другая — воля ваших самых близких друзей, которых выбирает себе ваше величество. Первая сила непреодолима, никто не может и помыслить о том, чтобы оказать ей неповиновение. Вторая еще более священна, потому что покорность ей — долг сердца всех, кто вам служит. Она называет себя вашей душой; чтобы повиноваться этой силе, министр должен любить фаворита или фаворитку своего короля.
Людовик XV рассмеялся.
— Герцог! Вот превосходная максима! Однако, надеюсь, вы не станете провозглашать ее на Новом мосту под звуки труб.
— О, я отлично понимаю, сир, — отвечал Ришелье, — что после этого философы возьмутся за оружие. Правда, я не думаю, что вашему величеству или мне это чем-нибудь грозило бы. Главная задача состоит в том, чтобы обе преобладающие воли королевства были удовлетворены. Так вот, сир, я нс побоюсь сказать вашему величеству, хотя бы после этого я впал в немилость, что равносильно для меня смерти: я не мог бы исполнять волю графини Дюбарри.
Людовик XV примолк.
— Вот какая мысль пришла мне в голову, — продолжал Ришелье, — я недавно окинул взглядом придворных вашего величества и, честно говоря, увидел столько красивых и благородных девиц, столько знатных дам, что, будь я королем Франции, я бы не смог сделать выбора.
Людовик XV повернулся к Таверне. Тот, чувствуя, что дело косвенным образом касалось и его, трепетал от страха и надежды; он впился глазами в герцога и всем своим существом готов был помочь его красноречию, словно подталкивая к берегу корабль, на котором находилось все его состояние.
— Вы придерживаетесь того же мнения, барон? — спросил король.
— Сир! Мне кажется, что вот уже несколько минут герцог говорит превосходно! — отвечал Таверне в сильном волнении.
— Так вы согласны с тем, что он говорит о благородных красавицах?
— Сир! Мне кажется, что при французском дворе и в самом деле есть очень хорошенькие!
— Вы того же мнения, барон?
— Да, сир.
— И вы готовы призвать меня, как и он, к тому, чтобы сделать свой выбор среди придворных красавиц?
— Признаться, я совершенно согласен с маршалом; смею также предположить, что и ваше величество придерживается того же мнения.
Наступило молчание; король благосклонно разглядывал Таверне.
— Господа! — проговорил он наконец. — Я, вне всякого сомнения, последовал бы вашему совету, будь мне тридцать лет. И меня нетрудно было бы понять. Однако я считаю, что сейчас я слишком стар для того, чтобы быть чересчур доверчивым.
— Доверчивым? Объясните, пожалуйста, что вы хотите этим сказать, сир!
— Быть доверчивым, дорогой герцог, означает "верить". Так вот, ничто не заставит меня поверить в некоторые вещи.
— В какие?
— Ну, например, что меня в моем возрасте можно полюбить.
— Ах, сир! — воскликнул Ришелье. — Я до сегодняшнего дня думал, что ваше величество — самый красивый дворянин королевства. А вот теперь я с глубоким прискорбием вынужден признать, что ошибался!
— В чем же дело? — со смехом спросил король.
— Да в том, что я стар, как Мафусаил, — ведь я родился в девяносто четвертом году. Вспомните, сир: ведь я на шестнадцать лет старше вашего величества.
Это была ловкая лесть со стороны герцога. Людовик XV неустанно восхищался этим стариком, который убил свои лучшие годы у него на службе. Имея его перед глазами, он мог надеяться, что доживет до таких же лет.
— Пусть так, — согласился Людовик XV, — однако я полагаю, вы уже не надеетесь, что будете любимы ради вас самих, герцог.
— Если бы я так думал, сир, я сейчас же поссорился бы с двумя дамами, которые пытались уверить меня в противном не далее, как нынче утром.
— Ну что же, герцог, — проговорил в ответ Людовик XV, — увидим… Увидим, господин де Таверне! Юность омолаживает, это верно…
— Да, сир, а благородная кровь оказывает особенно благотворное влияние, не говоря уж о том, что при перемене такой незаурядный ум, как у вашего величества, может только выиграть.
— Однако я вспоминаю, что мой прадед, когда постарев. почти перестал ухаживать за женщинами.
— Да что вы, сир, — возразил Ришелье. — При всем моем уважении к покойному королю, который, как известно вашему величеству, дважды отправлял меня в Бастилию, я, тем не менее, скажу, что между зрелым Людовиком Четырнадцатым и зрелым Людовиком Пятнадцатым не может быть никакого сравнения. Неужели вы, ваше христианнейшее величество, так свято чтите свой титул старшего сына Церкви, что приносите свою человеческую природу в жертву аскетизму?
— Нет, клянусь вам! — отвечал Людовик XV. — Я могу в этом признаться, пока здесь нет ни моего доктора, ни исповедника.
— Знаете, сир, ваш предшественник зачастую удивлял своими приступами религиозного рвения и бесчисленными попытками умерщвления плоти даже госпожу де Ментенон, а ведь она была старше его. Так вот, я еще раз спрашиваю, сир: можно ли сравнивать одного человека с другим, когда речь заходит о двух монархах?
Король в этот вечер был в хорошем настроении, а слова Ришелье были для него словно каплями живительной влаги из источника жизни.
Ришелье решил, что подходящий момент настал, и толкнул ногой колено Таверне.
— Сир! — сказал тот. — Примите, пожалуйста, мою признательность за великолепный подарок, приподнесенный моей дочери.
— Не нужно меня за это благодарить, барон, — возразил король. — Мадемуазель де Таверне нравится мне, она порядочная и воспитанная девица. Я бы желал, чтобы у моих дочерей были, наконец, собственные дворы. Разумеется, мадемуазель Андре… так, кажется, ее зовут?
— Да, сир, — подтвердил Таверне, польщенный тем, что король помнит имя его дочери.
— Прелестное имя! Разумеется, мадемуазель Андре была бы первой в списке удостоенных… А пока, барон, прошу вас иметь в виду, что ваша дочь будет находиться под моим покровительством. У нее небогатое приданое, я полагаю?
— Увы, сир!
— Вот я и займусь ее замужеством.
Таверне низко поклонился.
— Как это будет любезно с вашей стороны, ваше величество, если вы найдете ей супруга! Должен признаться, что при нашей бедности, то есть почти нищете…
— Да, да, на этот счет будьте покойны, — отвечал Людовик XV. — Впрочем, она еще очень молода; как мне кажется, ей спешить некуда.
— Тем более, ваше величество, что ваша подопечная страшится замужества.
— Смотрите! — воскликнул король, потирая руки и глядя на Ришелье. — Ну что же, в любом случае можете положиться на меня, господин Таверне, если у вас будут какие-либо затруднения.
С этими словами Людовик XV поднялся и, обращаясь к герцогу, позвал:
— Маршал!
Герцог приблизился к королю.
— Крошка была довольна?
— Чем, сир?
— Ларцом.
— Простите, ваше величество, что я принужден говорить тихо, но отец нас слушает, а ему не следует знать, что я вам собираюсь сказать.
— Дану?
— Можете мне поверить.
— Говорите же!
— Сир! Крошка страшится замужества, это правда, однако в одном я совершенно уверен: она не боится вашего величества.
Он проговорил это фамильярным тоном; королю понравилась его откровенность. А маршал засеменил вслед за Таверне, который из почтительности удалился в галерею.
Друзья вышли в сад.
Был прекрасный вечер. Перед ними шагали два лакея, каждый в одной руке нес факел, а другой придерживал цветущие ветви деревьев. Окна Трианона еще светились праздничными огнями: во дворце веселились пятьдесят человек, приглашенные дофиной.
Музыканты его величества исполняли менуэт. После ужина начались и все еще продолжались танцы.
Спрятавшись в густых зарослях бульденежа и сирени, Жильбер, стоя на коленях, следил за игрой теней на прозрачных занавесках.
Даже если бы небо рухнуло на землю, молодой человек не заметил бы этого: он с упоением следил за фигурами танца.
Однако, когда Ришелье и Таверне прошли мимо кустов, в которых пряталась эта ночная птаха, звук их голосов и некоторые слова заставили Жильбера поднять голову и прислушаться.
Дело в том, что именно эти слова были для него очень важны и многозначительны.
Опершись на руку друга и склонившись к его уху, маршал говорил:
— Хорошенько все обдумав и взвесив, барон, я должен признаться, что, по моему мнению, необходимо немедленно отправить твою дочь в монастырь.
— Почему? — спросил барон.
— Ручаюсь головой, что король без ума от мадемуазель де Таверне, — отвечал маршал.
Услыхав эти слова, Жильбер стал белее цветов бульденежа, опускавшихся ему на лицо и плечи.
CXIV
ПРЕДЧУВСТВИЯ
На следующий день часы в Трианоне пробили двенадцать, когда Николь прокричала не выходившей еще из комнаты Андре:
— Мадемуазель! Мадемуазель! Господин Филипп!
Крик раздавался внизу на лестнице.
Удивленная, но в то же время обрадованная, Андре запахнула на груди муслиновый пеньюар и бросилась навстречу молодому человеку, спешивавшемуся на дворе Трианона. Он как раз справлялся у слуг, в котором часу он мог бы повидаться с сестрой.
Андре распахнула входную дверь и оказалась лицом к лицу с Филиппом; услужливая Николь уже сходила за ним во двор и теперь вела его за собой по ступенькам.
Девушка бросилась брату на шею, и оба они направились в комнату Андре вместе с Николь.
Только тогда Андре заметила, что Филипп выглядел мрачнее, чем обыкновенно, что даже в его улыбке проглядывала грусть; еще она обратила внимание на то, как безупречно на нем сидел элегантный мундир; под мышкой он зажимал походный плащ.
— Что случилось, Филипп? — спросила она тотчас же, повинуясь инстинкту, свойственному чувствительным натурам, для которых довольно одного взгляда, чтобы заметить неладное.
— Дорогая сестра! — отвечал Филипп. — Нынче утром я получил приказ догонять свой полк.
— Так ты уезжаешь?
— Уезжаю.
Андре вскрикнула, и после этого болезненного вскрика ее словно оставили силы и мужество.
И хотя в отъезде Филиппа не было ничего необычного и Андре следовало быть к нему готовой, новость эта настолько ее сразила, что она была вынуждена опереться на руку брата.
— Боже мой, неужели тебя так огорчает мой отъезд? — с удивлением заметил Филипп. — Ты ведь знаешь, Андре, что в жизни солдата это случается довольно часто.
— Да, да! Разумеется! — прошептала девушка. — А куда ты едешь, брат?
— Мой гарнизон сейчас в Реймсе. Меня ждет не такой уж долгий путь, как видишь. Правда, оттуда полк, по всей вероятности, будет переведен в Страсбур.
— Как жаль! — воскликнула Андре. — Когда же ты отправляешься?
— Приказом мне предписывается отправляться в путь немедленно.
— Так ты пришел попрощаться?..
— Да, сестра.
— Попрощаться!..
— Ты мне хотела сообщить что-нибудь особенное, Андре? — спросил Филипп, обеспокоенный грустью сестры — грустью, несоразмерной со слишком незначительной причиной — его отъездом.
Андре поняла, что его последние слова относились к Николь, следившей за происходящим с нескрываемым удивлением, вызванным душевным состоянием Андре.
Действительно, отъезд Филиппа, офицера, отправлявшегося в свой гарнизон, никак не мог быть катастрофой, вызвавшей столько слез.
Андре поняла и чувства Филиппа, и удивление Николь. Она накинула на плечи мантилью и направилась к двери.
— Иди к решетке парка, Филипп, — сказала она. — Я тебя провожу крытой аллеей. Мне в самом деле необходимо кое-что тебе сообщить, брат.
Эти слова послужили приказом для Николь. Она скользнула вдоль стены и вернулась в комнату хозяйки, пока та спускалась по лестнице вместе с Филиппом.
Андре спускалась по той самой лестнице, которая еще и сегодня идет вдоль часовни и через переход выводит в сад. Несмотря на вопросительные и тревожные взгляды Филиппа, Андре долгое время молчала, повиснув на руке брата и склонив голову к нему на плечо.
Потом сердце ее не выдержало, она смертельно побледнела, ком подступил у нее к горлу и слезы хлынули из глаз.
— Сестричка, дорогая моя, милая Андре! — вскричал Филипп. — Во имя Неба заклинаю тебя объяснить, что с тобой?
— Друг мой! Мой единственный друг! — пролепетала Андре. — Ты оставляешь меня одну в мире, куда я попала совсем недавно, где я чужая, и ты еще спрашиваешь, почему я плачу! Посуди сам, Филипп: моя мать умерла в тот день, как я появилась на свет; страшно в этом признаться, но отца у меня словно и не было. Все свои огорчения, все свои маленькие тайны я поверяла тебе одному. Кто мне улыбался? Кто меня ласкал? Кто меня баюкал, когда я была совсем маленькая? Ты! Кто заставил меня поверить в то, что Божьи твари были созданы в этом мире не только для страданий? Ты, Филипп, тоже ты. И я никогда и никого не любила с тех пор, как появилась на свет, кроме тебя, и меня никто не любил, кроме тебя. Ах, Филипп, — с грустью продолжала Андре, — ты отворачиваешься, и я знаю, о чем ты сейчас думаешь! Ты говоришь себе, что я молода, красива, что я не права, что я не верю в будущее и в любовь. Увы, ты сам видишь, Филипп, что недостаточно быть красивой и молодой — ведь я никому не нужна.
Ты скажешь, что ее высочество дофина ко мне добра. Разумеется, она совершенство, так мне, по крайней мере, кажется: я смотрю на нее как на божество. Но, может быть, именно оттого, что я к ней так отношусь, я испытываю к ней уважение, но не любовь. А любовь, Филипп, так мне нужна! Ведь я привыкла загонять внутрь любое чувство, и теперь мое сердце готово разорваться. Мой отец… О, Господи, отец!.. Я не сообщу тебе ничего нового, Филипп: отец не только не является ни моим защитником, ни другом — напротив, когда он смотрит на меня, он внушает мне страх. Да, да, я боюсь его, Филипп, особенно с той минуты, как узнала, что ты уезжаешь. Чего я боюсь? Сама не знаю. Боже мой! Да разве не так же птицы и звери предчувствуют надвигающуюся бурю?
Ты скажешь, что это инстинкт; но почему ты не считаешь, что наша бессмертная душа инстинктивно не предчувствует несчастье? С некоторых пор наша семья преуспевает. Мне это хорошо известно. Ты уже капитан; что касается меня, то я почти что близкий друг дофины. Отец вчера ужинал чуть ли не один на один с королем. Так он, по крайней мере, говорит. Ты, должно быть, сочтешь меня сумасшедшей, но я все равно скажу тебе, Филипп: все это пугает меня больше, чем наша нищета и наша безвестность в те времена, когда мы жили в Таверне.
— Но там, дорогая сестричка, ты тоже была одна, — с грустью возразил Филипп, — там даже не было меня, чтобы тебя утешить.
— Да, но там я была наедине со своими детскими воспоминаниями. Мне казалось, что стены, в которых я родилась и выросла, в которых умерла моя мать, должны меня защитить, если можно так выразиться. Все мне там было мило. Я была спокойна, когда ты уезжал, и радовалась, когда ты возвращался. Независимо от твоих отъездов и возвращений, мое сердце принадлежало не только тебе, но и нашему дорогому дому, саду, цветам, тому целому, чьей частью ты был когда-то. А сегодня ты для меня все, Филипп. Раз ты меня покидаешь, это значит, что я оставлена всеми.
— Но ведь сегодня, Андре, у тебя гораздо более могущественные защитники, чем я, — возразил Филипп.
— Это верно.
— И впереди у тебя блестящее будущее.
— Как знать!..
— Что же тебя пугает?
— Не знаю.
— Это неблагодарность по отношению к Богу, сестричка.
— Да нет, я за все горячо благодарю Небо, молясь утром и вечером. Но мне кажется, что каждый раз как я опускаюсь на колени, Бог, вместо того чтобы принять мои молитвы, словно предупреждает меня: "Берегись, берегись!"
— Да чего же ты должна беречься? Ответь! Я вместе с тобой готов предположить, что тебе угрожает несчастье. Ты что-нибудь предчувствуешь? Знаешь ли ты, что нужно делать, чтобы его преодолеть или избежать?
— Я ничего не знаю, Филипп. Но, видишь ли, мне кажется, будто моя жизнь висит на волоске и что меня ничего хорошего не ждет с той минуты, как ты уедешь. Словом, у меня такое ощущение, будто меня во сне внесли на высокую гору, где, проснувшись, я должна удержаться. И вот я проснулась, вижу пропасть, но я уже лечу в нее, а тебя нет, и удержать меня некому. И я вот-вот исчезну в этой пропасти и разобьюсь насмерть.
— Дорогая сестричка, моя милая Андре! — заговорил Филипп, невольно приходя в волнение при виде ужаса, написанного на лице Андре. — Ты преувеличиваешь свое нежное чувство ко мне, я очень тебе благодарен. Да, ты теряешь друга, но ведь ненадолго: я буду недалеко, и ты можешь меня вызвать, как только я тебе понадоблюсь. Все это только химеры, тебе ничто не угрожает.
Андре остановилась перед братом.
— В таком случае, Филипп, объясни мне, почему ты, мужчина, сильнее меня духом, сейчас такой же грустный, как и я? Как ты это объяснишь, брат?
— Объяснить нетрудно, дорогая сестра, — отвечал Филипп, останавливая Андре, которая пошла было снова, как только перестала говорить. — Мы с тобой брат и сестра не только по духу и крови, мы одинаково чувствуем. Кроме того, мы жили в согласии, что стало мне особенно дорого со времени нашего переезда в Париж. Сейчас я вынужден порвать эту связь с тобой, и этот удар отзывается в моем сердце. Вот отчего я тоскую, но это пройдет. Я, Андре, заглядываю в будущее и не верю в несчастье, если не считать несчастьем нашу разлуку на несколько месяцев, может быть, на год. Но я смирился и говорю не "прощай", а "до свидания".
Несмотря на его утешения, Андре зарыдала.
— Дорогая сестра! — воскликнул Филипп в отчаянии оттого, что не понимает причины ее слез. — Ты не все мне сказала, ты что-то от меня скрываешь. Прошу тебя во имя Неба: скажи мне правду!
Он обнял его за плечи, привлек к себе и заглянул в глаза.
— Что ты, Филипп! Нет, нет, клянусь тебе: ты знаешь все, мое сердце у тебя как на ладони.
— Тогда умоляю тебя, Андре: возьми себя в руки и не огорчай меня.
— Ты прав, — сказала она, — я просто сошла с ума. Послушай: я никогда не была сильна духом, ты знаешь это лучше, чем кто бы то ни было, Филипп. Я постоянно чего-то пугаюсь, что-то себе придумываю, чем-то недовольна. Но я не должна впутывать в свои бредни горячо любимого брата, если он меня уверяет в обратном и пытается доказать, что мои тревоги напрасны. Ты прав, Филипп: верно, все верно, мне здесь очень хорошо. Прости меня, Филипп. Видишь, я вытираю слезы, я больше не плачу, я улыбаюсь, Филипп. Нет, я не стану говорить "прощай", я тоже скажу тебе "до свидания".
Девушка нежно поцеловала брата, пряча от него последнюю слезу, затуманившую ее взор и скатившуюся, словно жемчужинка, на золотой аксельбант молодого офицера.
Филипп взглянул на сестру с нескрываемой братской нежностью и в то же время с отеческой заботой.
— Андре! — молвил он. — Я так тебя люблю! Ничего не бойся. Я уезжаю, но каждую неделю буду посылать тебе с курьером письма. И я прошу, чтобы ты каждую неделю отвечала мне.
— Хорошо, Филипп. Для меня это будет единственной радостью. А ты предупредил отца?
— О чем?
— Об отъезде.
— Дорогая сестра! Да ведь барон сам принес мне нынче утром приказ министра. Господин де Таверне не ты, Андре. Он без труда обойдется без меня; мне показалось, что он рад моему отъезду, и он прав: здесь я не продвинусь по службе, а там, напротив, для этого может представиться случай.
— Отец счастлив, оттого что ты уезжаешь? — прошептала Андре. — Ты не ошибся, Филипп?
— У него есть ты, — проговорил Филипп, избегая ответа на вопрос. — Для него это большое утешение, сестричка.
— Ты вправду так думаешь, Филипп? Он меня совсем не видит.
— Сестричка! Он поручил мне как раз сегодня передать тебе, что после моего отъезда он приедет в Трианон. Он тебя любит, поверь мне. Вот только любит он по-своему.
— Что с тобой, Филипп? Что тебя смущает?
— Дорогая Андре! Только что звонили часы. Который теперь час?
— Три четверти первого.
— Так вот, дорогая сестричка, причина моего смущения в том, что я уже час как должен быть в пути, а мы теперь подошли к решетке, где меня ждет мой конь. Итак…
Андре спокойно посмотрела на брата и, взяв его за руку, проговорила, пожалуй, чересчур твердым голосом, чтобы скрыть охватившие его чувства:
— Прощай, брат…
Филипп в последний раз обнял ее.
— До свидания! Помни о своем обещании.
— О каком обещании?
— Не менее одного письма в неделю.
— Можешь не просить.
Андре произнесла эти слова из последних сил: бедняжка не могла больше говорить.
Филипп еще раз взмахнул рукой и удалился.
Андре провожала его глазами, затаив дыхание и удерживая вздох.
Филипп сел на коня, еще раз простился с ней через решетку и ускакал.
Андре неподвижно стояла до тех пор, пока он не скрылся из виду.
Потом она повернулась и бросилась бежать, словно раненая лань. Едва добежав до скамейки, она рухнула на нее как подкошенная.
Из груди ее вырвался душераздирающий крик.
— Боже мой! Боже! — рыдая, говорила она. — Зачем ты оставил меня одну на земле?
Она спрятала лицо в ладонях, роняя сквозь пальцы крупные слезы, которые она не пыталась больше сдерживать.
Вдруг у нее за спиной, в кустарнике, послышался легкий шум. Андре показалось, что это чей-то вздох. Она в испуге обернулась: прямо перед собой она увидела чье-то грустное лицо.
Это был Жильбер.
Назад: CV ТЕЛО И ДУША
Дальше: СХV РОМАН ЖИЛЬБЕРА