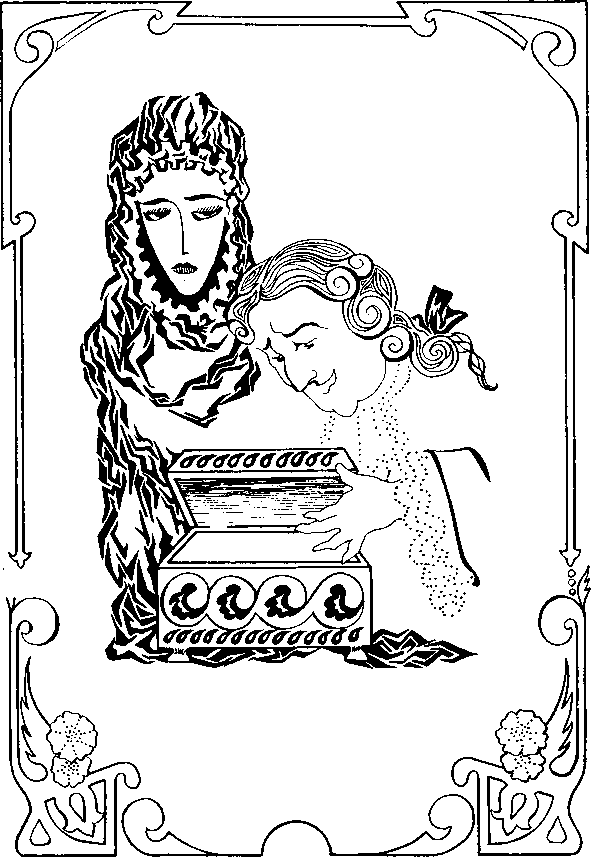Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 19.Джузеппе Бальзамо. Часть 4,5
Назад: СХ ЗА КУЛИСАМИ ТРИАНОНА
Дальше: ЧАСТЬ ПЯТАЯ
СХV
РОМАН ЖИЛЬБЕРА
Как мы уже сказали, это был Жильбер, такой же бледный, печальный и подавленный, как и Андре.
При виде постороннего человека гордая Андре поспешно вытерла глаза, словно стесняясь своих слез. Она собралась с силами и сдержала рыдания.
Жильберу понадобилось больше времени для того, чтобы успокоиться, и его лицо еще сохраняло страдальческое выражение, когда мадемуазель де Таверне подняла глаза. Она узнала его и успела заметить в его глазах грусть.
— A-а, это опять вы, господин Жильбер! — встретила она его небрежным тоном, каким обыкновенно говорила всякий раз, как случай сводил ее с этим молодым человеком.
Жильбер ничего не ответил: он был очень взволнован.
Страдание, заставлявшее Андре содрогаться всем телом, передалось Жильберу.
— Что с вами, господин Жильбер? — продолжала Андре. — Почему вы смотрите на меня так жалостливо? Должно быть, вас что-то огорчает? Что же, скажите на милость?
— Вы желаете узнать? — печально спросил Жильбер, улавливая скрытую насмешку, несмотря на участливый тон ее слов.
— Да.
— Что ж, извольте: меня огорчает то, что вы страдаете, мадемуазель, — отвечал Жильбер.
— А кто вам сказал, что я страдаю?
— Я это вижу.
— Я не страдаю, вы ошибаетесь, — возразила Андре, еще раз вытерев лицо платком.
Жильбер почувствовал, как в его сердце закипает ярость, но он решил подавить ее.
— Прошу прощения, мадемуазель, — молвил он, — однако я слышал, как вы жаловались.
— Так вы подслушивали? Прекрасно!..
— Мадемуазель! Это случайность… — пролепетал Жильбер, чувствуя, что вынужден солгать.
— Случайность? Я в отчаянии, господин Жильбер, что случай привел вас ко мне. Но с какой стати рыдания, которые вы слышали, вас огорчили? Отвечайте!
— Я не могу видеть, как плачет женщина, — ответил Жильбер тоном, который не понравился Андре.
— Уж не вздумалось ли господину Жильберу увидеть во мне женщину? — пожала плечами девушка. — Я никого не прошу проявлять ко мне внимание, тем более — господина Жильбера!
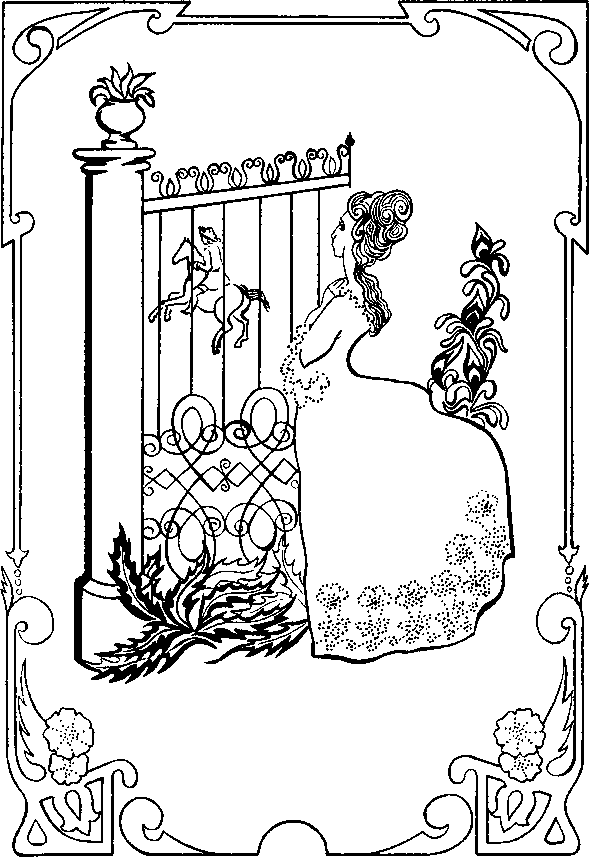
— Мадемуазель! — заговорил Жильбер, укоризненно качая головой. — Вы напрасно так резки со мной. Я увидел, что вы грустны, и опечалился. Я услышал, как после отъезда господина Филиппа вы сказали, что отныне вы одна в целом свете. Нет же, нет, мадемуазель, потому что есть я! Нет ни одного человека, который был бы вам предан больше, чем я! Повторяю: никогда мадемуазель де Таверне не будет одинока, пока мой мозг способен мыслить, пока бьется мое сердце, пока я могу протянуть руку помощи.
Жильбер был очень хорош в эту минуту; он был благороден и беззаветно предан, хотя и произнес эти слова со всей безыскусностью, какой требовала от него почтительность.
Но, как мы говорили, все в молодом человеке раздражало Андре, оскорбляло ее чувства и заставляло ее говорить грубости, словно каждое его почтительное слово было для нее оскорблением, все его мольбы — вызовом. Она хотела было встать, чтобы резким движением подчеркнуть свое презрение, однако вновь охватившая ее дрожь помешала ей подняться со скамейки. Кроме того, она подумала, что если она встанет, то кто-нибудь может увидеть ее с Жильбером. И она продолжала сидеть; она решила раз навсегда отделаться от этого надоедливого насекомого.
— Мне кажется, я уже говорила вам о том, что вы мне не нравитесь, господин Жильбер; ваш голос меня раздражает, мне противны ваши философские разглагольствования. Зачем же вы упрямо пытаетесь со мной заговаривать?
— Мадемуазель! — вскрикнул Жильбер, побледнев, но сдержавшись. — Разве можно вызвать раздражение у благовоспитанной женщины, выразив ей свое расположение? Честный человек достоин любого другого человека, а вы обходитесь со мной так жестоко! Ведь я, может быть, заслуживаю вашего расположения более, чем кто-либо иной, и горячо сожалею о том, что вы не замечаете меня.
При слове "расположение", повторенном дважды, Андре широко раскрыла глаза и вызывающе посмотрела на Жильбера.
— Расположение? — воскликнула она. — Ваше ко мне расположение, господин Жильбер? Оказывается, я ошибалась. Я вас считала наглецом, а вы еще того хуже, вы безумец.
— Я не наглец, не безумец, — возразил Жильбер со сдерживаемым спокойствием, дорого стоившим этому гордецу, что хорошо известно читателю. — Нет, мадемуазель, природа создала меня равным вам, а случай сделал вас моей должницей.
— Опять случай? — с насмешкой спросила Андре.
— Мне следовало бы сказать: Провидение. Я никогда бы не заговорил об этом с вами, но ваши оскорбления заставляют меня об этом вспомнить.
— Я ваша должница? Вы сказали — ваша должница? Я правильно вас поняла, господин Жильбер?
— Мне было бы стыдно, если бы вы оказались неблагодарны, мадемуазель. Бог наградил вас красотой и дал вам в придачу много недостатков, но только не этот!
Тут Андре встала.
— Прошу прощения, — возразил Жильбер, — но иногда ваши недостатки так сильно меня раздражают, что я даже забываю о той симпатии, какую я к вам питаю.
Андре громко расхохоталась. Жильбера это привело в бешенство. Но, к своему удивлению, он не взорвался.
Он скрестил на груди руки и с враждебностью и упрямством в горящих глазах стал терпеливо ждать, когда прекратится ее наигранный смех.
— Мадемуазель! — холодно произнес он. — Соблаговолите ответить на один-единственный вопрос. Вы уважаете своего отца?
— Уж не вздумали ли вы меня допрашивать, господин Жильбер? — высокомерно спросила девушка.
— Да, вы уважаете отца, — продолжал Жильбер, — и ведь не за его душевные качества, не за его достоинства. Нет, только за то, что он дал вам жизнь. Отца — к несчастью, вам это должно быть знакомо — уважают только за то, что он отец. Более того: за одно это благое дело — он дал вам жизнь… — тут Жильбер оживился, испытывая снисходительность и жалость. — За одно это благое дело вы должны любить благодетеля. Так вот, мадемуазель, приняв это за основу, я могу спросить вас: почему же меня вы оскорбляете? Почему вы меня отталкиваете? Почему вы ненавидите меня? Правда, не я подарил вам жизнь, но я вам ее спас!
— Вы? — спросила Андре. — Вы спасли мне жизнь?
— Вы об этом не думали, — заметил Жильбер, — вернее сказать, вы об этом забыли. Это вполне естественно — ведь с тех пор прошел целый год. Ну что же, мадемуазель, мне надлежит сообщить или напомнить вам об этом. Да, я спас вам жизнь, рискуя собой.
— Будьте любезны, по крайней мере, сказать мне, где и когда это было, — сильно побледнев, попросила Андре.
— Это было в тот самый день, мадемуазель, когда сто тысяч человек, давя друг друга, спасаясь от необузданных лошадей и летавших над толпой сабель, оставили после себя на площади Людовика Пятнадцатого груду мертвых и раненых тел.
— A-а, тридцать первого мая!..
— Да, мадемуазель.
Андре снова встала, насмешливо улыбаясь.
— И вы утверждаете, что в тот день подвергали опасности свою жизнь ради моего спасения, господин Жильбер?
— Да, как я уже имел честь сказать вам.
— Так вы, значит, барон де Бальзамо? Простите, я не знала.
— Нет, я не барон де Бальзамо, — возразил Жильбер; взор его горел, губы тряслись. — Я бедное дитя народа, Жильбер, у которого достало глупости вас полюбить, и в этом мое несчастье. Я любил вас как безумный, как одержимый и поэтому бросился за вами в толпу. Я тот самый Жильбер, которого разлучила с вами на мгновение толпа, но, услыхав страшный крик, с каким вы упали, Жильбер кинулся вслед за вами и обхватил вас руками раньше, чем двадцать тысяч других рук успели отнять у него последние силы. Вас неминуемо раздавили бы, но Жильбер прижался к каменному столбу, чтобы своим телом смягчить вам удар. А когда Жильбер заметил в толпе странного господина, казалось повелевавшего другими людьми, — его имя вы только что произнесли — Жильбер собрал остатки сил, физических и душевных, и поднял вас на слабеющих руках, чтобы этот господин вас заметил, подобрал, спас. Жильбер уступил вас более удачливому спасителю, а себе оставил лишь клочок вашего платья и прильнул к нему губами — прильнул вовремя, потому что кровь подступила к его сердцу, к вискам, к затылку. Сплетенные в единый клубок палачи и их жертвы обрушились как волна и поглотили его, а вы в это время, подобно ангелу, возносились к небесам.
Жильбер предстал сейчас во всей своей самобытности, то есть диким, наивным, возвышенным как в своей решимости, так и в любви. Несмотря на презрительное к нему отношение, Андре не могла скрыть удивления. Он даже подумал было, что его правдивый рассказ тронул ее сердце. Однако бедный Жильбер не принял во внимание, что она может ему не поверить. Ненавидевшая Жильбера, Андре не придала значения ни одному доводу своего презренного поклонника.
Она ничего не ответила; она смотрела на Жильбера, и мысли ее путались.
Ее холодность привела его в замешательство, и он счел необходимым прибавить:
— Я прошу вас не относиться ко мне с ненавистью, потому что это была бы не только несправедливость, но и неблагодарность.
Андре гордо подняла голову и безразличным тоном, что было особенно жестоко, спросила:
— Господин Жильбер! Как долго вы были учеником господина Руссо?
— Три месяца, кажется, — простодушно отвечал Жильбер, — не считая времени, когда я был болен после давки тридцать первого мая.
— Вы меня не поняли, — сказала она. — Я не спрашиваю вас, были вы больны или нет… после давки… Возможно, это прекрасный конец для той истории, которую вы мне поведали… Но меня это не интересует. Я вам хотела сказать, что, проведя у прославленного писателя всего три месяца, вы не теряли времени даром: ученик сочиняет романы ничуть не хуже своего учителя.
Жильбер спокойно слушал ее, полагая, что на его взволнованную речь Андре ответит серьезно. Вот почему насмешку Андре он воспринял как кровную обиду.
— Роман? — прошептал он, задохнувшись от возмущения. — Вы считаете романом то, что сейчас от меня услышали?
— Да, — отвечала Андре, — вот именно, роман. Благодарю вас за то, что мне не пришлось его читать. Я очень сожалею, что не могу за него заплатить; как бы я ни старалась, все было бы напрасно: ваш роман — бесценный.
— Вот как вы мне отвечаете! — пролепетал Жильбер; сердце его сжалось, взгляд потух.
— Да я даже и не отвечаю, — молвила Андре, оттолкнув его и проходя мимо.
С другого конца аллеи ее уже звала Николь. Сквозь листву она не узнала Жильбера в собеседнике своей хозяйки и потому не желала своим внезапным появлением прерывать беседу.
Однако, подойдя ближе, она увидела юношу, узнала его и застыла от изумления. Только тогда она пожалела, что не подкралась и не подслушала, о чем может Жильбер говорить с мадемуазель де Таверне.
Желая дать почувствовать Жильберу свое презрение к нему, Андре заговорила с Николь подчеркнуто ласково.
— Что случилось, дитя мое? — спросила она.
— Господин барон де Таверне и господин герцог де Ришелье спрашивали мадемуазель, — ответила Николь.
— Где они?
— В комнате мадемуазель.
— Идите.
Андре пошла к дому.
Николь последовала за ней и, уходя, бросила на Жильбера насмешливый взгляд. Юноша стоял смертельно бледный, он был похож на сумасшедшего, он был не столько взбешен, сколько одержим. Он погрозил кулаком в направлении аллеи, по которой удалилась его неприятельница, и, скрежеща зубами, пробормотал:
— Бессердечная! Бездушное создание! Я спас тебе жизнь, отдал тебе свою любовь, я задушил в себе всякое чувство, способное оскорбить, как мне казалось, твою чистоту, ведь для меня в моем бреду ты представлялась сошедшей с небес святой… Ну, теперь я рассмотрел тебя вблизи: ты самая обыкновенная женщина, ну а я — мужчина… Придет день, и я тебе отомщу, Андре де Таверне!
Ты дважды была у меня в руках, и оба раза я тебя пощадил. Андре де Таверне! Берегись! В третий раз пощады не будет!
Он пошел через парк напрямик, не разбирая дороги; так уходит раненый волк: оборачиваясь, скаля хищные зубы, глядя налитыми кровью глазами.
CXVI
ОТЕЦ И ДОЧЬ
Дойдя до конца аллеи, Андре увидела маршала, прогуливавшегося вместе с ее отцом перед входом и ожидавшего ее.
Друзья, казалось, были в прекрасном расположении духа; они шли под руку. При дворе еще не было более полного воплощения Ореста и Пилада.
Завидев Андре, старики заулыбались и стали наперебой расхваливать друг другу ее красоту: гнев и быстрая ходьба придали ей блеск.
Маршал так поклонился Андре, как если бы перед ним стояла новая г-жа де Помпадур. Эта подробность не ускользнула от Таверне и очень его порадовала. Однако Андре была удивлена его почтительностью и в то же время несколько вольной галантностью: ловкий придворный умело сочетал немало разных оттенков в одном поклоне, как Ковьель умел одним турецким словом передать смысл нескольких французских предложений.
Андре одинаково церемонно поклонилась барону и маршалу и с милой улыбкой пригласила их подняться к ней в комнату.
Маршала восхитила изящная простота — единственное достоинство меблировки и архитектуры скромной комнаты. Благодаря цветам и белым муслиновым занавескам Андре удалось превратить свою убогую комнату не во дворец, но в храм.
Маршал сел в кресло, обитое персидской тканью с крупным рисунком, под большой китайской вазой, откуда свисали душистые ветки акации и клена вперемежку с ирисами и бенгальскими розами.
Таверне опустился в точно такое же кресло. Андре села на складной стульчик и оперлась локтем на клавесин, тоже украшенный цветами, стоявшими в большой вазе саксонского фарфора.
— Мадемуазель! — обратился к ней маршал. — Я пришел, чтобы передать вам от его величества восхищение вашим прелестным голосом и вашей музыкальностью, вызвавшими восторг у всех присутствовавших на репетиции. Его величество не стал хвалить вас вслух, опасаясь пробудить в других зависть. Вот почему он и поручил мне выразить вам благодарность за удовольствие, которое вы ему доставили.
Зардевшаяся Андре была так хороша, что маршал не мог остановиться и говорил первое, что приходило ему в голову:
— Король утверждал, что ему не приходилось видеть при дворе никого, кто, подобно вам, мадемуазель, сочетает в себе тонкий ум и безупречную красоту.
— Вы забыли упомянуть о ее душевных качествах, — прибавил сияющий Таверне, — Андре — образцовая дочь.
Маршалу на минуту показалось, что его друг вот-вот расплачется. В восхищении от подобной родительской чувствительности он воскликнул:
— Душа!.. Увы, дорогой мой, вы один можете судить о душевных качествах мадемуазель. Будь я двадцатипятилетним юношей, я сложил бы к ее ногам свою жизнь и все свое состояние!
Андре еще не научилась хладнокровно выслушивать любезности придворного. У нее из груди вырвался только вздох.
— Мадемуазель! — продолжал Ришелье. — Король пожелал выразить свое удовлетворение и просил вас благосклонно принять то, что он поручил вам передать через господина барона. Что я должен передать его величеству от вашего имени?
— Сударь, я прошу вас передать его величеству мою признательность, — отвечала Андре, не вкладывая в свои слова ничего, кроме глубокой почтительности, входящей в обязанности любой подданной. — Скажите его величеству, что я счастлива оказанным мне вниманием и считаю себя недостойной благосклонности столь могущественного монарха.
Ришелье, казалось, понравились слова девушки, которые она произнесла твердо, без малейшего колебания.
Он взял ее руку, почтительно поцеловал и, не сводя с нее глаз, проговорил:
— Рука королевы, ножка феи… ум, воля, чистота… Ах, барон, какое сокровище!.. У вас не дочь, а настоящая королева…
Затем он раскланялся, оставив Таверне с Андре. Барона распирало от гордости и упований.
Если бы кто-нибудь видел, с каким наслаждением этот приверженец старой философии, скептик, насмешник купался в сыпавшихся на него милостях, не желая замечать, в какую он попал трясину, тот мог бы подумать, что Господь лишил г-на де Таверне не только сердца, но и разума.
Один Таверне мог заметить по поводу этих перемен в себе: "Изменился не я, изменились времена!"
Итак, он остался сидеть вместе с Андре, чувствуя некоторую неловкость оттого, что девушка внимательно и безмятежно смотрела на него ясными, бездонными глазами.
— Господин де Ришелье, кажется, сказал, сударь, что его величество поручил вам передать доказательство своего удовлетворения. Что же это?
— Ага! — воскликнул Таверне. — Она заинтересовалась… Вот бы никогда не поверил… Тем лучше, черт возьми, тем лучше!
Он медленно вынул из кармана ларец, который вручил ему накануне маршал, — так заботливые отцы достают пакетик с конфетами или игрушку, за которыми ребенок с жадностью следит глазами.
— Вот, — проговорил он.
— Драгоценности!.. — ахнула Андре.
— Они тебе нравятся?
Это был очень дорогой жемчужный гарнитур. Дюжина крупных бриллиантов соединяла между собой нитки жемчугов. Бриллиантовый фермуар, серьги и бриллиантовая нить для волос — все это стоило, по меньшей мере, тридцать тысяч экю.
— Боже мой! Отец! — вскрикнула Андре.
— Ну как?
— Это слишком великолепно… Король, должно быть, ошибся. Мне будет стыдно это надеть. У меня же нет подходящих туалетов для таких дорогих камней!
— Ну-ну, ты еще пожалуйся! — насмешливо бросил Таверне.
— Сударь, вы меня не понимаете… Мне очень жаль, что я не могу носить эти драгоценности: они слишком хороши.
— Король, подаривший этот ларец, мадемуазель, достаточно знатный сеньор, чтобы подарить вам и платья.
— Но, отец… эта щедрость короля…
— Вы полагаете, что я ее не заслужил? — спросил Таверне.
— Простите, сударь, вы правы, — согласилась Андре, опустив голову; однако сомнения не оставляли ее.
Подумав с минуту, она захлопнула ларец.
— Я не стану носить эти бриллианты, — заявила она.
— Почему? — встревожился Таверне.
— Потому, отец, что у вас и у брата нет даже самого необходимого, а от этой роскоши у меня заболели глаза, как только я вспомнила о стесненных обстоятельствах, в которых вы живете.
Таверне с улыбкой пожал ей ручку.
— Об этом можешь не беспокоиться, дочь моя. Король осчастливил меня еще более, чем тебя. Мы попали в милость, дорогое дитя мое! И было бы непочтительно и неблагодарно появиться переднего величеством без украшения, которое он соблаговолил тебе приподнести.
— Хорошо, я повинуюсь, отец.
— Да, но ты должна делать это с удовольствием… Кажется, это украшение не очень тебе нравится?
— Я ничего не понимаю в бриллиантах, отец.
— Могу тебе сообщить, что только жемчуг стоит пятьдесят тысяч ливров.
Андре молитвенно сложила руки.
— Как странно, что его величество делает мне такие подарки! Что вы на это скажете, отец?
— Я вас не понимаю, мадемуазель, — сухо сказал Таверне.
— Уверяю вас, отец, что, если я надену эти драгоценности, это вызовет толки.
— Почему? — так же сухо спросил Таверне и сурово посмотрел на дочь, опустившую глаза под его холодным взглядом.
— Мне неловко.
— Мадемуазель! Довольно странно, признайтесь, что вы чувствуете неловкость там, где я ее не вижу. Да здравствуют добродетельные девицы, угадывающие зло, как бы хорошо оно ни было скрыто, когда никто его не замечает! Да здравствует наивная и чистая девушка, способная заставить покраснеть меня, старого гренадера!
Андре смутилась и закрыла лицо руками с прелестными перламутровыми ноготками.
— Ах, брат, — прошептала она. — Почему ты так далеко?
Слышал ли Таверне ее слова? Догадался ли он благодаря уже известной читателю прозорливости его? Кто знает? Однако он сейчас же изменил тон и, взяв Андре за обе руки, сказал:
— Дитя мое! Разве отец тебе не друг?
Нежная улыбка проглянула и заиграла на омрачившемся было личике Андре.
— Разве я здесь не для того, чтобы тебя любить, чтобы дать тебе совет? Разве ты не гордишься тем, что помогаешь преуспеть и брату и мне?
— Да, да, разумеется, — согласилась Андре.
Барон ласково посмотрел на дочь.
— Так вот, — продолжал он, — как справедливо заметил герцог де Ришелье, ты скоро станешь королевой де Таверне… Король тебя отличил… Ее высочество дофина — тоже, — с живостью прибавил он. — В семейном кругу августейших особ, осчастливив их своим присутствием, ты составишь наше будущее… Подруга дофины, подруга… короля, какой почет!.. Ты необычайно талантлива и на редкость красива. У тебя чистая душа, ты лишена зависти и честолюбия… Ах, дитя мое, какую роль ты могла бы сыграть! Помнишь девушку, которая скрашивала конец жизни Карла Шестого? Во Франции благославляют ее имя… Вспомни Агнессу Со-рель, восстановившую честь французской короны! Все истинные французы чтят ее память… Андре, ты будешь посохом нашего славного монарха… Он будет тебя лелеять как родную дочь, и ты станешь править Францией по праву самой красивой, отважной и преданной.
Андре широко раскрыла глаза от удивления. Не давая ей опомниться, барон продолжал:
— Ты одним своим взглядом прогонишь всех падших женщин, что только позорят трон; одно твое присутствие очистит двор. Твоему великодушному влиянию знать всего королевства будет обязана возвращением добрых нравов, хорошего тона, изысканной вежливости. Дочь моя, ты можешь и должна стать путеводной звездой для всего нашего государства и венцом славы для нашей семьи.
— А что я должна для этого сделать? — спросила оглушенная Андре.
— Андре! Я тебе часто говорил, что в этом мире приходится вынуждать людей к тому, чтобы они были добродетельными, заставлять их любить добродетель. Добродетель хмурая, тоскливая, бубнящая поучения отталкивает даже тех, кто готов был к ней приблизиться. Пусть твоя добродетель будет не лишена кокетства, даже порока. Это под силу такой умной и сильной девушке, как ты. Будь ослепительной, чтобы при дворе только и было разговору, что о тебе. Постарайся, чтобы королю было с тобой хорошо и чтобы он не мог без тебя обходиться. Будь очень скрытной, сдержанной со всеми, кроме короля, и ты очень скоро станешь могущественной.
— Я не совсем понимаю, что вы хотите этим сказать, — призналась Андре.
— Разреши мне тобой руководить. Тебе ничего не придется понимать, только исполняй, что я тебе скажу, — это даже лучше для такой послушной и доброй девочки, как ты. Кстати, чтобы претворить в жизнь первый совет, я должен наполнить твой кошелек. Возьми сто луидоров и приготовь себе туалет, достойный того уровня, на который тебя поднимает король, оказавший нам честь своим вниманием.
Таверне дал дочери сто луидоров, поцеловал ей ручку и вышел.
Он быстрыми шагами возвращался по той аллее, по которой пришел, и не обратил внимания на Николь, стоявшую в роще Амуров; она была увлечена беседой с сеньором, сообщавшим ей что-то на ушко.
CXVII
ЧТО БЫЛО НУЖНО АЛЬТОТАСУ, ЧТОБЫ ЗАВЕРШИТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ СВОЕГО ЭЛИКСИРА ЖИЗНИ
На следующий день после этого разговора, около четырех часов пополудни, Бальзамо в своем кабинете на улице Сен-Клод читал письмо, переданное ему Фрицем. Письмо было без подписи: он так и этак вертел его в руках.
— Мне знаком этот почерк, — говорил он, — не почерк, а каракули, некрасивый, нетвердый со множеством орфографических ошибок.
Он стал перечитывать:
"Граф!
Лицо, обращавшееся к Вам просить совета за несколько дней до падения последнего министерства, а также много раньше, прибудет к Вам сегодня за новым советом. Позволят ли Ваши разнообразные занятия уделить этому лицу полчаса между четырьмя и пятью часами вечера?"
Перечитав письмо во второй или в третий раз, Бальзамо погрузился в размышления:
"Не стоит беспокоить Лоренцу из-за такой малости. И потом, разве я не умею угадывать сам? Каракули — верный признак, что писал аристократ; нетвердый почерк свидетельствует о преклонных годах писавшего; много орфографических ошибок, — следовательно, автор — придворный. Какой я глупец! Это же господин герцог де Ришелье. Разумеется, я уделю вам полчаса, господин герцог, да хоть час, хоть целый день! Возьмите у меня все время и делайте с ним что пожелаете. Ведь вы для меня, сами того не зная, являетесь одним из моих тайных агентов, одним из дружественных мне демонов. Разве мы с вами заняты не одним и тем же делом? Мы вместе пытаемся расшатать монархию: вы — тем, что вы ее душа; я — тем, что я ее враг. Я жду вас, господин герцог!"
Бальзамо вынул часы, желая убедиться, долго ли еще ему ждать герцога.
Как раз в эту минуту под потолком зазвенел звонок.
— Что такое? — вздрогнув, проговорил Бальзамо. — Лоренца! Меня зовет Лоренца! Она хочет со мной увидеться. Не случилось ли с ней чего-нибудь? Или, может быть, у нее опять истерический припадок, свидетелем которого мне часто случалось быть, а несколько раз не просто свидетелем, но и жертвой? Еще вчера она была задумчива, смиренна, нежна; вчера она была такой, какой я больше всего ее люблю. Бедная девочка! Ну, пойду.
Он застегнул расшитую рубашку, заправил кружевное жабо под шлафрок, взглянул на свое отражение, желая убедиться, что волосы у него не очень взлохмачены, и пошел по направлению к лестнице, позвонив перед тем в колокольчик, точно так, как это сделала Лоренца.
Бальзамо по привычке остановился в комнате, отделявшей его от Лоренцы; он скрестил руки на груди, повернулся в ту сторону, где, по его предположениям, должна была находиться Лоренца, и не знавшим преград усилием воли заставил ее уснуть.
Потом он заглянул в едва заметную щель в стене, словно сомневался в себе или считал, что необходимо быть особенно осторожным.
Лоренца уснула в тот момент, когда лежала на диване или после приказания своего повелителя упала на него, покачнувшись и пытаясь найти, на что бы опереться. Ни один художник не мог бы придумать для нее позы более поэтичной, чем та, какую она приняла. Страдая и задыхаясь под мощным потоком посланных Бальзамо флюидов, Лоренца походила на прекрасную Ариадну кисти Ванлоо: грудь ее бурно вздымалась, голова поникла от отчаяния или изнеможения.
Бальзамо вошел в комнату и, залюбовавшись, остановился перед ней. Он поспешил ее разбудить: она была слишком соблазнительна.
Едва раскрыв глаза, она метнула в него пронзительный взгляд, потом, словно для того, чтобы собраться с мыслями, обеими руками пригладила волосы, сжала губы, приоткрывшиеся было в сладострастном забытьи, и, изо всех сил напрягая память, постаралась припомнить, что с ней произошло.
Бальзамо с беспокойством наблюдал за ней. Он давным-давно привык к ее внезапным переходам от нежной влюбленности к всплескам ненависти и злобы. Теперешняя ее задумчивость была ему внове; хладнокровие Лоренцы, с каким она его принимала, сдерживая привычные уже вспышки ненависти, свидетельствовали о том, что на сей раз его ожидает нечто более серьезное, чем то, что ему доводилось видеть до сих пор.
Лоренца привстала и, тряхнув головой, подняла на Бальзамо бархатные глаза.
— Сядьте, пожалуйста, рядом, — попросила она его.
При звуке ее голоса, проникнутого необычайной нежностью, Бальзамо вздрогнул.
— Вы хотите, чтобы я сел? — переспросил он. — Вы прекрасно знаете, Лоренца, что у меня только одно желание: умереть у ваших ног.
— Сударь! — не меняя тона, продолжала Лоренца. — Я прошу вас сесть, хотя не собираюсь долго с вами говорить. Но мне кажется, что будет лучше, если вы сядете.
— Нынче, как, впрочем, и всегда, моя дорогая, я готов исполнить любое ваше желание, — ответил Бальзамо и сел в кресло рядом с Лоренцой, сидевшей на диване.
— Сударь! — начала она, умоляюще взглянув на Бальзамо. — Я вызвала вас для того, чтобы попросить об одной милости.
— Лоренца, любимая моя! — воскликнул в восторге Бальзамо. — Просите все, что хотите, все!
— Я хочу только одного, но предупреждаю вас: это мое самое сильное желание.
— Говорите, Лоренца, говорите! Я готов отдать все мое состояние, я полжизни отдам за то, чтобы вы были счастливы!
— Вам это ничего не будет стоить, это займет всего одну минуту вашего времени, — сказала молодая женщина.
Обрадованный тем, что разговор протекает мирно, Бальзамо, обладавший богатым воображением, попытался представить себе, какие желания могли появиться у Лоренцы и какие из них он мог бы удовлетворить.
"Она у меня сейчас попросит служанку или компаньонку, — думал он. — Ну что же, это огромная жертва, потому что мне придется подвергнуть риску свою тайну и тайну моих друзей, но я готов на него пойти, потому что бедняжка томится в одиночестве".
— Ну, приказывайте же, Лоренца, — предложил он, глядя на нее с нежной улыбкой.
— Сударь! Вы знаете, что я умираю от тоски и одиночества, — начала она.
Бальзамо в знак согласия опустил голову и вздохнул.
— Моя молодость пропадает понапрасну, — продолжала Лоренца, — мои дни проходят в слезах, мои ночи — это нескончаемый ужас. Я угасаю в тоске и одиночестве.
— Вы сами избрали себе такую жизнь, Лоренца, — отвечал Бальзамо, — и не моя вина, что образ жизни, который вас теперь приводит в уныние, вы сами предпочли тому, которому могла бы позавидовать королева.
— Пусть так. Но вы видите, что я обращаюсь к вам.
— Благодарю вас, Лоренца.
— Не вы ли мне неоднократно говорили, что вы христианин, хотя…
— Хотя вы полагаете, что я погубил свою душу, вы это хотите сказать? Я правильно закончил вашу мысль, Лоренца?
— Прошу вас выслушать то, что я скажу, и ничего за меня не додумывать.
— Продолжайте, пожалуйста.
— Вместо того чтобы вызывать во мне ненависть и доводить меня до отчаяния, окажите мне, раз уж я ни на что не гожусь…
Она замолчала и посмотрела на Бальзамо. Но он уже овладел собой и ответил ей холодным взором, нахмурив брови.
Она затрепетала под его почти угрожающим взглядом.
— Окажите мне милость, — продолжала она. — Я не прошу у вас свободы, нет, я знаю, что по Божьей, вернее, по вашей воле — ведь вы мне кажетесь всемогущим — я обречена на пожизненное заточение. Позвольте мне хоть изредка видеть человеческие лица, слышать не только ваш голос, позвольте мне выходить, двигаться, чувствовать, что я еще живу.
— Я предвидел это ваше желание, Лоренца, — признался Бальзамо, беря ее за руку, — и вы знаете, что уже давно я тоже этого хочу.
— Правда?! — вскричала Лоренца.
— Но вы же пригрозили, что предадите меня, когда я потерял голову от любви… Я позволил вам проникнуть в некоторые свои научные и политические тайны. Вы знаете, что Альтотас нашел философский камень и ищет секрет вечной молодости — это из области науки. Вы знаете, что я и мои друзья замышляем свержение монархии — это из области политики. За одну из этих тайн меня могут приговорить к сожжению на костре как колдуна; за другую меня колесуют как государственного изменника. А вы мне угрожали, Лоренца; вы мне сказали, что любой ценой хотели бы вновь обрести свободу ради того, чтобы прежде всего донести на меня господину де Сартину. Ведь это же ваши слова?
— Что вы от меня хотите!.. Я порой прихожу в отчаяние и тогда… тогда я теряю разум.
— А сейчас вы спокойны? Достаточно ли вы благоразумны в эту минуту, чтобы мы могли поговорить?
— Надеюсь, что да.
— Если я возвращу вам свободу, о которой вы меня просите, могу ли я надеяться, что вы будете мне преданной и покорной женой, что я найду в вас верную и нежную душу? Вы знаете, что это мое заветное желание, Лоренца.
Молодая женщина молчала.
— Сможете ли вы меня полюбить? — со вздохом закончил Бальзамо.
— Я не хочу обещать вам то, что не могла бы исполнить, — призналась Лоренца. — Ни любовь, ни ненависть от нас не зависят. Я надеюсь, что Господь в награду за ваши добрые дела поможет мне избавиться от ненависти и полюбить вас.
— К сожалению, такого обещания недостаточно, Лоренца, чтобы я мог вам довериться. Я хочу от вас услышать клятву верности, священную клятву, нарушение которой было бы святотатством. Это должна быть такая клятва, что связала бы вас и в этой и в той жизни, а в случае вашего предательства она должна привести вас к смерти в этом мире и к вечному проклятию — в том.
Лоренца не проронила ни звука.
— Готовы ли вы принести такую клятву?
Лоренца уронила голову и спрятала лицо в ладонях; ее грудь бурно вздымалась от охвативших ее противоречивых чувств.
— Поклянитесь мне, Лоренца, так, как я этого у вас прошу, со всей торжественностью, коей будет сопровождаться ваша клятва, и вы свободны.
— Чем я должна поклясться?
— Поклянитесь, что никогда, ни под каким предлогом, ничто из того, что вы узнали о занятиях Альтотаса, вы никому не откроете.
— Клянусь!
— Поклянитесь, что вы никогда не разгласите того, что знаете о наших собраниях.
— Ив этом клянусь!
— И вы готовы принести такую клятву, какую я вам предложу?
— Да. И это все?
— Нет. Поклянитесь — и это самое главное, Лоренца, потому что другие клятвы затрагивают меня косвенно, а в этой клятве заключено все мое счастье, — поклянитесь, что никогда не покинете меня. Поклянитесь, и вы свободны.
Молодая женщина вздрогнула, почувствовав, как в ее сердце словно вонзился стальной клинок.
— Как я должна произнести эту клятву?
— Мы вместе отправимся в церковь, Лоренца. Мы причастимся одной облаткой. На этой облатке вы и поклянетесь никогда не рассказывать ни об Альтотасе, ни о моих товарищах. Вы поклянетесь никогда не разлучаться со мной. Мы разделим облатку пополам и причастимся ею, поклявшись перед всемогущим Богом: вы — в том, что никогда меня не предадите, я — в том, что составлю ваше счастье.
— Нет, — возразила Лоренца, — подобная клятва — кощунство.
— Клятва может быть кощунством только тогда, Лоренца, — с грустью заметил Бальзамо, — когда она произносится с намерением нарушить ее.
— Я не стану приносить эту клятву, — продолжала упорствовать Лоренца. — Я боюсь погубить свою душу.
— Повторяю вам, что вы сгубили бы душу не тогда, когда произносили бы эту клятву, а в том случае, если бы нарушили ее.
— Я не буду клясться.
— Тогда наберитесь терпения, Лоренца, — проговорил Бальзамо не со злобой, а с глубоким сожалением.
Лоренца помрачнела, словно туча набежала внезапно и нависла над цветущей лужайкой.
— Значит, вы мне отказываете? — спросила она.
— Нет, Лоренца, это вы отказываете мне.
Нервное движение Лоренцы выдало нетерпение, охватившее ее при этих словах.
— Послушайте, Лоренца, — обратился к ней Бальзамо, — я кое-что могу для вас сделать, и сделать немало, можете мне поверить.
— Говорите, — горько усмехнулась молодая женщина. — Посмотрим, как далеко может зайти великодушие, о котором вы так любите разглагольствовать.
— Бог, случай или судьба — называйте это как хотите, Лоренца, — связали нас неразрывными узами. Не стоит пытаться разорвать их в этой жизни, это под силу только смерти.
— Ну, это я уже слышала, — в нетерпении перебила его Лоренца.
— Так вот через неделю, Лоренца, чего бы мне это ни стоило и как бы ни велик был риск, у вас будет компаньонка.
— Где? — спросила она.
— Здесь.
— Здесь?! — вскричала она. — За этими решетками, за железными дверьми? Подруга по заточению? Вы ничего не поняли, сударь, я совсем не этого у вас прошу.
— Это все, что в моих силах, Лоренца!
Молодая женщина сделала еще более нетерпеливое движение.
— Друг мой! — ласково продолжал Бальзамо. — Подумайте хорошенько: вдвоем вам будет легче перенести все тяготы этого вынужденного несчастья.
— Ошибаетесь, сударь! До сей минуты я страдала только за себя, а не за другого. И я не могу долее выдержать испытания, которому, насколько я понимаю, вы хотели бы меня подвергнуть. Пусть вы поместите рядом со мной такую же жертву, как я. Я буду видеть, как она худеет, бледнеет, чахнет от страданий; буду слышать, как она стучит, как и я раньше, вот в эту стену, в эту постылую дверь, которую я по сто раз на день разглядываю, пытаясь понять, как она открывается, пропуская вас сюда. А когда эта жертва, моя подруга, обломает, как я, ногти об дерево и мрамор, тщетно пытаясь разбить доски или раздвинуть плиты; когда она, как я, выплачет все глаза; когда она, как я, станет мертвой и, вместо одного, перед вами будет два трупа, вы, со свойственной вам дьявольской добротой, скажете: "Этим двум детям весело вместе, они счастливы". Нет, нет, тысячу раз нет!
И она в сердцах топнула ногой.
Бальзамо еще раз попытался ее успокоить:
— Ну-ну, Лоренца, не волнуйтесь, будьте благоразумны, умоляю вас.
— И он еще просит меня не волноваться! Он просит меня образумиться! Палач просит снисхождения у жертвы, которую мучает!
— Да, я прошу вас быть благоразумной и снисходительной, потому что ваши приступы гнева ничего не меняют в нашей общей судьбе, они причиняют боль, только и всего. Примите то, что я вам предлагаю, Лоренца; я дам вам компаньонку, которая полюбит рабство за то, что оно одарит ее вашей дружбой. Вы напрасно опасаетесь, что увидите грустное, залитое слезами лицо; напротив, ее улыбка, ее веселый нрав развеселят и вас. Милая Лоренца, согласитесь на мое предложение. Могу поклясться, что большего я не могу вам предложить.
— Иными словами, вы поселите рядом со мной наемницу и скажете ей, что тут живет одна сумасшедшая, несчастная женщина, безнадежно больная, вы придумаете мне какую-нибудь болезнь. "Заточите себя вместе с этой сумасшедшей, пообещайте, что будете верно ей служить, и я заплачу вам за ваши услуги, как только бедняжка умрет".
— Ах, Лоренца, Лоренца! — прошептал Бальзамо.
— Нет, все будет не так, я ошиблась, да? — насмешливо продолжала Лоренца. — Я недогадлива, ничего не поделаешь! Я несведуща, я так плохо знаю свет!.. Вы можете сказать этой женщине: "Будьте бдительны: эта сумасшедшая опасна, предупреждайте меня о каждом ее шаге, о всякой мысли, следите за ней днем и ночью". И вы дадите ей столько золота, сколько она пожелает: золото вам достается даром — ведь вы сами его делаете.
— Лоренца! Вы заблуждаетесь; во имя Неба, Лоренца, постарайтесь прочесть то, что у меня в сердце. Дать вам компаньонку, друг мой, значило бы поставить под удар планы столь величественные, что, если бы не ваша ненависть, вы оценили бы мою жертву… Дать вам компаньонку, как я уже сказал, это значит подвергнуть риску мою безопасность, мою свободу, жизнь. Однако я готов на это, лишь бы избавить вас от скуки.
— Скуки! — вскричала Лоренца с диким хохотом, заставившим Бальзамо содрогнуться. — И он называет это скукой!
— Ну хорошо, страданиями… Да, вы правы. Лоренца, это невыносимые страдания. Да, Лоренца! Что ж, повторяю: потерпите, придет день, когда кончатся все ваши страдания; придет время, и вы станете свободной; настанет время, когда вы станете счастливой.
— Позвольте мне удалиться в монастырь! Я хочу дать обет.
— В монастырь?
— Я буду молиться, я буду молиться прежде всего за вас, а уж потом за себя. Я буду там заперта, это верно, но ведь у меня будет и сад, и свежий воздух, и простор, и кладбище, где я буду гулять среди могил, подыскивая место и для себя. У меня будут подруги, по-своему несчастливые, у каждой из них своя горькая доля. Позвольте мне удалиться в монастырь, и я дам вам любые клятвы, какие вы только пожелаете. Монастырь, Бальзамо, монастырь! На коленях умоляю вас об этой милости!
— Лоренца! Лоренца! Мы не можем разлучиться. Мы навсегда связаны в этой жизни, слышите? Не просите у меня ничего, что выходит за пределы этого дома.
Бальзамо произнес эти слова отчетливо и в то же время сдержанно, тоном, не допускавшим возражений; Лоренца больше не настаивала.
— Значит, вы этого не хотите? — с убитым видом прошептала она.
— Не могу.
— Это ваше последнее слово?
— Да.
— Ну что же, тогда я попрошу вас о другом, — с улыбкой продолжала она.
— Милая Лоренца! Улыбнитесь еще, вот так же, и можете просить у меня все, что только пожелаете.
— Вы готовы исполнить любую мою прихоть, лишь бы я делала все, чего вы от меня требуете, ведь правда? Что ж, пусть так. Я постараюсь быть благоразумной.
— Говорите, Лоренца, говорите!
— Только что вы мне сказали, что придет день, когда я не буду больше страдать, что наступит время, когда я стану свободной и счастливой.
— Да, я так и сказал и клянусь Небом, что жду этого дня, как и вы, с нетерпением.
— Это время может наступить теперь, Бальзамо, — проговорила молодая женщина с ласковой улыбкой, какую ее муж видел у нее на лице, только когда она засыпала. — Я устала, знаете, очень устала. Это нетрудно понять: молодая, я уже столько выстрадала! Так вот, друг мой, — ведь вы говорите, что вы мой друг, — выслушайте меня: сделайте так, чтобы этот счастливый день наступил сию минуту.
— Я слушаю вас, — отозвался Бальзамо, охваченный необычайным волнением.
— Я заканчиваю свою речь просьбой, с которой мне следовало бы начать, Ашарат.
Молодая женщина вздрогнула.
— Говорите, дорогая.
— Я не раз замечала во время ваших опытов над несчастными тварями — вы говорили, что эти опыты необходимы для человечества, — я замечала, что вы владеете секретом смерти: то он заключался в капле яда, то во вскрытой вене; и смерть эта была тихой и скорой, а несчастные, ни в чем не повинные животные, обреченные, как и я, на заточение, мгновенно становились после смерти свободными; и это было первым и единственным благодеянием, оказанным бедным тварям с самого их рождения. Так вот…
Она остановилась и побледнела.
— Что, Лоренца? — спросил Бальзамо.
— Сделайте ради меня то, что вы порой делаете в интересах науки с несчастными животными, сделайте это во имя человечности; сделайте это для подруги, благословляющей вас от всей души, для подруги, готовой из признательности целовать вам руки, если вы окажете ей милость, о которой она вас умоляет. Сделайте это, Бальзамо, для меня, на коленях прошу вас об этом, и я обещаю вам, что с последним вздохом я одарю вас такой любовью и радостью, какой вы не увидите от меня за всю мою жизнь. Вы сделали бы это ради меня, и я обещаю вам, что буду искренне радоваться в то мгновение, когда покину этот мир. Бальзамо, душой вашей матери, кровью нашего Бога, всем, что есть святого в мире живых и в царстве мертвых, заклинаю вас: убейте меня! Убейте меня!
— Лоренца! — вскричал Бальзамо, притянув к себе вскочившую с этими словами молодую женщину. — Лоренца, ты бредишь! Чтобы я тебя убил!.. Ты моя любовь! Ты моя жизнь!
Лоренца резким движением высвободилась из объятий Бальзамо и рухнула на колени.
— Я не встану, — сказала она, — пока вы не исполните моей просьбы. Умертвите меня тихо, без боли; окажите мне эту милость, ведь вы говорите, что любите меня; усыпите меня, как вы часто делаете, но избавьте меня от пробуждения, от разочарования.
— Лоренца, друг мой! — заговорил Бальзамо. — Боже мой, неужели вы не видите, что у меня сердце разрывается? Неужели вы так несчастливы? Встаньте, Лоренца, не надо впадать в отчаяние. Неужели вы так меня ненавидите?
— Я ненавижу рабство, мучения, одиночество, а раз вы превращаете меня в рабу, в несчастную и одинокую, значит, я ненавижу и вас.
— Но я безумно люблю вас и не могу видеть, как вы умираете. Значит, вы не умрете, Лоренца, и я займусь самым сложным лечением, которое мне когда-либо приходилось проводить: я заставлю вас полюбить жизнь, моя Лоренца!
— Нет, нет, это невозможно: вы уже заставили меня пожелать смерти.
— Лоренца, сжальтесь надо мной, я вам обещаю, что очень скоро…
— Смерть или жизнь! — воскликнула молодая женщина, приходя постепенно во все большее возбуждение от своей ярости. — Сегодня — крайний срок. Согласны ли вы лишить меня жизни, иными словами — дать мне успокоение?
— Жизнь, Лоренца, только жизнь.
— Тогда свободу!
Бальзамо молчал.
— В таком случае — смерть, тихая смерть от какого-нибудь зелья, укола иглой, смерть во время сна: покой! покой! покой!
— Жизнь и терпение, Лоренца.
Отскочив с адским хохотом, Лоренца выхватила из-за пазухи нож с тонким и острым лезвием, словно молния сверкнувшим у нее в руке.
Бальзамо вскрикнул, но было поздно: он не успел отвести ее руку, и нож вонзился Лоренце в грудь. Бальзамо был ослеплен блеском кинжала и видом крови.
Он закричал и, обхватив Лоренцу руками, на лету поймал нож, готовый опуститься снова.
Лоренца резким движением попыталась высвободить нож, и лезвие прошло между пальцев Бальзамо.
Из раны хлынула кровь.
Вместо того чтобы продолжать борьбу, Бальзамо протянул окровавленную руку к молодой женщине и властно проговорил:
— Усните, Лоренца! Усните! Я приказываю!
Но она была так сильно возбуждена, что повиновалась не сразу.
— Нет, нет, — прошептала Лоренца, пошатываясь и пытаясь еще раз вонзить нож себе в грудь. — Нет, я не буду спать!
— Усните, я вам говорю! — шагнув к ней, повторил Бальзамо. — Спите, я так хочу!
На сей раз сила воли Бальзамо оказалась такой мощной, что всякое сопротивление было сломлено. Лоренца вздохнула, выронила нож, зашаталась и рухнула на подушки.
Только глаза ее оставались открытыми, однако ее пылавший ненавистью взор постепенно угасал, и скоро глаза закрылись. Напряжение спало, голова склонилась к плечу, как у раненой птицы; нервная дрожь пробежала по всему ее телу. Лоренца заснула.
Только тогда Бальзамо смог расстегнуть одежду Лоренцы и осмотреть рану; она показалась ему неопасной. Однако кровь так и хлестала из раны.
Бальзамо нажал кнопку, спрятанную в глазу льва; распрямилась пружина, растворилась потайная дверь. Он отвязал противовес, спустилась крышка люка в комнату Альтотаса; Бальзамо встал на нее и поднялся в лабораторию старика.
— A-а, это ты, Ашарат? — спросил тот, продолжая сидеть в кресле. — Ты знаешь, что через неделю мне исполняется сто лет? Ты знаешь, что к этому времени мне нужна кровь младенца или девственницы?
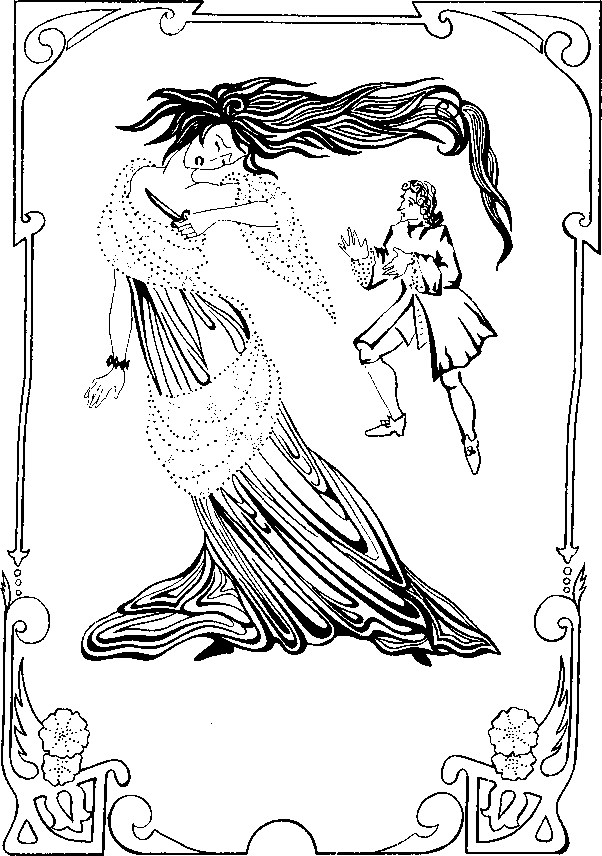
Не слушая его, Бальзамо бросился к шкапчику, где хранились магические бальзамы. Он схватил одну из пробирок, содержимое которой ему не раз приходилось испытывать, потом вернулся к крышке люка, топнул ногой и начал спускаться.
Альтотас подкатил вместе с креслом прямо к отверстию в полу и протянул руки, намереваясь вцепиться в одежду Бальзамо, но опоздал.
— Ты слышишь, несчастный? — прокричал он ему вдогонку. — Слышишь? Если через неделю у меня не будет младенца или девственницы, чтобы завершить составление эликсира, я умру.
Бальзамо обернулся. Глаза старика горели на совершенно неподвижном лице; можно было подумать, что живы одни глаза.
— Да, да, — отвечал Бальзамо. — Да, можешь быть спокоен, у тебя будет то, о чем ты просишь.
Отпустив пружину, он вернул крышку люка на прежнее место: оно сейчас же слилось с потолком, представляя собой часть орнамента.
Затем он поспешил в комнату Лоренцы, но, едва войдя туда, услышал звонок Фрица.
— Господин де Ришелье, — пробормотал Бальзамо. — Ну ничего, хотя он герцог и пэр, но может и подождать!
CXVIII
ДВЕ КАПЛИ ЗЕЛЬЯ ГЕРЦОГА ДЕ РИШЕЛЬЕ
В половине пятого герцог де Ришелье покинул особняк на улице Сен-Клод.
В свое время читатель узнает, зачем он приходил к Бальзамо.
Барон де Таверне обедал у дочери. Ее высочество дофина в этот день предоставила Андре полную свободу, чтобы она могла принять у себя отца.
Герцог де Ришелье вошел в тот момент, когда подавали десерт. Он по-прежнему приносил в семью Таверне только добрые вести: он сообщил своему другу, что утром король во всеуслышание объявил, что хочет дать Филиппу не роту, а полк.
Таверне проявил бурную радость; Андре горячо поблагодарила маршала.
Беседа потекла так, как и следовало после того, что произошло. Ришелье продолжал рассказывать о короле, Андре говорила только о брате, а Таверне — о достоинствах Андре.
В разговоре девушка упомянула о том, что она до самого утра свободна от службы у дофины, что ее королевское высочество принимает в этот день двух немецких принцев, приходящихся ей родней; желая почувствовать себя хоть на несколько часов свободной и вспомнить те времена, когда она жила при венском дворе, Мария Антуанетта не захотела видеть французских слуг и даже удалила фрейлину. Это так потрясло герцогиню де Ноай, что она побежала жаловаться королю.
Таверне, как он заявил, был в восхищении, что Андре свободна и он может побеседовать с ней о вещах, от которых непосредственно зависели состояние и слава семьи Таверне. Услышав это, Ришелье сказал, что готов удалиться, чтобы не мешать отцу пооткровенничать с дочерью. Мадемуазель де Таверне запротестовала, и Ришелье остался.
В этот раз герцог почувствовал тягу к нравоучениям. Он живописал плачевное состояние, в котором оказалась французская знать, вынужденная сносить постыдное иго случайных фавориток, этих беззаконных королев, вместо того чтобы иметь дело с такими фаворитками, как в былые времена. Ведь тогда это были дамы почти столь же знатного происхождения, что и их августейшие любовники; дамы покоряли монархов своей красотой и любовью, а подданных — благородным происхождением, умом и верностью интересам страны.
Слова Ришелье совпали с тем, о чем вот уже несколько дней говорил Андре барон де Таверне, и это ее удивило.
Затем Ришелье перешел к изложению своей теории добродетели, теории возвышенной, языческой и, вместе с тем, истинно французской. Мадемуазель де Таверне была вынуждена признать, что она ни в коей мере не добродетельна. Настоящей добродетелью, как понимал ее маршал, обладали г-жа де Шатору, мадемуазель де Лавальер и мадемуазель де Фоссез.
От слова к слову, от доказательства к доказательству, мысль Ришелье становилась настолько прозрачной, что Андре вообще перестала ее понимать.
Беседа продолжалась в том же духе часов до семи вечера.
Когда часы пробили семь, герцог поднялся: ему было пора, по его словам, отправляться ко двору в Версаль.
Пройдя по комнате в поисках шляпы, он наткнулся на Николь: она всегда старалась найти себе какое-нибудь дело поблизости от того места, где находился герцог де Ришелье.
— Малышка! — воскликнул он, потрепав ее по плечу. —
Проводи-ка меня! Отнесешь цветы, которые герцогиня де Ноай приказала нарвать с клумбы и посылает со мной графине д’Эгмон.
Николь поклонилась, как поселянка из комической оперы Руссо.
Маршал попрощался с бароном и его дочерью, обменялся с Таверне многозначительным взглядом, молодцевато раскланялся с Андре и вышел.
Мы просим позволения у читателя оставить барона и Андре: пусть они обсуждают новую милость, оказанную Филиппу, а мы последуем за маршалом. Мы узнаем, зачем он ездил на улицу Сен-Клод, куда прибыл, как мы помним, в страшную для Бальзамо минуту.
Кстати, принципы морали, которыми руководствовался барон, были, пожалуй, еще сомнительнее, чем у его друга-маршала; они могли бы оскорбить слух человека, обладающего и не такой нежной душой, как у Андре, и, следовательно, способного понять больше, нежели наивная девушка.
Итак, Ришелье спустился по лестнице, опираясь на плечо Николь, и, как только они оказались у клумбы, остановился и заглянул ей в лицо со словами:
— Ах, вот как, малышка? Так у нас теперь есть любовник?
— У меня, господин маршал?! — воскликнула Николь, сильно покраснев и отступив на шаг.
— Может ты не Николь Леге, а?
— Точно так, господин маршал.
— Так вот, у Николь Леге есть любовник.
— Скажете тоже!
— Да, черт побери! Этот бездельник недурно сложен, она его принимала на улице Кок-Эрон, а потом он последовал за ней в окрестности Версаля.
— Клянусь вам, господин герцог…
— Он, кажется, капрал, а зовут его… Хочешь, малышка, я тебе скажу, как зовут любовника мадемуазель Николь Леге?
У Николь оставалась единственная надежда, что маршал не знает имени этого счастливейшего из смертных.
— Ну что же, господин маршал, договаривайте, раз уж начали.
— Его зовут господин де Босир, и, по правде говоря, он оправдывает свое имя.
Николь прижала руки к груди, попытавшись притвориться пристыженной, но это не произвело на маршала никакого впечатления.
— Кажется, мы назначаем в Трианоне свидания, — продолжал он. — Дьявольщина! В королевской резиденции — это не шутки! Да за такие проделки недолго и места лишиться, прелестное дитя, а господин де Сартин отправляет всех уволенных из королевских замков девушек прямо в Саль-петриер.
Николь почувствовала некоторое беспокойство.
— Монсеньер! — заговорила она. — Клянусь, что если господин де Босир и похваляется тем, что он мой любовник, то он просто фат и мерзавец; на самом деле я ни в чем не виновата.
— Я не отрицаю того, что он фат и мерзавец, — отвечал Ришелье, — но ведь ты назначала свидания? Да или нет?
— Свидание еще не улика, господин герцог.
— Назначала ты свидания или не назначала? Отвечай!
— Монсеньер…
— Назначала… Прекрасно! Я тебя не осуждаю, милое дитя. Я люблю юных прелестниц, которые не прячут своей красоты, я и сам всегда по мере сил помогал им в этом. Однако, будучи твоим другом и покровителем, я хочу тебя предупредить.
— Так меня видели?.. — спросила Николь.
— Очевидно, да, раз я об этом знаю.
— Монсеньер, никто меня не видел, — решительно заявила Николь, — потому что это просто невозможно.
— Я ничего не знаю наверное, но такие слухи ходят, и это бросает тень на твою хозяйку. А ты понимаешь, что я более близкий друг семейству Таверне, нежели семье Леге, и мой долг — шепнуть барону два слова о том, что происходит.
— Ах, монсеньер! — вскричала Николь, напуганная разговором, принимавшим такой оборот. — Вы меня погубите. Ведь даже если я и невиновна, меня прогонят по одному подозрению!
— Что ж делать, бедное дитя? Значит, тебя прогонят. Уж не знаю, какой злодей, обладающий извращенным умом, мог найти в этих свиданиях что-то дурное, но, как бы невинны они ни были, о них уже доложили госпоже де Ноай.
— Герцогине де Ноай! Боже милостивый!
— Да, ты сама видишь, что дело не терпит отлагательства.
Николь в отчаянии всплеснула руками.
— Это неприятно, я понимаю, — продолжал Ришелье. — Что же ты собираешься делать?
— А вы? Ведь вы только что называли себя моим покровителем, и вы это доказали… Неужели вы не можете меня защитить? — спросила Николь с лукавством, присущим скорее женщине в тридцать лет.
— Конечно, могу, черт побери!
— И что же, монсеньер?..
— Могу, но не хочу!
— Как, господин герцог?
— Да, ты милая девушка, я знаю, и твои прелестные глазки многое мне говорят, но я уже почти совсем ослеп, бедняжка Николь, и не понимаю языка прелестных глаз. Когда-то я мог бы предложить тебе приют в особняке Гановер, а сегодня к чему мне это? Об этом даже не злословили бы.
— Однако вы уже возили меня в свой особняк, — поморщившись, заметила Николь.
— Как нелюбезно с твоей стороны, Николь, упрекать меня в том, что я возил тебя в свой особняк! Ведь я это сделал для того, чтобы оказать тебе услугу. Признайся, что без волшебной воды господина Рафте, превратившей тебя в прелестную брюнетку, ты не попала бы в Трианон. В конце концов, стоило ли это затевать только ради того, чтобы тебя прогнали, но, с другой стороны, ты сама виновата: за каким чертом назначаешь свидания господину де Босиру, да еще прямо у входа в конюшни?
— Вы даже это знаете? — спросила Николь, решив изменить тактику и всецело положиться на благородство маршала.
— Черт побери! Ты же сама видишь, что мне известно, и не только мне, но и герцогине де Ноай. Да у тебя же свидание назначено на сегодняшний вечер…
— Это правда, ваша светлость. Но даю вам слово, что я не пойду.
— Разумеется, я же тебя предупредил. Зато господин де Босир придет, ведь его никто не предупреждал, и его схватят. Естественно, он не захочет, чтобы его повесили как вора или наказали палками как шпиона, тем более что не так уж неприятно признаться: "Отпустите меня, я любовник малышки Николь".
— Я дам ему знать, господин герцог.
— Дать ему знать ты не сможешь, бедняжечка: через кого, хотел бы я знать, ты его предупредишь? Может, через того, кто тебя выдал?
— Да, да, вы правы, — отвечала Николь, разыгрывая отчаяние.
— Раскаяние тебе к лицу! — воскликнул Ришелье.
Николь спрятала лицо в ладонях, но так, чтобы сквозь пальцы можно было хорошо видеть и не упустить ни одного движения, ни одного взгляда Ришелье.
— Ты в самом деле восхитительна, — похвалил герцог, от которого не скрылась ни одна из ее женских хитростей. — Ах, если бы мне сбросить лет пятьдесят! Ну хорошо, черт меня подери! Николь, я хочу тебе помочь!
— Ах, монсеньер, если вы исполните свое обещание, моя признательность…
— Не нужно мне ничего, Николь. Я готов оказать тебе услугу просто так.
— Это очень мило с вашей стороны, монсеньер, я вам так благодарна.
— Подожди благодарить. Ты же еще ничего не знаешь. Какого черта! Сначала выслушай меня.
— Я на все согласна, господин герцог, лишь бы мадемуазель Андре меня не прогнала.
— Так ты, значит, очень хочешь остаться в Трианоне?
— Больше всего на свете, господин герцог.
— Вот что, милая девочка; выбрось это из головы.
— Но ведь никто меня не видел, господин герцог?
— Видел или нет, тебе все равно придется отсюда убираться.
— Почему?
— Сейчас я тебе все объясню; если тебя видела герцогиня де Ноай, надеяться тебе не на что: даже король тебя не спасет.
— Ах, если бы я могла увидеться с королем!..
— Только этого не хватало, детка! И потом, я сам позабочусь о том, чтобы тебя здесь не было.
— Вы?
— И притом немедленно!
— Откровенно говоря, господин маршал, я ничего не понимаю.
— Как я сказал, так и будет.
— Так вот оно, ваше покровительство?
— Если мое покровительство тебе не нравится, еще есть время, скажи только одно слово, Николь…
— Что вы, господин герцог, напротив, оно мне просто необходимо.
— Я готов тебе его оказать.
— Спасибо.
— Вот что я готов для тебя сделать, послушай!
— Слушаю, монсеньер.
— Вместо того чтобы позволить кому-нибудь выгнать тебя и посадить в тюрьму, я сделаю тебя свободной и богатой.
— Свободной и богатой?
— Да.
— А что от меня требуется, чтобы я стала свободной и богатой? Скажите скорее, господин маршал!
— От тебя требуется сущая безделица.
— Ну, а все-таки?
— То, что я тебе прикажу.
— Это очень трудно?
— Что ты! Это и ребенку по силам!
— Я, стало быть, должна что-то сделать?
— Еще бы! Ты же знаешь закон нашей жизни, Николь: услуга за услугу.
— А то, что я должна буду исполнить, нужно мне или вам?
Герцог взглянул на Николь.
"Ей-Богу, маленькая проказница не такая простушка!" — подумал он.
— Договаривайте, господин герцог.
— Скорее это нужно тебе, — решительно отвечал маршал.
— Ага, — сказала Николь. Она уже начала догадываться, что нужна маршалу. Она перестала его бояться. Ее изобретательный ум изо всех сил пытался разгадать загадку, несмотря на все уловки собеседника. — И что же я должна сделать, господин герцог?
— Вот что. Господин де Босир прибудет в половине восьмого?
— Да, господин маршал, это его обычное время.
— Сейчас десять минут восьмого.
— Верно.
— Если я пожелаю, он будет схвачен.
— Да, но вы этого не хотите.
— Нет. Ты пойдешь к нему и скажешь…
— Что я должна ему сказать?
— Сначала ответь мне, Николь, любишь ли ты его.
— Ну, раз я назначаю ему свидания…
— Это еще не доказательство. Может быть, ты хочешь выйти за него замуж: у женщин бывают иногда такие странные причуды!
Николь расхохоталась.
— Чтобы я вышла за него замуж?
Ришелье был поражен. Даже при дворе нечасто случалось встретить женщину, обладающую такой силой воли.
— Хорошо. Допустим, ты не собираешься выходить за него замуж. Но ведь ты его любишь?
— Положим, что я люблю господина де Босира. А теперь оставим эту тему и перейдем к другой.
— Дьявольщина! Что за плутовка! Куда нам торопиться?
— А как же? Вы должны понимать, что меня интересует…
— Что?
— Я хочу знать, что я должна сделать.
— Прежде всего уговоримся вот о чем: раз ты его любишь, ты должна с ним сбежать.
— Господи! Если уж вы этого так хотите, пожалуй, придется…
— Что ты, детка? Да я ничего не хочу!
Николь поняла, что поторопилась: она не успела еще ни разнюхать тайны, ни выклянчить у своего хитрого противника денег.
Она покорилась, но только затем, чтобы отыграться, когда придет ее время.
— Монсеньер! — сказала она. — Я жду ваших приказаний.
— Так вот, ты пойдешь к господину де Босиру и скажешь: "Нас видели вместе, но у меня есть покровитель, он нас спасет: вас — от Сен-Лазара, меня — от Сальпетриера. Давайте убежим!"
Николь взглянула на Ришелье.
— "Давайте убежим!", — повторила она.
Ришелье понял ее выразительный и недвусмысленный взгляд.
— Ну, конечно, черт побери, я возьму на себя дорожные расходы.
Николь это предложение было по душе. Теперь она во что бы то ни стало решила разузнать все и понять, за что ей платят.
Маршал понял намерение Николь и поспешил сказать все, что собирался, как обыкновенно торопятся расплатиться с долгами, чтобы поскорее о них позабыть.
— Я знаю, о чем ты думаешь, Николь, — проговорил он.
— О чем? Вам так много известно, господин маршал! Бьюсь об заклад, что вы знаете это лучше меня.
— Ты думаешь, что если сбежишь, то твоя хозяйка может случайно хватиться тебя ночью и, не найдя, поднимет тревогу. Одним словом, тебя могут скоро догнать.
— Нет, — отвечала Николь, — я думала не об этом. Понимаете ли, господин маршал, я не вижу причин, по которым я не могла бы здесь остаться.
— А если господина де Босира арестуют?
— Ну и пусть арестуют.
— А если он признается?
— Пусть признается.
— Тогда можешь считать, что ты пропала, — сказал Ришелье, чувствуя, как в его сердце зашевелилось беспокойство.
— Нет, потому что мадемуазель Андре добрая и в глубине души любит меня. Она попросит обо мне короля, и если даже господина де Босира накажут, то мне-то ничего не будет.
Маршал прикусил губу.
— А я тебе говорю, Николь, что ты дурочка, — снова заговорил он. — У мадемуазель Андре не настолько хороши отношения с королем, чтобы она стала о тебе хлопотать, а я прикажу немедленно тебя схватить, если ты не захочешь прислушаться к моим словам. Ты меня поняла, змея?
— Да ведь не круглая же я дура, монсеньер! Я слушаю, а про себя взвешиваю все "за" и "против".
— Ну хорошо. Итак, ты сию минуту пойдешь к господину де Босиру, и вы вместе обдумаете план побега.
— Как же я могу сбежать, господин маршал? Ведь вы сами мне сказали, что мадемуазель может проснуться, хватиться меня, позвать, да мало ли что? Сразу я о многом не подумала, но вы сами, ваша светлость, предупредили меня, ведь вы человек опытный.
Ришелье в другой раз прикусил губу, да еще посильнее, чем прежде.
— Ну что ж, я и об этом подумал, чертовка. Я придумал, как избежать огласки.
— Как же можно помешать госпоже меня позвать?
— Надо не дать ей проснуться.
— Что вы! За ночь она просыпается раз десять. Это невозможно.
— Так она, значит, страдает тем же недугом, что и я? — с невозмутимым видом молвил Ришелье.
— Что и вы? — смеясь переспросила Николь.
— Разумеется, ведь я тоже часто просыпаюсь. Впрочем, у меня есть против бессонницы одно средство. Вот и она поступит, как я. А если не она сама, так ты ей поможешь.
— Как же это, монсеньер?
— Что пьет твоя хозяйка перед сном?
— Что она пьет?
— Да, теперь пошла мода предупреждать жажду: одни пьют оранжад или лимонную воду, другие воду с мелиссой, третьи…
— Мадемуазель выпивает перед сном только стакан воды, иногда с сахаром или с апельсиновой эссенцией, когда бывает чересчур возбуждена.
— Отлично! — воскликнул Ришелье. — Ну точь-в-точь как я! Значит, мое лекарство ей подойдет.
— Какое лекарство?
— Я добавляю в свое питье каплю некой жидкости и сплю всю ночь, не просыпаясь.
Николь старалась додуматься, к чему клонит маршал.
— Почему ты молчишь? — спросил он.
— Мне кажется, что у мадемуазель нет такого лекарства, как у вас.
— Я тебе его дам.
"Ага!" — подумала Николь, начиная, наконец, догадываться о намерениях маршала.
— Ты добавишь две капли своей хозяйке в питье — две капли, слышишь? Ни больше ни меньше, — и она заснет, заснет так, что не будет тебя звать ночью, и у тебя будет довольно времени, чтобы скрыться.
— Если это все, что нужно сделать, то это совсем не трудно.
— Так ты согласна подмешать эти две капли?
— Разумеется.
— Можешь мне это пообещать?
— Мне кажется, это в моих интересах; а потом я хорошенько запру дверь и…
— Нет, нет, — с живостью возразил Ришелье. — Вот этого тебе как раз и не стоит делать. Напротив, ты должна оставить дверь незапертой.
— Да ну?! — воскликнула Николь, ликуя в душе.
Она, наконец, поняла, и Ришелье это почуял.
— Это все? — спросила она.
— Все. Теперь можешь идти к своему капралу и сказать ему, чтобы он собирал вещи.
— Как жаль, монсеньер, что мне не придется говорить ему, чтобы он прихватил с собой кошелек!
— Ты отлично знаешь, что деньги — это мое дело.
— Да, я помню, что вы, монсеньер, были так добры…
— Сколько тебе нужно, Николь?
— Для чего?
— Для того, чтобы подмешать две капли лекарства в стакан с водой?
— За то, чтобы их подмешать, монсеньер, раз вы уверяете, что это в моих интересах, было бы несправедливо заставлять вас платить. А вот чтобы я оставила незапертой дверь в комнату мадемуазель, монсеньер… Должна вас предупредить, что это обойдется вам в кругленькую сумму.
— Договаривай. Называй цену.
— Мне нужно двадцать тысяч ливров, монсеньер.
Ришелье вздрогнул.
— Николь, ты слишком далеко заходишь, — вздохнул он.
— Что же делать, монсеньер. Я начинаю думать, как и вы, что за мной будет погоня. А с этими деньгами я далеко смогу убежать.
— Ступай предупреди господина де Босира, Николь, а я потом отсчитаю тебе твои деньги.
— Монсеньер! Господин де Босир очень недоверчив, вряд ли он поверит мне на слово, если я не представлю ему доказательств.
Ришелье достал из кармана пачку банковских билетов.
— Вот задаток, — сказал он, — а в этом кошельке — сто двойных луидоров.
— Господин герцог желает пересчитать деньги и отдать мне то, что причитается, как только я переговорю с господином де Босиром?
— Нет, черт побери! Я сделаю это сию минуту. Ты практичная девушка, Николь, это залог твоего будущего счастья.
И Ришелье выплатил всю обещанную сумму: частью — банковскими билетами, частью — луидорами и полулуидорами.
— Теперь ты довольна?
— Еще бы! — отвечала Николь. — Теперь мне не хватает самого главного, монсеньер.
— Лекарства?
— Да. У монсеньера флакон, разумеется, при себе?
— Я всегда ношу его с собой.
Николь улыбнулась.
— И еще, — продолжала она, — ворота Трианона на ночь запираются, а у меня нет ключа.
— Мое звание первого дворянина королевских покоев позволяет мне иметь собственный ключ.
— Правда?
— Вот он.
— До чего же все удивительно совпало, — заметила Николь, — можно подумать, что это просто вереница чудес! Ну, теперь прощайте, господин герцог.
— Почему же?
— Очень просто: я больше не увижу вас, монсеньер, потому что отправлюсь, как только мадемуазель заснет.
— Верно, верно. Прощай, Николь.
Накинув капюшон и украдкой улыбнувшись, Николь исчезла в надвигавшихся сумерках.
"Мне опять повезло, — подумал Ришелье, — но, признаться, мне начинает казаться, что удача считает меня слишком старым и служит мне словно против воли. Эта малышка одержала надо мной верх. Ну, ничего, скоро и я отыграюсь".
CXIX
БЕГСТВО
Николь была девушка добросовестная: она получила деньги от герцога де Ришелье, получила вперед, значит, надо было отплатить за доверие и отработать деньги.
Она побежала напрямик к решетке и была там без двадцати минут восемь вместо половины восьмого.
Привыкший к воинской дисциплине, г-н де Босир был точен: он ждал ее ровно десять минут.
Прошло почти столько же времени с тех пор, как барон де Таверне ушел от дочери. Оставшись одна, Андре задернула занавески.
В это время Жильбер по привычке подглядывал, вернее, пожирал Андре глазами из окна своей мансарды. Вот только трудно было бы с точностью сказать, что выражали его глаза: любовь или ненависть.
Когда занавески были задернуты, Жильберу не на что стало смотреть. Он перевел взгляд в другую сторону.
Тут он заметил шляпу с пером, принадлежавшую г-ну де Босиру, и узнал капрала, который прогуливался и от нечего делать негромко насвистывал.
Через десять минут, то есть без двадцати минут восемь, появилась Николь. Она перекинулась несколькими словами с г-ном де Босиром; он кивнул головой в знак того, что понял ее, и пошел по направлению к небольшой аллее, ведшей в Малый Трианон.
Николь вернулась, порхая подобно птичке.
"Ага! — подумал Жильбер. — Господин капрал и мадемуазель служанка хотят о чем-то поговорить или что-то сделать без свидетелей: отлично!"
Жильбера не интересовала Николь. Но он испытывал к девушке враждебное чувство и пытался собрать побольше способных повредить ее репутации сведений, которые он мог бы представить в том случае, если бы ей вздумалось на него напасть.
Жильбер не сомневался, что военные действия вот-вот начнутся, и, как предусмотрительный солдат, готовился к войне.
То, что он знал о свидании Николь с мужчиной в Трианоне, было мощным оружием, и им не следовало пренебрегать такому умному противнику, как Жильбер, тем более что Николь имела неосторожность почти вложить его Жильберу в руки. Жильберу захотелось услышать подтверждение тому, что он сейчас видел, и перехватить на лету какую-нибудь порочившую Николь фразу, которую он мог бы выставить против девушки, когда придет время сразиться.
Он торопливо спустился из своей мансарды, бросился бегом по коридору через кухни и выскочил в сад по малой лестнице, примыкающей к часовне. Оказавшись в саду, Жильбер успокоился: он знал здесь каждый уголок.
Он шмыгнул под липы, потом добежал до рощи, раскинувшейся шагах в двадцати от того места, где он рассчитывал найти Николь.
Она была уже там.
Едва Жильбер успел спрятаться за деревьями, как его внимание привлек странный звук: это золотая монета со звоном ударилась о камень.
Жильбер как змея скользнул к ограде террасы, густо обсаженной кустами сирени, от которой в мае исходил пьянящий запах; ветки сирени раскачивались над головами прогуливавшихся по этой небольшой аллее, отделяющей Большой Трианон от Малого.
Когда Жильбер добрался туда и его глаза свыклись с темнотой, он увидел, как Николь высыпает деньги на камень по эту сторону решетки, так чтобы их не смог достать г-н де Босир; она доставала их из кошелька, полученного от герцога де Ришелье.
Золотые монеты текли рекой, подпрыгивая и переливаясь, а г-н де Босир с горящим взором и трясущимися руками переводил внимательный взгляд с Николь на луидоры, не понимая, откуда она могла их взять.
Наконец Николь заговорила:
— Вы не раз обещали меня увезти, дорогой господин де Босир…
— И жениться на вас! — с воодушевлением воскликнул капрал.
— Ну, к этому мы еще успеем вернуться, — заметила девушка, — а сейчас главное — убежать. Можно через два часа?
— Да хоть через десять минут, если вам угодно!
— Нет, у меня еще есть кое-какие дела, и на это потребуется два часа.
— Через два часа, так через два часа. Я к вашим услугам, дорогая.
— Отлично! Возьмите пятьдесят луидоров, — девушка отсчитала пятьдесят монет и передала их через решетку де Босиру; тот, не считая, спрятал деньги в кармане камзола, — и через полтора часа ждите меня здесь с каретой.
— Но… — попытался было возразить де Босир.
— Если не хотите, будем считать, что ничего не было; верните мне пятьдесят луидоров.
— Я не отказываюсь, дорогая Николь, я только беспокоюсь о том, что мы будем делать потом.
— За кого вы боитесь?
— За вас.
— За меня?
— Да. Когда мы истратим пятьдесят луидоров, — а мы их рано или поздно истратим — вы станете плакать, жалеть о Трианоне, вы…
— Как вы заботливы, дорогой господин де Босир! Да не бойтесь вы ничего, я не из тех, кого можно сделать несчастной. Пусть вас не мучают угрызения совести. Когда кончатся эти деньги, мы решим, что делать.
И она потрясла кошельком, в котором оставалось еще полсотни луидоров.
Глаза де Босира так и засветились в темноте.
— Ради вас я готов хоть в огонь! — воскликнул он.
— Да что вы, кто же вас об этом просит, господин де Босир? Так мы уговорились? Через полтора часа — карета, а через два — уезжаем!
— Да! — вскричал Босир, схватив Николь за руку и притянув ее к себе в надежде поцеловать через решетку.
— Тише вы! — прошипела Николь. — Вы с ума сошли?
— Нет, я люблю вас!
— Хм! — обронила Николь.
— Вы мне не верите, душа моя?
— Почему не верю? Верю, верю. Постарайтесь найти хороших лошадей.
— Ну, конечно!
На том они и расстались.
Однако через минуту Босир в тревоге вернулся.
— Эй-эй! — позвал он.
— Что такое? — спросила Николь, успев уже довольно далеко уйти и потому приложив ладонь к губам, чтобы ее не услышали чужие уши.
— А как же решетка? — спросил Босир. — Вы сможете перелезть?
— Ну и болван! — прошептала Николь, находясь в эту минуту шагах в десяти от Жильбера.
— У меня есть ключ! — громко сказала она.
Босир, в восхищении чуть слышно вскрикнув, убежал и на сей раз уже не вернулся.
Опустив голову, Николь скорым шагом направилась к дому.
Когда Жильбер остался один, он задал себе четыре вопроса:
"Почему Николь решила убежать с Босиром, которого она не любит?"
"Откуда у Николь так много денег?"
"Где Николь взяла ключ от решетки?"
"Зачем Николь, вместо того чтобы сбежать немедленно, возвращается к Андре?"
Жильбер мог еще понять, откуда у Николь деньги. Но на другие вопросы он не находил ответа.
Его врожденное любопытство или благоприобретенная подозрительность — как вам больше нравится — не давали ему покоя. Несмотря на то что было уже свежо, он решил провести ночь под открытым небом, под влажными от росы деревьями, и дождаться развязки сцены, начало которой он сейчас только видел.
Андре проводила отца до самой решетки Большого Трианона. Она в задумчивости возвращалась назад, когда Николь бегом выскочила ей навстречу из аллеи, той самой, что вела к знаменитой решетке, где она недавно обо всем уговорилась с г-ном де Босиром.
Заметив хозяйку, Николь остановилась и, повинуясь молчаливому приказанию Андре, поднялась вслед за ней в комнату.
Было около половины девятого вечера. Темнота наступила раньше обычного, потому что огромная черная туча, двигавшаяся с юга на север, заволокла небо над Версалем; стоило поднять глаза к вершинам самых высоких деревьев, как становилось видно, что везде, куда проникал взгляд, темная пелена окутала звезды, еще за минуту до того сверкавшие на лазурном небосводе.
Несильный удушливый ветер дышал жаром на жаждущие цветы, и они наклоняли головки, словно выпрашивая у неба дождя или хотя бы росы.
Непогода не испугала Андре; девушка была так грустна и задумчива, что не только не ускорила шаг, но, напротив, ступала будто против воли, поднимаясь по лестнице к себе в комнату; она останавливалась у каждого окна, глядя на небо, вид которого соответствовал ее расположению духа, и оттягивала таким образом возвращение в свои скромные апартаменты.
Раздосадованная Николь кипела от нетерпения, боясь, как бы ее не задержала какая-нибудь причуда хозяйки; горничная сердито ворчала себе под нос, посылая хозяйке проклятия — на них никогда не злятся слуги, если неосторожные хозяева позволяют некоторые вольности в ущерб интересам лакеев.
Наконец Андре добралась до своей комнаты, толкнула дверь и скорее рухнула, чем села в кресло. Она едва слышно попросила Николь приоткрыть выходившее во двор окно.
Николь повиновалась.
Затем она вернулась к хозяйке с заботливым видом, который плутовка так ловко умела на себя напускать в нужную минуту.
— Боюсь, что мадемуазель нынче не совсем здорова, — заметила она. — У мадемуазель красные припухшие глаза, и они как-то неестественно блестят. Мне кажется, вам необходимо отдохнуть.
— Ты так думаешь, Николь? — не слушая, пробормотала Андре и в изнеможении вытянула ноги на ковре.
Николь поняла это как приказание раздеть хозяйку и стала развязывать ленты и вынимать цветы из ее прически, напоминавшей огромную башню, и даже очень ловкие руки не могли бы разобрать ее скорее чем за четверть часа.
За все это время Андре не проронила ни звука. Предоставленная самой себе, Николь делала свое дело довольно неосторожно, но Андре словно не замечала боли — так сильно она была озабочена.
Окончив вечерний туалет, Андре отдала распоряжения на следующий день. Рано утром надо было отправиться в Версаль за книгами, переданными Филиппом для сестры. Кроме того, надо было сходить за настройщиком и пригласить его в Трианон, чтобы он исправил клавесин.
Николь спокойно отвечала, что если ее не станут будить среди ночи, то она встанет пораньше и все поручения будут исполнены прежде чем мадемуазель успеет проснуться.
— Завтра я напишу Филиппу, — продолжала Андре, разговаривая сама с собой, — да, напишу-ка я Филиппу: это меня немного успокоит.
— Во всяком случае, — едва слышно прошептала Николь, — не мне придется относить это письмо!
Однако девушка была еще не окончательно испорчена — она с грустью подумала, что впервые в жизни собирается покинуть свою прекрасную хозяйку, рядом с которой пробудились ее разум и сердце. Мысль об Андре была для нее связана со многими воспоминаниями; вся ее жизнь промелькнула у нее перед глазами, воспоминания детства так и нахлынули на нее.
Пока обе девушки, столь непохожие по характеру и положению, размышляли каждая о своем, время неудержимо шло вперед. Небольшие часы Андре, всегда шедшие немного впереди часов Трианона, пробили девять.
Босиру уже пора было явиться на свидание, и у Николь оставалось не более получаса, чтобы присоединиться к своему поклоннику.
Она торопливо раздела хозяйку и, не удержавшись, несколько раз вздохнула, однако Андре не обратила на это никакого внимания. Николь помогла ей надеть длинный пеньюар. Андре находилась во власти своих мыслей, она продолжала стоять не двигаясь, устремив взгляд в потолок. Николь вынула из-за корсажа флакон, который ей дал герцог де Ришелье, бросила два кусочка сахару в стакан с водой, затем усилием воли, необычайно сильной для такого юного существа, она заставила себя подмешать в стакан две капли жидкости из флакона; вода тотчас стала мутной и приобрела опаловый оттенок, потом мало-помалу опять стала прозрачной.
— Мадемуазель! — заговорила Николь. — Питье готово, платья сложены, лампа зажжена. Вы знаете, что мне завтра нужно рано встать. Можно мне сейчас пойти лечь?
— Можно, — рассеянно отвечала Андре.
Николь присела в реверансе, в последний раз вздохнула, что опять осталось не замеченным хозяйкой, и прикрыла за собой застекленную дверь, выходившую в крохотную прихожую.
Не заходя в свою комнатку, смежную с коридором и освещаемую лампой из прихожей, она легонько выскользнула из апартаментов Андре, неплотно притворив входную дверь: указания Ришелье были в точности выполнены.
Чтобы не привлекать внимания соседей, она крадучись спустилась по лестнице в сад, спрыгнула с крыльца и бегом бросилась к решетке, где ее ждал г-н де Босир.
Жильбер не оставил своего поста. Ведь он слышал, что Николь обещала вернуться через два часа; он стал ждать. Однако, когда прошло минут десять после назначенного времени, он испугался, что она вообще не придет.
Вдруг он заметил Николь: она бежала так, словно за ней гнались.
Она подбежала к решетке и просунула Босиру сквозь прутья ключ; Босир отворил ворота; Николь выскочила из ворот, и они со скрежетом затворились.
Ключ был заброшен в поросшую травой канаву, немного ниже того места, где залег Жильбер; молодой человек услышал глухой удар и запомнил то место, куда ключ упал.
Николь и Босир бросились бежать. Жильбер прислушивался к их удалявшимся шагам и скоро уловил не стук колес, как он ожидал, а конский топот; Жильбер представил себе упреки Николь, мечтавшей укатить в экипаже, словно герцогиня. Вскоре копыта подкованного коня зацокали по мощеной дороге.
Жильбер облегченно вздохнул.
Он был свободен, он избавился от Николь — самого страшного своего врага. Андре осталась одна; возможно, убегая, Николь оставила ключ в двери; может быть, Жильберу удастся пробраться к Андре.
При этой мысли молодой человек так и затрепетал от охвативших его противоречивых чувств; в нем боролись страх и неуверенность, любопытство и желание.
Следуя той же дорогой, по какой только что бежала Николь, но в обратном направлении, он поспешил к службам.
CXX
ПРОВИДЕНИЕ
Оставшись в одиночестве, Андре мало-помалу оправилась от охватившего ее смятения, и в то время, когда Николь уезжала, пристроившись на коне позади г-на де Босира, ее хозяйка, стоя на коленях, горячо молилась за Филиппа — единственного на земле, кого она глубоко и искренне любила.
Андре молилась, исполненная безграничной веры в Бога. Ее молитва состояла обыкновенно из не связанных между собой слов; она представляла собой нечто вроде восторженного обращения, где девичья душа воспаряла к Богу и сливалась с ним.
В этих страстных мольбах, когда, казалось, душа отделялась от тела, не было и тени эгоизма. Андре забывала о себе, подобно терпящему кораблекрушение, потерявшему надежду и молящемуся уже не за себя, а за жену и детей, ибо им суждено остаться сиротами.
Боль закралась в сердце Андре со времени отъезда ее брата. В ней, так же как и в молитве, сочетались два начала, один из которых был неясен и самой девушке.
Это было похоже на предчувствие скорого несчастья. Ее ощущения напоминали покалывание в заживающей ране.
Сильная боль уже прошла, однако воспоминание о ней еще надолго остается и не дает забыть о боли, мучая не меньше, чем еще недавно сама рана.
Андре даже не пыталась понять, что с ней происходит. Отдавшись воспоминаниям о Филиппе, она приписывала свое возбуждение тому, что постоянно думала о любимом брате.
Наконец она встала, выбрала себе книгу из скромной библиотеки, подвинула свечу поближе к изголовью и легла в постель.
Книга, которую она выбрала, вернее, взяла наугад, оказалась словарем по ботанике. Как нетрудно догадаться, она была не из тех книг, которые могли бы заинтересовать Андре; напротив, она ее скоро утомила. Вскоре пелена, вначале прозрачная, а затем становившаяся все более плотной и мутной, опустилась ей на глаза. Девушка пыталась некоторое время бороться со сном, удерживая упрямо ускользавшую мысль, потом, не в силах продолжать борьбу, наклонила голову, чтобы задуть свечу, и тут взгляд ее упал на стакан с водой, приготовленной Николь. Она протянула руку, взяла стакан, и, зажав в другой руке ложечку, размешала наполовину растаявший сахар. Уже засыпая, она поднесла стакан к губам.
Как только губы Андре коснулись воды, рука ее сильно задрожала и девушка почувствовала в голове тяжесть. Андре с ужасом испытала уже знакомое сильнейшее возбуждение, и в то же время ее словно сковала чужая воля, которая уже не раз опустошала ее душу и подавляла разум.
Едва она успела поставить стакан на тарелку, как почти в ту же секунду из ее приоткрытых губ вырвался вздох и ей перестали повиноваться голос, зрение, разум. Она рухнула на подушку как подкошенная, оказавшись во власти почти смертельного оцепенения.
Впрочем, это подобие обморока оказалось минутным и было лишь переходом из одного состояния в другое.
Только что она лежала как мертвая, словно навсегда закрыв прекрасные глаза, и вдруг поднялась, открыла глаза, поражавшие неподвижностью взгляда, и, будто мраморная статуя, сходящая с надгробия, спустилась с постели.
Сомнений больше быть не могло: Андре спала тем самым волшебным сном, что уже несколько раз словно приостанавливал ее жизнь.
Она прошла через всю комнату, распахнула застекленную дверь и вышла в коридор на негнущихся ногах, словно ожившая статуя.
Не раздумывая, Андре стала спускаться по лестнице, машинально переставляя ноги; скоро она очутилась на крыльце.
В ту минуту, когда Андре занесла ногу над верхней ступенькой, Жильбер собирался подняться по той же лестнице.
Когда Жильбер увидел девушку, двигавшуюся величавой поступью в развевающихся белых одеждах, ему почудилось, что она идет прямо на него.
Он попятился и отступил в аллею грабов.
Он вспомнил, что видел однажды Андре в таком же состоянии в замке Таверне.
Андре прошла мимо Жильбера, задев его платьем, но так и не заметила юношу.
Молодой человек был раздавлен, он совершенно потерялся, ноги у него подкосились от страха, он осел.
Не зная, чему приписать странное поведение Андре, он провожал ее взглядом. Мысли его путались, кровь стучала в висках. Он скорее был близок к помешательству, чем спокоен и сосредоточен, как надлежит наблюдателю.
Он сидел, скорчившись в траве, и продолжал наблюдать за Андре. Это было его привычное занятие с тех самых пор, как в его сердце вспыхнула роковая страсть.
Внезапно таинственное появление Андре получило разгадку: девушка не сошла с ума, как он было подумал. Ровным и безжизненным шагом она шла на свидание.
В эту минуту в небе сверкнула молния.
В голубоватом свете вспышки Жильбер увидел мужчину, скрывавшегося в темной липовой аллее. Жильбер успел заметить, что у него бледное лицо и одет он небрежно.
Андре шла к этому господину; он протянул руку, будто притягивая ее к себе.
Словно раскаленное железо пронзило сердце Жильбера. Он привстал на колени, чтобы лучше видеть.
В это время другая вспышка вспорола темноту.
Жильбер узнал Бальзамо, он увидел, что тот взмок от пота и с головы до ног покрыт пылью. Бальзамо какой-то хитростью проник в Трианон. Как птица, завороженная взглядом змеи, Андре двигалась навстречу Бальзамо.
В двух шагах от него она замерла.
Он взял ее за руку. Андре вздрогнула.
— Вы видите? — спросил он.
— Да, — отвечала Андре. — Однако должна вам заметить, что, вызывая меня таким образом, вы едва меня не погубили.
— Простите, простите! — воскликнул Бальзамо. — Но у меня просто голова идет кругом, я сам не свой, я теряю рассудок, умираю!
— Вы в самом деле страдаете, — подтвердила Андре, угадывая по его прикосновению, в каком состоянии он находится.
— Да, да, я страдаю и пришел к вам за утешением. Только вы можете меня спасти.
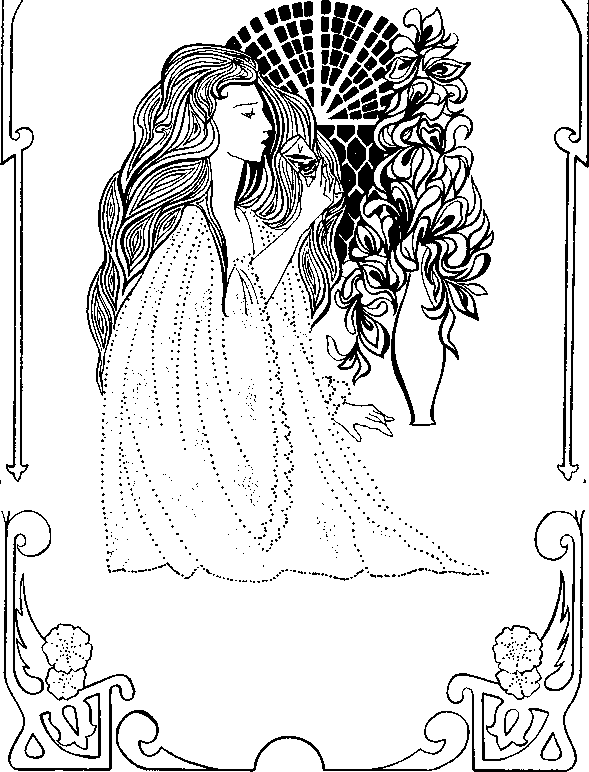
— Спрашивайте меня.
— Во второй раз, вы заметили?
— О, конечно.
— Хотите вы следовать за мной? Вы можете это сделать?
— Могу, если вы мысленно будете меня направлять.
— Идите.
— Вот мы входим в Париж, — сказала Андре, — идем по бульвару, спускаемся по темной улице, освещенной одним-единственным фонарем.
— Да, да. Входите же!
— Мы в передней. Справа лестница, но вы подводите меня к стене; она раздвигается, впереди — ступеньки.
— Поднимайтесь! Поднимайтесь! — вскричал Бальзамо. — Мы на верном пути!
— Ну, вот мы и в комнате. Повсюду львиные шкуры, оружие. Ах! Каминная доска отодвигается.
— Давайте пройдем! Где вы сейчас?
— В необычной комнате: в ней нет двери, окна зарешечены… Какой здесь беспорядок!
— Но в ней ведь никого нет, правда?
— Никого.
— Вы можете увидеть женщину, что здесь жила?
— Да, если у меня будет какой-нибудь предмет, к которому она прикасалась или который ей принадлежит.
— Держите: это ее локон.
Андре взяла волосы и прижала их к себе.
— Я ее узнаю, — сказала она. — Я уже видела эту женщину, когда она убегала от вас в Париж.
— Верно, верно. Вы можете сказать, что она делала последние два часа и как она сбежала?
— Погодите, погодите… Да… Она лежит на софе, у нее полуобнажена грудь, в груди — рана…
— Смотрите, Андре, смотрите, не теряйте ее из виду.
— Она спала… Теперь проснулась… Озирается, достает платок, взбирается на стул, привязывает платок к решетке на окне… О Господи!
— Так она в самом деле жаждет смерти?
— Да, она решилась. Но ее пугает такая смерть. Она оставляет платок… Спускается… Ах, бедняжка!..
— Что?
— Как она плачет!.. Как она страдает! Ломает руки… Выбирает угол, чтобы разбить себе об него голову.
— Боже, Боже! — пробормотал Бальзамо.
— Бросается на камин. По обеим сторонам камина два мраморных льва. Она собирается разбить голову об одного из них.
— Дальше? Что дальше? Смотрите, Андре, смотрите! Я вам приказываю!
— Останавливается…
Бальзамо облегченно вздохнул.
— Смотрит…
— Куда?
— Она заметила кровь в глазу у льва.
— Господи Боже! — прошептал Бальзамо.
— Да, видит кровь, но не удивляется. Странно: это не ее кровь, а ваша.
— Эта кровь — моя? — воскликнул Бальзамо.
— Да, ваша, ваша! Вы поранили руку ножом, вернее — кинжалом, и выпачканным в крови пальцем нажали на глаз льва. Я вас вижу.
— Вы правы, правы. Но как же она убежала?
— Погодите, погодите! Вот она разглядывает кровь, задумалась, потом нажимает пальцем туда же, куда и вы. Ага, львиный глаз поддается, распрямляется пружина. Каминная доска отворяется.
— Как я неосторожен! — вскричал Бальзамо. — Какая неосмотрительность! Несчастный! Какой же я глупец! Я сам во всем виноват… А она выходит? Убегает?
— Надо простить ее, бедняжку! Она была так несчастна!
— Где она? Куда направляется? Идите за ней, Андре, я вам приказываю!
— Подождите! Она задерживается в комнате, украшенной оружием и шкурами. Один из шкапов не заперт. Шкатулка, которая обыкновенно бывает спрятана в этом шкапчике, теперь лежит на столе. Она узнает шкатулку и прихватывает ее с собой.
— Что в шкатулке?
— Ваши бумаги, я полагаю.
— Как она выглядит?
— Обтянута синим бархатом, обита серебряными гвоздиками, с серебряными застежками и серебряным же замком.
— Да! — проговорил Бальзамо, в сердцах топнув ногой. — Значит, это она взяла шкатулку?
— Да, да, она. Она спускается по лестнице, ведущей в переднюю, отворяет дверь, дергает за цепочку, и входная дверь тоже поддается; она выходит на улицу.
— В котором часу?
— Должно быть, поздно: на улице темно.
— Тем лучше: по всей вероятности, она ушла незадолго до моего возвращения, я еще успею ее догнать. Идите, идите за ней, Андре!
— Выйдя из дому, она бежит как сумасшедшая, выбегает на бульвар… Бежит, бежит, не останавливаясь.
— В какую сторону?
— В сторону Бастилии.
— Вы все еще видите ее?
— Да, она будто лишилась рассудка, натыкается на прохожих. Наконец останавливается, пытается узнать, где она… Спрашивает…
— Что она говорит? Слушайте, Андре, слушайте, Небом вас заклинаю: не упустите ни единого слова. Вы говорили, что она спрашивает?..
— Да, у господина, одетого в черное.
— О чем она его спрашивает?
— Она спрашивает, где живет начальник полиции.
— Так, значит, это была не пустая угроза… Он ей отвечает?
— Да, называет адрес.
— Что она делает?
— Возвращается, идет по другой улочке, проходит через площадь…
— Через Королевскую площадь, верно… Вы можете узнать, каковы ее намерения?
— Бегите скорее, не медлите! Она собирается на вас донести. Если она вас опередит, если она встретится с господином де Сартином — вы пропали!
Бальзамо громко вскрикнул, бросился в кусты, выскочил через небольшую калитку, которую отворила и затворила какая-то тень, и одним махом вскочил на своего коня Джерида, рывшего копытом землю возле калитки.
Конь, подстегнутый голосом и шпорами, взвился и полетел стрелой по направлению к Парижу, и был слышен лишь стремительно удалявшийся стук его копыт.
Бледная Андре некоторое время стояла, не двигаясь. Бальзамо как бы унес с собой ее жизнь: скоро она обессилела и рухнула наземь.
В погоне за Лоренцой Бальзамо забыл разбудить Андре.
CXXI
КАТАЛЕПСИЯ
Андре обессилела не сразу, как мы уже сказали, а постепенно, и мы сейчас попытаемся это описать.
Всеми покинутая, Андре почувствовала, как сердце ее словно застыло после нервного потрясения, которое ей довелось только что пережить. Она зашаталась и вздрогнула всем телом, будто у нее начинался эпилептический припадок.
Жильбер по-прежнему находился неподалеку; он замер, наклонившись вперед и не сводя с нее глаз. Понятно, что Жильбер, не имевший никакого понятия о явлениях магнетизма, даже представить себе не мог, что Андре спит и что она вышла не по своей воле. Он ничего или почти ничего не расслышал из ее разговора с Бальзамо. Вот уже во второй раз в Трианоне, как когда-то в Таверне, ему показалось, что Андре словно повинуется приказаниям этого человека, оказывавшего на нее страшное, необъяснимое влияние. Жильбер так объяснил себе происходившее: "У мадемуазель Андре есть любовник, во всяком случае, есть человек, которого она любит и с которым встречается по ночам".
Хотя Андре и Бальзамо разговаривали шепотом, их встреча была похожа на ссору. У Бальзамо был растерянный вид. Он словно обезумел; когда он убегал, он был похож на отчаявшегося любовника. Андре, стоявшая молча, неподвижно, напоминала брошенную возлюбленную.
В это мгновение Жильбер увидел, что девушка покачнулась, заломила руки; ноги у нее подкосились. Из ее груди рвались глухие, сдавленные, похожие на рыдания звуки; она всем своим существом пыталась отразить неровный поток флюидов, воспринятый ею во время магнетического сна благодаря своему дару провидения, а чего она благодаря провидению достигла — это мы уже видели в предыдущей главе.
Магия возобладала над природой: Андре так и не смогла полностью освободиться от гипноза, от которого Бальзамо забыл ее избавить. Ей не удалось разорвать связывавшие ее таинственные путы; вступив с ними в неравный бой, она забилась в конвульсиях, подобно мифическим пифиям, извивавшимся на своих треножниках на виду у жрецов, собиравшихся под колоннами храма в ожидании ответа на свои вопросы.
Андре потеряла равновесие и с жалобным стоном упала на песок, будто пораженная громом, прорвавшим тишину.
Но не успела она коснуться земли, как Жильбер, словно молодой тигр, прыгнул к ней, подхватил ее на руки, и, не чувствуя тяжести, понес в комнату, которую она покинула, повинуясь зову Бальзамо; там все так же горела свеча, освещая смятую постель.
Жильбер обнаружил, что все двери не были заперты, как их оставила Андре.
Войдя в комнату, он натолкнулся на софу и опустил на нее холодное безжизненное тело.
Его охватил жар от прикосновения к неподвижной Андре; он дрожал от возбуждения, и кровь закипала в его жилах.
Однако первая мысль, пришедшая ему в голову, была чиста и невинна: он во что бы то ни стало хотел оживить эту прекрасную статую. Он поискал глазами графин, чтобы брызнуть ей водой в лицо и привести ее в чувство.
Но в ту самую минуту, когда он протянул дрожащую руку к хрустальному кувшину с узким горлышком, ему почудилось, будто скрипнула половица; он прислушался: кто-то уверенным и в то же время легким шагом поднимался по лестнице, сложенной из камня и дерева, что вела в комнату Андре.
Это не могла быть Николь — ведь она убежала с г-ном де Босиром; это не мог быть Бальзамо: он ускакал галопом на Джериде.
Следовательно, это был кто-то чужой.
Если бы Жильбера кто-нибудь увидел в комнате Андре, его бы немедленно изгнали. Андре была для него столь же недосягаема, как испанская королева для своего подданного: он не мог к ней прикоснуться даже для того, чтобы спасти ей жизнь.
Все эти мысли вихрем промчались в его голове раньше, чем незнакомец успел поставить ногу на следующую ступеньку.
Шаги становились все ближе, но Жильберу было трудно определить точно, как далеко от двери находится незнакомец, потому что на дворе разыгралась сильная буря; обладая редким хладнокровием и завидной осторожностью, молодой человек понял, что ему здесь не место, что ему прежде всего необходимо остаться незамеченным.
Он поспешно задул свечу, освещавшую комнату Андре, и бросился в кабинет, служивший спальней служанке. Расположившись у застекленной двери, он мог видеть, что происходит в комнате Андре и в передней.
В передней на маленьком столике с выгнутыми ножками горел ночник. Жильбер хотел было задуть его, как и свечу, но не успел; под ногой незнакомца в коридоре скрипнул пол, и на пороге появился немного запыхавшийся господин; он робко проскользнул в переднюю, прикрыл за собой входную дверь и запер на задвижку.
Жильбер в последнее мгновение успел скрыться в комнате Николь, притворив за собой застекленную дверь.
Он затаил дыхание, прильнул к стеклу и стал слушать.
Гром торжественно грохотал; крупные дождевые капли стучали по витражу в комнате Андре и по оконному стеклу в коридоре; рама этого окна, оставленная незапертой, скрипела в петлях, и время от времени гулявший там ветер хлопал ею.
Но смятение в природе и доносившийся с улицы шум, как ни были они ужасны, не имели для Жильбера ровно никакого значения: все его мысли, его жизнь, его душа слились в одном только взгляде, прикованном к этому господину.
Посетитель миновал переднюю, пройдя в двух шагах от Жильбера и без колебания вошел в комнату.
Жильбер увидел, как он подобрался к постели Андре, выразил удивление, не обнаружив ее на месте, и почти тотчас же нащупал рукой свечу на столе.
Свеча упала; Жильбер услышал, как на мраморном столе разбилась хрустальная розетка подсвечника.
Человек позвал приглушенным голосом:
— Николь! Николь!
"Как Николь? — подумал про себя Жильбер. — Почему же этот господин, вместо того чтобы окликнуть Андре, зовет Николь?"
Не дождавшись ответа, незнакомец поднял подсвечник и на цыпочках пошел в переднюю, чтобы зажечь свечу от ночника.
Жильбер стал напряженно всматриваться в странного ночного посетителя; в эту минуту он мог бы все увидеть даже сквозь стену — так сильно в нем было желание разглядеть лицо этого господина.
Вдруг Жильбер вздрогнул и, позабыв о том, что он в надежном укрытии, отступил на шаг от двери.
При двойном свете ночника и свечи Жильбер узнал в господине, державшем в руке подсвечник, самого короля. Он похолодел и почти помертвел от ужаса.
Ему все стало ясно: бегство Николь, деньги, которые она считала с г-ном де Босиром, оставленная незапертой дверь — он видел теперь насквозь и Ришелье и Таверне; он понял всю эту таинственную и отвратительную интригу, где центром была Андре.
Жильбер догадался, почему король звал Николь, пособницу преступления, услужливую, продавшую и предавшую свою хозяйку, как Иуда.
Едва он представил себе, зачем король пришел в эту комнату и что сейчас произойдет на его глазах, кровь бросилась Жильберу в лицо и он потерял голову.
Он был готов закричать, но безотчетный непреодолимый страх, что он испытывал перед этим человеком, носившим гордое имя короля Франции, лишил Жильбера дара речи.
Тем временем Людовик XV со свечой в руках вернулся в комнату.
Как только он вошел, он сразу заметил Андре в пеньюаре из белого муслина, совсем не скрывавшем ее наготы. Она полулежала на софе, откинув голову на спинку и закинув одну ногу на диванную подушку; другая нога, безжизненная и обнаженная, свисала на пол — туфельку Андре потеряла.
Король улыбнулся. В неверном свете его улыбка казалась страшной. Вслед за тем почти такая же страшная улыбка заиграла на губах Андре.
Людовик XV прошептал несколько слов; Жильбер принял их за любовное признание. Поставив подсвечник на стол, он бросил взгляд на охваченное пламенем небо, а затем опустился перед девушкой на колени и поцеловал ей руку.
Жильбер вытер со лба пот. Андре не шевельнулась.
Почувствовав, как холодна ее рука, король взял ее в свою руку, чтобы согреть, а другой рукой обнял красавицу за талию, склонился к ее уху, чтобы прошептать нежные слова любви, и коснулся щекой ее лица.
Жильбер пошарил в карманах и облегченно вздохнул, нащупав в куртке рукоятку длинного ножа, которым он обрезал ветви грабов в парке.
Лицо Андре было таким же холодным, как и рука.
Король поднялся, взгляд его упал на босую ногу Андре, белую и маленькую, как у Золушки. Король взял ее в руки и содрогнулся: нога была холодна, как у мраморной статуи.
Жильбер пришел в сильное возбуждение при виде красивой девушки; ему казалось, что сластолюбец-король обкрадывает его; он заскрежетал зубами и раскрыл сложенный нож.
Но король уже выпустил ногу Андре из рук; сон девушки удивил его: вначале ему казалось, что это кокетливая стыдливость; он пытался понять, почему так холодны руки и ноги у этого восхитительного создания; он спрашивал себя, почему тело девушки так холодно и неподвижно.
Он распахнул пеньюар Андре, обнажив девичью грудь, и пугливо и в то же время плотоядно дотронулся до нее, желая узнать, бьется ли ее сердце в этой ледяной груди, округлостью и белизной соперничавшей с алебастровой.
Жильбер высунулся из-за двери, держа нож наготове; его глаза сверкали, зубы были плотно сжаты; если бы король продолжал свои поползновения, Жильбер заколол бы его, а потом покончил бы с собой.
Ужасающий удар грома потряс комнату; королю показалось, что дрогнула софа, около которой он стоял на коленях; желто-фиолетовая вспышка осветила лицо Андре, придав ему мертвенный оттенок; Людовик XV пришел в ужас и от бледности, и от неподвижности, и от молчания ее. Он отступил, пробормотав едва слышно:
— Да ведь она мертва!
При мысли, что он обнимал труп, король задрожал. Он взял свечу в руки, вернулся к Андре и стал разглядывать ее в неверном свете пламени. Он увидел, что губы ее посинели, под глазами — темные круги, волосы разметались, грудь неподвижна; он вскрикнул, выронил подсвечник, зашатался и, покачиваясь как пьяный, вышел в переднюю, потеряв голову от страха и натыкаясь на стены.
С лестницы донеслись его торопливые шаги, потом заскрипел песок в саду, и вскоре ничего не стало слышно, кроме мощных порывов ветра, пригибавшего к земле деревья.
Не выпуская из рук ножа, хмурый, притихший Жильбер вышел из своего укрытия. Он замер на пороге комнаты и залюбовался юной красавицей, объятой глубоким сном.
Все это время оброненная королем свеча продолжала гореть на полу, освещая изящную ножку неподвижной девушки.
Жильбер медленно спрятал нож; на лице его появилось выражение непреклонной решимости; он подошел к двери, в которую вышел король, и прислушался.
Он слушал долго. Потом, как и король, он запер дверь на задвижку и задул огонь в ночнике.
Так же медленно, сверкая глазами, он вернулся в комнату Андре и раздавил ногой свечу; воск растекся по паркету.
Внезапно наступившая темнота скрыла мрачную улыбку, заигравшую на его губах.
— Андре! Андре! — зашептал он. — Я предрек, что в третий раз тебе от меня не уйти. Андре! Андре! У страшного романа, который ты мне приписала, должна быть страшная развязка.
Протянув руки, он шагнул к софе, где без чувств лежала Андре, по-прежнему холодная и неподвижная.
CXXII
ВОЛЯ
Читатели видели, как ускакал Бальзамо.
Джерид летел, обгоняя ветер. Бледный от нетерпения и ужаса, всадник пригибался к развевавшейся гриве и приоткрытым ртом ловил воздух, который конь рассекал подобно тому, как корабль рассекает морские волны.
По обеим сторонам дороги мелькали, как во сне, дома и деревья, и сейчас же исчезали из виду. Когда на дороге попадались тяжелые поскрипывавшие повозки, запряженные пятеркой лошадей, лошади шарахались при приближении Джерида, мчавшегося со скоростью метеорита, и ничто, наверно, не могло заставить их поверить в то, что Джерид одной с ними породы.
Так Бальзамо проскакал около льё. Голова его пылала, глаза горели, он шумно дышал; в наше время поэты могли бы его сравнить разве что с грозными и тяжелыми, дышащими огнем и паром чудовищными машинами, что летят по железным дорогам.
Конь и всадник в несколько мгновений миновали Версаль, стрелой промелькнув перед глазами редких прохожих, успевавших заметить только вылетавшие из-под копыт искры.
Бальзамо проскакал еще одно льё. Джериду понадобилось меньше четверти часа, чтобы оставить эти два льё позади, но Бальзамо казалось, что прошла целая вечность.
Вдруг Бальзамо поразила одна мысль.
Он резко натянул поводья. Джерид присел на задние ноги, а передними уперся в песок.
И конь и наездник с минуту отдыхали. Бальзамо поднял голову. Затем он вытер платком кативший градом пот и, подставив лицо ночному ветру, проговорил:
— Какой же ты безумец! Ни бег твоего коня, ни твое самое страстное желание никогда не смогут обогнать ни молнии, ни электрического разряда. А ведь чтобы отвести нависшее над твоей головой несчастье, необходимы молниеносный удар, мощное потрясение, способные парализовать чужую волю; тебе нужно на расстоянии усыпить рабыню, вышедшую из повиновения. Если ей суждено когда-нибудь ко мне вернуться…
Заскрежетав зубами, Бальзамо в отчаянии махнул рукой.
Ну-ну, — нахмурив брови, продолжал он, глядя в одну точку и взявшись рукой за подбородок. — Что же тогда наука: пустые слова или дела? Может она хоть что-нибудь или не может ничего? Ведь я этого хочу!.. Так попытаемся… Лоренца! Лоренца! Приказываю тебе уснуть! Лоренца, где бы ты сейчас ни находилась, засни! Засни! Я так хочу! Я на это рассчитываю!
Нет, нет, — в отчаянии прошептал он, — нет, я сам себя обманываю; я сам в это не верю; нет, я не смею в это поверить. Однако воля может все. Ведь я так страстно этого желаю, я хочу этого всем своим существом! Рассекай воздух, моя воля! Обойди все подводные течения враждебных и равнодушных проявлений чужой воли; пройди сквозь стены, подобно пушечному ядру; следуй за ней всюду, куда бы она ни отправилась; ударь ее, убей! Лоренца, Лоренца! Приказываю тебе уснуть! Лоренца, я хочу, чтобы ты замолчала!
Он несколько минут настойчиво повторял про себя эти слова, будто помогая им разбежаться и осилить расстояние от Версаля до Парижа. После этого таинственного действа, в котором несомненно участвовали все атомы его тела и которому помогал сам Господь, хозяин и повелитель всего сущего, Бальзамо, по-прежнему стиснув зубы и сжав кулаки,
— Все напрасно, Бальзамо! Напрасно ты так торопишься! — вскричал он. — Лоренца уже там: сейчас она все расскажет, возможно, уже все рассказала. Презренная! Какую пытку мне для тебя придумать?
подстегнул Джерида, но так, что тот не почувствовал на этот раз ни удара коленом, ни шпоры.
Можно было подумать, что Бальзамо хочет сам себя в чем-то убедить.
С молчаливого согласия хозяина благородный скакун, как свойственно его породе, легко и почти неслышно переступал тонкими породистыми ногами по вымощенной камнем дороге.
На первый взгляд могло показаться, что Бальзамо проиграл. Однако он все это время обдумывал создавшееся положение. В ту самую минуту, когда Джерид ступил на улицы Севра, у Бальзамо созрел план.
Подъехав к решетке парка, он остановился и огляделся. Было похоже, что он кого-то поджидает.
И действительно, почти тотчас же от калитки отделился какой-то человек и подошел к нему.
— Это ты, Фриц? — спросил Бальзамо.
— Да, хозяин.
— Тебе удалось что-нибудь узнать?
— Да.
— Графиня Дюбарри в Париже или в Люсьенне?
— В Париже.
Бальзамо с нескрываемым торжеством посмотрел на небо.
— Как ты сюда добрался?
— Верхом на Султане.
— Где он?
— На постоялом дворе.
— Он оседлан?
— Да.
— Хорошо. Приготовься к отъезду.
Фриц пошел отвязывать Султана. Это был славный конь немецкой породы, прекрасного нрава; правда, такие лошади не очень выносливы, но они идут вперед, пока у них хватает дыхания, а хозяин не позабудет дать им шпоры.
Фриц снова подошел к Бальзамо.
Тот что-то писал при свете фонаря, в котором приспешники дьявола всю ночь поддерживали огонь для осуществления своих козней.
— Возвращайся в Париж, — сказал он. — Во что бы то ни стало разыщи графиню Дюбарри и передай ей в руки эту записку, — приказал Бальзамо. — Даю тебе полчаса. Потом отправляйся на улицу Сен-Клод и жди там синьору Лоренцу — она непременно должна вернуться. Ты впустишь ее, не говоря ни слова, не чиня ей ни малейшего препятствия. Иди и помни: через полчаса твое поручение должно быть выполнено.
— Хорошо, — отвечал Фриц, — будет исполнено.
С этими словами он пришпорил Султана и ударил его хлыстом. Удивившись такому непривычно грубому обращению, Султан с жалобным ржанием пустился вскачь.
Мало-помалу придя в себя, Бальзамо поехал в Париж и спустя три четверти часа уже въезжал в город; лицо его разрумянилось, взгляд у него был спокойный, вернее, задумчивый.
Разумеется, Бальзамо был прав: как бы стремительно ни скакал Джерид, он бы все равно опоздал, и только воля Бальзамо могла нагнать вырвавшуюся из заточения Лоренцу.
Миновав улицу Сен-Клод, молодая женщина выбежала на бульвар и, свернув направо, вскоре увидела стены Бастилии. Просидев все время взаперти, Лоренца так и не узнала Парижа. Но больше всего ей хотелось убежать из проклятого особняка, который был для нее тюрьмой. Только потом она подумала об отмщении.
Она пустилась бежать через Сен-Антуанское предместье, как вдруг ее окликнул молодой человек, вот уже несколько минут не спускавший с нее удивленных глаз.
Лоренца, итальянка, жившая когда-то в окрестностях Рима очень замкнуто, не имея представления о тогдашней моде, о костюмах и обычаях своего времени, одевалась скорее как восточная женщина, чем как европейская дама, то есть одежда ее была свободной и пышной; она мало походила на прелестных куколок с осиными талиями, затянутыми в удлиненные корсажи и трепетавшими в облаке тонкого шелка и муслина, под которыми было почти невозможно отыскать девичий стан — так велико у модниц было желание походить на неземное существо.
Итак, Лоренца не сохранила, вернее, не позаимствовала из французской моды тех лет ничего, кроме туфелек на каблучке в два дюйма высотой, этой немыслимой обуви, заставлявшей ножку выгибаться, но зато подчеркивавшей изящество щиколотки. Хотя дело происходило не в мифологические времена, такие туфли, однако, не давали возможности нынешним Аретузам убежать от Алфеев.
Итак, Алфей, преследовавший нашу Аретузу, без особого труда настиг ее; он успел разглядеть под ее атласными и кружевными юбками божественные ножки, пришел в восторг от свободно рассыпавшихся по плечам волос, от ее глаз, странно сверкавших из-под накидки, в которую она куталась; он решил, что Лоренца — дама, переодетая то ли для маскарада, то ли для любовного свидания и направлявшаяся, по всей видимости, в какой-нибудь пригородный домик.
Он подошел ближе и, сняв шляпу, заговорил, обращаясь к Лоренце:
— Боже мой! Сударыня! Вы не сможете далеко уйти в этих туфельках, они только задерживают вас. Могу ли я предложить вам опереться на мою руку, пока нам не попадется карета? Я буду счастлив сопровождать вас.
Лоренца быстрым движением повернула голову, окинула взглядом своих черных бездонных глаз незнакомца, обратившегося к ней с предложением, которое многие дамы сочли бы наглостью, и внезапно остановилась.
— Да, — ответила она, — я с удовольствием принимаю ваше предложение.
Молодой человек галантно подставил руку.
— Куда же мы отправимся, сударыня? — спросил он.
— К начальнику полиции.
Молодой человек вздрогнул.
— К господину де Сартину? — спросил он.
— Я не знаю, как его зовут. Может быть, и господин де Сартин. Я хочу говорить с начальником полиции.
Молодой человек задумался.
Молодая и прекрасная дама в необычном наряде в восемь часов вечера бегает по парижским улицам со шкатулкой в руках и спрашивает, где живет начальник полиции, хотя его особняк находится в другой стороне. Это показалось ему подозрительным.
— Черт возьми! Да ведь особняк начальника полиции совсем не здесь! — вскричал он.
— Где же он?
— В предместье Сен-Жермен.
— А как добраться до предместья Сен-Жермен?
— Это вон в той стороне, — отвечал молодой человек спокойно и по-прежнему вежливо. — Если угодно, первая же карета, которую мы встретим…
— Да, да, верно, карета, вы правы.
Молодой человек проводил Лоренцу на бульвар и, увидев фиакр, окликнул его.
Кучер подъехал.
— Куда вас отвезти, сударыня? — спросил он.
— К особняку господина де Сартина, — отвечал молодой человек.
Из вежливости, а может, из любопытства, он распахнул дверцу, поклонился Лоренце и, подав ей руку и усадив ее в карету, долго провожал ее взглядом, словно это было видение.
Испытывая глубокое уважение к страшному имени г-на де Сартина, кучер огрел лошадей хлыстом и покатил в указанном направлении.
Когда Лоренца проезжала через Королевскую площадь, Андре, погруженная в магнетический сон, увидела и услышала итальянку, и рассказала о ней Бальзамо.
Через двадцать минут Лоренца была у двери особняка.
— Вас подождать? — спросил кучер.
— Да, — машинально ответила Лоренца и порхнула под портал величественного особняка.
CXXIII
ОСОБНЯК ГОСПОДИНА ДЕ САРТИНА
Очутившись во дворе, Лоренца едва не затерялась в толпе полицейских и солдат.
Она обратилась к солдату французской гвардии, стоявшему к ней ближе других, и попросила проводить ее к начальнику полиции. Гвардеец передал ее швейцару, который, увидев, что дама хороша собой, довольно необычно выглядит, богато одета и держит в руках великолепную шкатулку, понял, что это не простая посетительница, и повел ее по огромной лестнице в приемную, откуда после бдительного досмотра того же швейцара посетитель мог в любое время дня и ночи пройти к г-ну де Сартину для дачи показаний, с доносом или жалобой.
Само собой разумеется, посетители двух первых категорий принимались значительно охотнее, чем податели жалоб.
Лоренца подверглась допросу судебного исполнителя, но на все вопросы отвечала одними и теми же словами:
— Вы господин де Сартин?
Судебный исполнитель был очень удивлен тем, что она могла его, в черной одежде и со стальной цепью, принять за начальника полиции, носившего расшитый камзол и пышный парик. Однако никогда ни один лейтенант не обижается, если его называют по ошибке капитаном; кроме того, он понял по ее акценту, что она иностранка; она смотрела твердо, уверенно и не была похожа на сумасшедшую; он был убежден, что посетительница принесла в шкатулке какие-то важные бумаги, судя по тому, как она сжимала ее под мышкой.
Впрочем, г-н де Сартин был человек осторожный и недоверчивый. Ему уже не раз пытались расставить ловушку с приманкой не менее лакомой, чем прекрасная итальянка; вот почему он был теперь окружен надежной охраной.
Лоренцу допрашивали со всею подозрительностью сразу шестеро секретарей и лакеев.
В результате всех этих вопросов и ответов ей было сказано, что г-н де Сартин еще не возвращался и что ей надо подождать.
Молодая женщина замолчала, блуждая взглядом по голым стенам просторной приемной.
Наконец зазвонил колокольчик, со двора донесся шум подъехавшей кареты, и другой лакей доложил Лоренце, что г-н де Сартин ее ожидает.
Лоренца встала и пошла за лакеем, минуя две комнаты, полные подозрительных людей, одетых еще более несуразно, чем она; ее ввели в огромный кабинет восьмиугольной формы, освещенный множеством свечей.
Господин лет пятидесяти пяти в шлафроке и необыкновенно пышном парике, тщательно завитом и сильно напудренном, сидел, склонившись над бумагами, за высоким столом, верхняя часть которого напоминала шкаф и была отгорожена двумя огромными зеркалами таким образом, что хозяин кабинета, не отрываясь от своего занятия, мог видеть входивших к нему посетителей и успевал изучить их лица раньше, чем те успевали составить свое мнение о начальнике полиции.
Нижняя часть этого подобия стола представляла собою скорее секретер; в глубине его располагались многочисленные выдвижные ящички розового дерева, замыкавшиеся с помощью комбинаций букв алфавита. Хранившиеся в них бумаги и шифры при жизни г-на де Сартина не мог прочесть ни один человек, потому что только хозяин мог отпереть стол, но едва ли кто-нибудь и после его смерти смог бы расшифровать эти бумаги: ключ к шифру хранился в одном из ящиков, еще более тщательно скрытом от чужих глаз.
В этом секретере, вернее, в шкафу, под зеркальной верхней частью было двенадцать одинаковых ящиков, запиравшихся при помощи невидимого механизма; секретер был сделан по специальному заказу регента для хранения химических и политических секретов; затем он был подарен его высочеством Дюбуа, а тот оставил его начальнику полиции Домбревалю. От него-то г-н де Сартин и унаследовал и секретер, и его тайны. Впрочем, г-н де Сартин стал пользоваться им только после смерти прежнего владельца, предварительно сменив замки. Об этом столе-секретере ходили разные слухи; поговаривали, что он слишком хорошо хранит тайны, и г-н де Сартин держит там не только парики.
Фрондеры — а их было немало в описываемое нами время — утверждали, что, если бы можно было читать сквозь стены этого огромного стола, в одном из его ящиков непременно обнаружились бы знаменитые договоры, из которых явствовало, что его величество Людовик XV спекулировал зерном при посредничестве своего преданного агента г-на де Сартина.
Итак, начальник полиции увидел в расположенных под углом друг к другу зеркалах бледное, строгое лицо Лоренцы, подходившей к нему со шкатулкой в руках.
Молодая женщина остановилось посреди кабинета. Ее костюм, лицо, походка поразили начальника полиции.
— Кто вы такая? — спросил он, не оборачиваясь, однако продолжая разглядывать ее в зеркале. — Что вам угодно?
— Я разговариваю с начальником полиции господином де Сартином? — спросила Лоренца.
— Да, — коротко ответил тот.
— Кто может это подтвердить?
Господин де Сартин обернулся.
— Поверите ли вы в то, что я именно тот человек, которого вы ищете, если я отправлю вас в тюрьму?
Лоренца молчала.
Она оглядывалась с непередаваемым чувством собственного достоинства, свойственным женщинам ее страны, в поисках кресла, которое г-н граф де Сартин словно бы забыл ей предложить.
Одного этого взгляда оказалось достаточно: г-н граф д’Альби де Сартин был воспитанным человеком.
— Садитесь! — бросил он.
Лоренца придвинула к себе кресло и села.
— Говорите скорее! — приказал начальник полиции. — Что вам угодно?
— Сударь! — отвечала женщина. — Я пришла просить у вас защиты.
Господин де Сартин окинул ее присущим ему насмешливым взглядом.
— Гм! — хмыкнул он.
— Сударь! — продолжала Лоренца. — Я была похищена у моей семьи. Один человек обманным путем женился на мне и вот уже три года притесняет меня и мучает.
Глядя в ее благородное лицо, г-н де Сартин почувствовал при звуке ее музыкального голоса волнение.
— Откуда вы родом? — спросил он.
— Я римлянка.
— Как вас зовут?
— Лоренца.
— Лоренца… как дальше?
— Лоренца Феличиани.
— Мне незнакома эта фамилия. Вы барышня?
"Барышня", как известно, означало в то время "девушка знатного происхождения". В наши дни женщина почитает себя знатной с той минуты, как выходит замуж, и тогда она всеми силами стремится к тому, чтобы ее называли "мадам".
— Да, — отвечала Лоренца.
— Ну и что же дальше? Чего вы просите?
— Я прошу рассудить меня с этим человеком; ведь он заточил меня в тюрьму, лишил свободы.
— Это меня не касается, — отвечал начальник полиции, — вы его жена.
— Так он, во всяком случае, говорит.
— То есть, как это — говорит?
— Да! Я этого не помню, бракосочетание совершалось, пока я спала.
— Черт побери! Крепкий же у вас сон!
— Как вы сказали?
— Я сказал, что это меня совершенно не касается; обратитесь к поверенному и судитесь, я не люблю вмешиваться в семейные дела.
Тут г-н де Сартин махнул рукой, что означало: "Убирайтесь вон".
Лоренца не пошевелилась.
— В чем дело? — с удивлением спросил г-н де Сартин.
— Это еще не все, — молвила она. — Вы должны были бы понять, что я пришла сюда совсем не для того, чтобы пожаловаться: я за себя отомщу! Вы уже знаете, откуда я родом; женщины моей страны мстят за себя, а не жалуются!
— Это совсем другое дело, — заметил г-н де Сартин. — Но только поскорее, прекрасная дама: мне время дорого.
— Я вам сказала, что пришла просить у вас защиты. Вы обещаете прийти мне на помощь?
— От кого я вас должен защищать?
— От человека, которому я собираюсь отомстить.
— Значит, это могущественный человек?
— Более могущественный, чем король.
— Объяснимся, дорогая госпожа… Чего ради я должен оказывать вам покровительство, защищая вас от человека, более могущественного, как вы полагаете, чем сам король, и беря на себя тем самым ответственность за преступление, которое вы, может быть, совершите? Если вам надо отомстить этому господину — мстите! Мне до этого дела нет. Вот если вы при этом совершите преступление, я прикажу вас арестовать. Ну а уж потом мы решим, как нам поступить. Таков порядок.
— Нет, сударь, — возразила Лоренца, — вам не придется меня арестовывать, потому что моя месть может принести немалую пользу и вам, и королю, и Франции. Я мщу за себя тем, что раскрываю секреты этого человека.
— Ага! Так у этого человека есть секреты? — невольно заинтересовался г-н де Сартин.
— И немалые, сударь.
— Какого рода?
— Политические.
— Говорите.
— Ответьте мне прежде: готовы ли вы взять меня под свое покровительство?
— Какого покровительства вы желаете? — холодно улыбаясь, спросил г-н де Сартин. — Денег или любви?
— Я прошу отправить меня в монастырь, где я могла бы заживо себя похоронить. Я прошу, чтобы этот монастырь стал мне могилой, но такой могилой, которую никто в целом свете не мог бы открыть.
— Ну, это не Бог весть какая просьба. Монастырь я вам обещаю. Говорите.
— Так вы даете слово?
— Думаю, я вам его уже дал.
— В таком случае возьмите эту шкатулку, — предложила Лоренца. — В ней заключены такие тайны, которые заставят вас трепетать за безопасность короля и всего королевства.
— А вы сами знаете, что это за тайны?
— Я знаю только, что они существуют.
— И что же, это важные тайны?
— Ужасные.
— Вы говорите, политические тайны?
— Разве вам никогда не приходилось слышать о существовании тайного общества?
— A-а! Масонов?
— Общества "невидимых"!
— Да, но я не верю в его существование.
— Стоит вам открыть эту шкатулку, и вы в него поверите.
— Ну что же! — с живостью воскликнул г-н де Сартин. — Посмотрим!
Он принял шкатулку из рук Лоренцы.
Однако, немного подумав, он поставил ее на стол.
— Нет, — сказал он, подозрительно посмотрев на нее, — открывайте шкатулку сами.
— У меня нет ключа.
— Как это у вас нет ключа? Вы мне приносите шкатулку, от которой зависит спокойствие целого королевства, и говорите, что забыли ключ!
— Разве так уж трудно открыть замок?
— Не трудно, когда знаешь его секрет.
Минуту спустя он продолжал:
— У нас здесь есть ключи от всех замков; сейчас вам принесут связку, — он пристально взглянул на Лоренцу, — и вы будете открывать сами.
— Хорошо, — просто отвечала Лоренца.
Господин де Сартин протянул молодой женщине ключики самой разной формы.
Она взяла связку в руки.
Господин де Сартин коснулся ее руки: она была холодна, словно выточена из мрамора.
— Почему же вы не принесли ключа от шкатулки? — спросил он.
— Потому что его хозяин никогда с ним не расстается.
— А хозяин шкатулки — тот самый господин, более могущественный, чем король, не так ли?
— Кто он — не может сказать никто. Сколько времени он живет на свете — знает только вечность. Что он творит — одному Богу известно.
— Его имя? Имя!
— На моей памяти имя он менял раз десять.
— Назовите то, под которым он вам известен.
— Ашарат.
— А живет он…
— На улице Сен…
Вдруг Лоренца вздрогнула, выронила из рук шкатулку и ключи; она попыталась ответить, но рот ее перекосился в конвульсиях; она прижала руки к груди, как будто готовые вырваться оттуда слова ее душили; затем она подняла дрожащие руки, не имея сил вымолвить ни единого слова, и рухнула на ковер.
— Бедняжка! — прошептал г-н де Сартин. — Что это с ней? А она чертовски хороша собой. Да, это мщение смахивает на ревность!
Он позвонил и сам стал поднимать молодую женщину; в ее глазах застыло удивление, губы были неподвижны; казалось, она уже умерла и не принадлежит больше этому миру.
Вошли два лакея.
— Отнесите эту юную особу в соседнюю комнату, да поосторожнее! — приказал начальник полиции. — Постарайтесь привести ее в чувство. Но не переусердствуйте! Ступайте.
Лакеи послушно унесли Лоренцу.
Назад: СХ ЗА КУЛИСАМИ ТРИАНОНА
Дальше: ЧАСТЬ ПЯТАЯ