Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 19.Джузеппе Бальзамо. Часть 4,5
Назад: ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Дальше: CV ТЕЛО И ДУША
XCVI
ПАРЛАМЕНТЫ
Пока мелкие интрижки зрели и распускались под тополями и среди цветов Трианона, оживляя в этом тесном мирке существование букашек вроде Николь и Жильбера, в городе начиналась настоящая буря, нависшая над дворцом Фемиды, как образно выражался Жан Дюбарри в письме к сестре.
Парламенты, выродившиеся остатки былой французской оппозиции, вздохнули свободнее, когда к власти пришел капризный Людовик XV. Однако с тех пор, как пал покровитель парламента г-н де Шуазёль, члены парламента почувствовали надвигавщуюся опасность и приготовились, насколько позволят обстоятельства, предотвратить ее самым решительным образом.
Всякое большое потрясение начинается с малого, так же как великие сражения начинаются с отдельных выстрелов.
С той поры как г-н де Ла Шалоте взялся за г-на д’Эгильона, в этой схватке олицетворялась борьба третьего сословия с феодалами, а общественное мнение, уверовав, что так оно и есть, не потерпело бы подмены этого вопроса другим.
Парламенты Бретани и остальной Франции обрушили на короля целый поток представлений, правда более или менее почтительных и смиренных. Однако Людовик XV, по просьбе г-жи Дюбарри назначил г-на д’Эгильона командиром шеволежеров и тем самым в борьбе с третьим сословием поддержал феодальную партию.
Жан Дюбарри дал этому шагу точное определение: эго была увесистая пощечина возлюбленным и верным советникам, заседавшим в парламенте.
Как будет принята эта пощечина? Вот какой вопрос обсуждался и при дворе и в городе с раннего утра до позднего вечера.
Члены парламента — ловкие господа: где другие испытывают затруднение, там они чувствуют себя свободно.
Они начали с того, что уговорились между собой, как им следует относиться к полученному оскорблению и какие оно может иметь последствия. Единодушно посчитав, что оскорбление было нанесено и достигло цели, они ответили на него следующим решением:
«Палата парламента обсудит поведение бывшего губернатора Бретани и выразит свое суждение».
Однако король отразил удар, запретив пэрам и принцам отправиться во Дворец правосудия для участия в прениях, касавшихся д’Эгильона; те беспрекословно подчинились.
Тогда парламент, решивший обойтись собственными силами, объявил, что против герцога д’Эгильона выдвигаются серьезные обвинения, что он подозревается в совершении преступлений, могущих запятнать его честь, а потому он временно лишается звания пэра до тех пор, пока собрание пэров не вынесет решение по всей форме и в полном соответствии с законом и королевским указом, не требующим никаких поправок, и пока с г-на д’Эгильона не будут сняты все обвинения и подозрения, порочащие его имя.
Однако такое решение ничего не значило, будучи только провозглашенным на заседании парламента и внесенным в его регистры: необходимо было его обнародовать, сделать достоянием гласности. Нужен был скандал, который во Франции способна была вызвать песенка: куплет приобретал власть над событиями и людьми. Необходимо было сделать обвинение достоянием всемогущего куплета.
Парижу только и надо было скандала. Мало расположенный по отношению к двору, равно как и к парламенту, город находился в постоянном возбуждении и ожидал лишь подходящего повода для смеха, чтобы потом перейти к слезам, причины для которых не иссякали вот уже лет сто.
Итак, решение было вынесено. Парламент назначил уполномоченных, лично отвечавших за распространение этого решения; оно было отпечатано в десяти тысячах экземпляров, разошедшихся в одно мгновение.
Так как надлежало уведомить главное заинтересованное лицо о том, что с ним сделала палата, те же уполномоченные отправились к г-ну герцогу д’Эгильону в его особняк, куда он только что прибыл для неотложного свидания.
Ему необходимо было откровенно объясниться со своим дядюшкой.
Благодаря Рафте весь Версаль одновременно узнал о благородном сопротивлении старого герцога королевскому приказу касательно портфеля г-на де Шуазёля. Вслед за Версалем эта новость облетела Париж, а потом и всю Францию. Таким образом, г-н де Ришелье с некоторых пор был вознесен на щите популярности и с высоты своего нового положения строил политические гримасы г-же Дюбарри и своему дорогому племяннику.
У д’Эгильона, по-прежнему не пользовавшегося популярностью, положение было незавидное. А маршал, хотя его и ненавидели в народе, вызывал трепет, будучи живым воплощением аристократии, что особенно почиталось при Людовике XV. Маршал отличался непостоянством; едва примкнув к какой-либо партии, он сейчас же изменял ей без зазрения совести, как только того требовали обстоятельства или просто ради забавы. Одним словом, Ришелье был ненавистником постоянства.
Поэтому он был опасным противником, и хуже всего для врагов маршала было то, что он сам называл сюрпризами.
Со времени встречи с г-жой Дюбарри в броне герцога д’Эгильона появилось два слабых места. Догадываясь, что Ришелье скрывает озлобление и жажду мести за внешним спокойствием, он совершил то, что следовало бы предпринять лишь в том случае, если бы буря уже разразилась: уверенный в том, что потери будут меньше, если смело взяться за дело, он решил нанести удар.
Итак, он стал всюду искать встречи со своим дядюшкой для важного разговора. Однако это оказалось невозможным с тех пор, как маршал пронюхал о его намерении.
Начались бесконечные уловки: стоило маршалу завидеть своего племянника, он издалека посылал ему улыбку и тотчас окружал себя такими людьми, в чьем присутствии говорить было совершенно немыслимо. Так он избегал своего врага, словно прячась от него в неприступной крепости.
Герцог д’Эгильон пошел напролом. Он отправился к дядюшке в его версальский особняк. Однако у небольшого окошка, выходившего во двор, дежурил Рафте. Он узнал лакеев герцога и предупредил хозяина.
Герцог дошел до спальни маршала, нашел там Рафте, и тот, улыбаясь, под большим секретом сообщил племяннику, что дядюшка не ночевал дома.
Господин д’Эгильон прикусил губу и удалился.
Вернувшись к себе, он написал маршалу письмо с просьбой его принять.
Маршал не мог оставить письмо без ответа. Не мог он также в случае ответа отказать в аудиенции. А если он согласится принять д’Эгильона, то как уйти от объяснения? Д’Эгильон напоминал вежливого, любезного бретёра, который скрывает дурные намерения под изысканной вежливостью, с поклонами выводит врага на место дуэли и там безжалостно перерезает ему горло.
Маршал был не настолько самоуверен, чтобы обольщаться на его счет, он знал силу своего племянника. Столкнувшись с ним лицом к лицу, этот противник способен был вырвать у него либо прощение, либо уступку. Однако Ришелье никогда ничего не прощал, ведь уступки врагу — чудовищная политическая ошибка.
Вот почему, получив письмо д’Эгильона, он объявил, что на несколько дней уезжает из Парижа.
Рафте, у которого он спросил совета, сказал ему следующее:
— Мы по пути к тому, чтобы уничтожить господина д’Эгильона. Наши друзья в парламенте этим занимаются. Если господину д’Эгильону, который об этом подозревает, удастся напасть на вас раньше, чем разразится скандал, он вырвет у вас обещание помочь ему в случае несчастья: как бы вы ни были злопамятны, вы не можете открыто пренебречь интересами семьи. Если же вы ему откажете, господин д’Эгильон уйдет, назвав вас своим врагом, и припишет вам все свои неприятности. Он почувствует облегчение, как бывает всякий раз, когда найдена причина болезни, даже если болезнь неизлечима.
— Совершенно верно, — согласился Ришелье. — Однако я не могу скрываться вечно. Сколько еще ждать скандала?
— Шесть дней, монсеньер.
— Это точно?
Рафте вынул из кармана письмо от советника парламента. Оно состояло всего из трех строк:
«Принято решение о вынесении приговора. Это произойдет в четверг — в крайний срок, назначенный собранием».
— В таком случае нет ничего проще, — заметил маршал. — Отошли герцогу назад его письмо, сопроводив его запиской:
«Господин герцог!
Сообщаю Вам о том, что господин маршал уехал в ***. Доктор господина маршала настоятельно советовал ему сменить обстановку. Он находит, что господин маршал очень утомлен. Если, судя по тому, что я имел честь услышать от Вас третьего дня, Вы желаете переговорить с господином маршалом, я могу Вас заверить, что в четверг вечером герцог, вернувшись из ***, будет ночевать в своем парижском особняке. Вы сможете его там застать».
— А теперь, — прибавил маршал, — спрячь меня где-нибудь до четверга.
Рафте в точности исполнил все указания. Записка была отправлена, укромное место найдено. Но изнывающий от скуки герцог де Ришелье однажды вечером отправился в Трианон поговорить с Николь. Он ничем не рисковал или полагал, что ничем не рискует, так как знал, что г-н д’Эгильон находится в замке Люсьенн.
Таким образом, если бы даже г-н д’Эгильон и заподозрил неладное, он все равно не мог бы предотвратить угрожавший ему удар, потому что не мог скрестить с противником шпаги.
Встреча в четверг была вполне ему по душе. В этот день он покинул Версаль в надежде наконец встретиться и сразиться с неуловимым дядюшкой.
Как мы уже говорили, в этот день парламент вынес свое решение.
В городе постепенно начиналось брожение, так хорошо знакомое любому парижанину, безошибочно определяющему высоту волны.
На карету д’Эгильона, следовавшую по парижским улицам, не обратили внимания: он из осторожности ехал в экипаже без гербов в сопровождении двух доверенных слуг, словно следовал на свидание.
Он видел то здесь, то там обеспокоенных людей, передававших друг другу лист бумаги; они читали его, отчаянно размахивая руками, собирались группками, подобно муравьям, сползающимся на оброненный кусок сахару. Впрочем, это было время безобидных волнений: народ точно так же собирался, обсуждал цены на хлеб, статью в «Голландской газете», четверостишие Вольтера или песенку против Дюбарри или г-на Мопу.
Господин д’Эгильон направился прямо к г-ну Ришелье, где застал только Рафте.
— Мы ожидаем господина маршала с минуты на минуту, — сообщил Рафте. — Он, вероятно, задерживается из-за перемены лошадей у городской заставы.
Д’Эгильон решил подождать маршала, выразив неудовольствие Рафте, потому что принял его извинение как свое новое поражение.
Еще большее неудовольствие вызвал у него ответ Рафте. Секретарь сообщил, что маршал будет в отчаянии, когда вернется и узнает, что д’Эгильона заставили ждать. Кроме того, должно быть, он не станет ночевать в Париже, как было условлено первоначально; несомненно, он вернется из загородной поездки не один и лишь заедет в парижский особняк за новостями. Поэтому герцогу д’Эгильону лучше было бы вернуться к себе, куда маршал непременно заглянет по дороге.
— Послушайте, Рафте! — обратился к нему д’Эгильон, выслушав путаные объяснения секретаря с мрачным видом. — Вы совесть моего дядюшки. Ответьте мне как честный человек. Меня обманули, ведь правда? Господин маршал не желает меня видеть? Не перебивайте меня, Рафте! У вас часто находился для меня хороший совет, и я был для вас тем, чем могу еще быть в будущем: добрым другом. Следует ли мне возвратиться в Версаль?
— Господин герцог! Клянусь честью, вы сможете меньше чем через час принять господина маршала у себя.
— Но тогда мне лучше подождать его здесь, раз герцог все-таки приедет.
— Я имел честь доложить вам, что герцог, возможно, прибудет не один.
— Понимаю… и полагаюсь на ваше слово, Рафте.
С этими словами герцог вышел с задумчивым видом, однако не теряя достоинства и любезного выражения, чего нельзя сказать о маршале, появившемся из-за застекленной двери кабинета после отъезда племянника.
Улыбавшийся маршал напоминал злого демона из тех, какими Калло населил свои «Искушения».
— Он ни о чем не догадывается, Рафте? — спросил Ришелье.
— Ни о чем, монсеньер.
— Который теперь час?
— Время не имеет значения, монсеньер. Надо ждать, пока прибудет наш маленький прокурор из Шатле. Уполномоченные находятся пока в типографии.
Не успел Рафте договорить, как лакей ввел через потайную дверь грязного человечка, некрасивого, чумазого, одного из тех ловких судейских крючков, к которым г-н Дюбарри испытывал сильнейшую неприязнь.
Рафте подтолкнул маршала к кабинету, а сам с улыбкой пошел навстречу этому господину.
— A-а, это вы, метр Флажо! — проговорил он. — Очень рад вас видеть.
— Ваш покорный слуга, господин де Рафте! Ну что ж, дело сделано!
— Все отпечатано?
— Пять тысяч уже готово. Первые экземпляры ходят по рукам, другие сохнут.
— Какое несчастье! Дорогой господин Флажо! Какое отчаяние постигнет семейство господина маршала!
Избегая ответа, потому что ему не хотелось лицемерить, г-н Флажо достал из кармана большую серебряную табакерку и, не торопясь, взял щепотку испанского табаку.
— Что же дальше? — продолжал Рафте.
— Остались формальности, дорогой господин де Рафте. Когда господа уполномоченные будут уверены, что достаточное количество экземпляров отпечатано и распространено, они сядут в ожидающую их у дверей типографии карету и отправятся для объявления решения к господину герцогу д’Эгильону, который, к счастью, — ах, простите, к несчастью, господин Рафте! — находится сейчас в своем парижском особняке, где они смогут с ним переговорить.
Рафте сделал резкое движение, достал со шкафа огромный мешок с бумагами по судопроизводству и передал его метру Флажо:
— Вот бумаги, о которых я вам говорил, сударь. Господин маршал всецело вам доверяет и поручает вам это дело, обещающее выгоду. Благодарю вас за услуги в прискорбном столкновении господина д’Эгильона с всемогущим парижским парламентом. Благодарю за ваши мудрые советы.
И он легко, но с некоторой торопливостью подтолкнул к двери в приемную метра Флажо, довольного только что полученным пухлым досье. Затем Рафте тотчас освободил маршала из заточения.
— А теперь, монсеньер, садитесь в карету! Вам не стоит терять времени, если вы желаете стать свидетелем представления. Постарайтесь, чтобы ваши лошади опередили лошадей господ уполномоченных.
XCVII
ГЛАВА, ИЗ КОТОРОЙ ЯВСТВУЕТ,
ЧТО ПУТЬ К МИНИСТЕРСКОМУ ПОРТФЕЛЮ ОТНЮДЬ НЕ УСЫПАН РОЗАМИ
Лошади г-на де Ришелье опередили лошадей господ уполномоченных: маршал первым въехал во двор особняка д’Эгильона.
Герцог уже не ждал дядюшку и собирался уехать в Люсьенн, чтобы сообщить графине Дюбарри, что враг сбросил маску. Но, когда швейцар доложил о прибывшем маршале, в его оцепеневшей душе проснулась надежда.
Герцог бросился навстречу дядюшке и взял его за руки с выражением нежности, равной пережитому им страху.
Маршал поддался волнению герцога: картина была трогательной. Однако чувствовалось, что г-н д’Эгильон спешил с объяснениями, в то время как маршал изо всех сил их оттягивал, то рассматривая картину, то любуясь бронзовой статуэткой или гобеленом, жалуясь при этом на смертельную усталость.
Герцог отрезал дядюшке пути к отступлению, загнав его в кресло, как г-н де Виллар запер принца Евгения в Маршьенне, чтобы атаковать его.
— Дядюшка! — сказал он. — Неужели вы, умнейший человек Франции, могли подумать обо мне так дурно и не поверили, что если я способен на эгоистический поступок, то только в наших общих с вами интересах?
Отступать было некуда. Ришелье был вынужден высказаться.
— О чем ты говоришь? — возразил он. — И с чего ты взял, что я думаю о тебе хорошо или дурно, дорогой мой?
— Дядюшка, вы на меня сердитесь.
— Я? Да за что?
— К чему эти уловки, господин маршал? Избегаете меня, когда вы так мне нужны! Вот и все.
— Клянусь вам, я ничего не понимаю.
— Сейчас я вам все объясню. Король не пожелал назначить вас министром, и, раз я согласился принять на себя командование шеволежерами, вы предполагаете, что я вас покинул, предал. Дорогая графиня питает к вам нежные чувства…
Ришелье насторожился, но не только от того, что услышал от племянника.
— Так ты говоришь, что дорогая графиня питает ко мне нежные чувства? — повторил он.
— Я могу это доказать.
— Я не спорю, дорогой мой… Я и взял тебя тогда с собой, 3-381 чтобы помочь выдвинуться. Ты моложе и, стало быть, сильнее; ты преуспеваешь — я терплю неудачу; это в порядке вещей, и, могу поклясться, я не понимаю, почему тебя мучают угрызения совести; если ты действовал в моих интересах, ты сто раз это уже доказал; если ты действовал против, что ж… я отвечу тебе тем же… Так нужны ли нам объяснения?
— Дядюшка! По правде говоря…
— Ты просто младенец, герцог. У тебя прекрасное положение: пэр Франции, герцог, командующий королевскими шеволежерами, через полтора месяца будешь министром — ты должен быть выше всяких мелочей; победителей не судят, дорогой мой. Вообрази… я очень люблю притчи… вообрази, что мы с тобой — два мула из басни… Однако что там за шум?
— Вам показалось, дядюшка. Продолжайте!
— Да нет же, я слышу, что во двор въехала карета.
— Дядюшка, не прерывайтесь, прошу вас! Ваш рассказ меня чрезвычайно интересует, я тоже люблю притчи.
— Так вот, дорогой мой, я хотел тебе сказать, что, пока ты процветаешь, никто не посмеет ни в чем тебя упрекнуть; тебе не нужно опасаться завистников. Однако стоит тебе оступиться, споткнуться, и… Ах, черт возьми, вот тут-то и берегись нападения волка! Стой! А ведь я был прав, в твоей приемной — шум, тебе, вероятно, привезли портфель… Графиня, должно быть, славно потрудилась для тебя в алькове.
Вошел лакей.
— Господа уполномоченные парламента! — в беспокойстве объявил он.
— Вот тебе раз! — воскликнул Ришелье.
— Что здесь нужно уполномоченным парламента? — спросил герцог, ничуть не ободренный улыбкой дядюшки.
— Именем короля! — раздался звонкий и громкий незнакомый голос в тишине приемной.
— Ого! — вскричал Ришелье.
Бледный г-н д’Эгильон пошел к порогу гостиной навстречу двум уполномоченным, за ними показались двое невозмутимых судебных исполнителей, а за ними на некотором расстоянии — целая толпа перепуганных лакеев.
— Что вам угодно? — спросил взволнованный герцог.
— Мы имеем честь говорить с господином герцогом д’Эгильоном? — спросил один из уполномоченных.
— Да, господа, я герцог д’Эгильон.
В ту же секунду уполномоченный с низким поклоном достал из-за пояса составленную по всей форме бумагу и прочел громко и отчетливо.
Это было обстоятельное решение, подробное, полное; в нем выдвигались тяжелые обвинения против герцога д’Эгильона и выражались подозрения в преступлениях, затрагивавших его честь; исполнение герцогом обязанностей пэра королевства приостанавливалось.
Герцог слушал это постановление как громом пораженный. Он стоял не шевелясь, подобно статуе, застывшей на пьедестале, и даже не протянул руки, чтобы взять у уполномоченного копию решения.
Бумагу взял маршал. Он выслушал постановление также стоя, однако выглядел бодро и был оживлен. Прочтя документ, он поклонился господам уполномоченным.
Они уже давно ушли, а герцог по-прежнему находился в оцепенении.
— Тяжелый удар! — проговорил Ришелье. — Ты больше не пэр Франции — это унизительно.
Герцог повернулся к дяде с таким видом, словно только сейчас к нему вернулась жизнь вместе со способностью мыслить.
— Ты этого не ожидал? — удивился Ришелье.
— А вы, дядюшка? — спросил д’Эгильон.
— Как я мог предвидеть, что парламент нанесет такой страшный удар любимцу короля и фаворитки?.. Эти господа рискуют головой.
Герцог сел, прижав руку к пылавшей щеке.
— Только вот если парламент лишает тебя звания пэра в ответ на назначение командующим шеволежерами, — продолжал старый маршал, вонзая кинжал в открытую рану, — то он приговорит тебя к заключению и сожжению на костре в тот день, когда ты будешь назначен министром. Эти господа тебя ненавидят, д’Эгильон, остерегайся их.
Герцог героически перенес эту отвратительную насмешку: несчастье его возвышало, оно очищало душу.
Ришелье принял его стойкость за бесчувственность, даже за тупость; он подумал, что его уколы слишком слабы.
— Не будучи пэром, — продолжал он, — ты перестанешь быть бельмом на глазу у этих судейских крючков… Уйди на несколько лет в неизвестность. Кстати, видишь ли, неизвестность — это твое спасение, оно придет к тебе так, что ты и не заметишь этого. Будучи лишен звания пэра, ты почувствуешь, что тебе труднее стать министром, это выбьет тебя из седла. Впрочем, если ты хочешь бороться, друг мой, что ж, у тебя в распоряжении графиня Дюбарри; она питает к тебе нежные чувства, а это надежная опора.
Господин д’Эгильон встал. Он даже не удостоил маршала злобного взгляда в ответ на те страдания, которые старик только что заставил его вынести.
— Вы правы, дядюшка, — спокойно отвечал он, — ив последнем вашем совете чувствуется мудрость. Графиня Дюбарри, которой вы любезно меня представили, к кому советуете мне обратиться и которой вы сказали обо мне столько хорошего и так горячо, что любой в Люсьенне может это подтвердить, графиня Дюбарри меня защитит. Слава Богу, она меня любит, она смелая, имеет влияние на его величество. Благодарю вас, дядюшка, за совет, я укроюсь там, как в спасительном порту во время бури. Лошадей! Бургиньон, в Люсьенн!
На губах маршала застыла улыбка.
Господин д’Эгильон почтительно поклонился дядюшке и вышел из гостиной, оставив маршала сильно озадаченным, больше того — в смущении от того, с каким озлоблением он вцепился в благородную и живую плоть.
Старый маршал почувствовал некоторое утешение, видя безумную радость парижан, когда вечером они читали на улице десять тысяч экземпляров постановления, вырывая его друг у друга из рук. Однако он не мог сдержать вздоха, когда Рафте спросил у него отчет о вечере.
Маршал рассказал ему все, ничего не утаив.
— Значит, удар отражен? — спросил секретарь.
— И да и нет, Рафте; рана оказалась несмертельной; но у нас есть в Трианоне кое-что получше, и я сожалею, что не посвятил себя этому целиком. Мы гнались за двумя зайцами, Рафте… Это безумие…
— Почему же, если поймать лучшего? — возразил Рафте.
— Ах, дорогой мой, вспомни, что лучший всегда тот, который убежал, а ради того, чего у нас нет, мы готовы пожертвовать другим, то есть тем, что держишь в руках.
Рафте пожал плечами, хотя герцог был недалек от истины.
— Вы полагаете, — спросил он, — что господин д’Эгильон выйдет из этого положения?
— А ты полагаешь, что король из него выйдет, болван?
— О! Король всюду отыщет лазейку, но речь идет не о короле, насколько я понимаю.
— Где пройдет король, там пройдет и графиня Дюбарри, ведь она держится поблизости от короля… А где пройдет Дюбарри, там пройдет и д’Эгильон… Да ты ничего не смыслишь в политике, Рафте!
— А вот метр Флажо другого мнения, монсеньер.
— Ну, хорошо! И что же говорит метр Флажо? Да и что он сам за птица?
— Он прокурор, ваша светлость.
— Что же дальше?
— А то, что господин Флажо утверждает, будто король не выпутается.
— Ого! Что может помешать льву?
— По-моему, крыса, монсеньер!..
— А крыса — это метр Флажо?
— Он так говорит.
— И ты ему веришь?
— Я всегда готов поверить прокурору, который обещает напакостить.
— Посмотрим, что может сделать метр Флажо.
— Посмотрим, ваша светлость.
— Иди ужинать, а я пойду лягу… Я совершенно потрясен тем, что мой племянник больше не пэр Франции и не станет министром. Дядя я ему или нет, Рафте?
Герцог де Ришелье повздыхал, а потом рассмеялся.
— У вас есть все, чтобы стать министром, — заметил Рафте.
XCVIII
ГЕРЦОГ Д’ЭГИЛЬОН ОТЫГРЫВАЕТСЯ
На следующий день после того, как Париж и Версаль были потрясены новостью о грозном решении парламента, когда все только и ждали, что же последует за постановлением, герцог де Ришелье отправился в Версаль и продолжал там вести привычный образ жизни. Рафте вошел к нему с письмом в руке. Секретарь обнюхивал и взвешивал на руке конверт с беспокойством, которое немедленно передалось хозяину.
— Что там еще, Рафте? — спросил маршал.
— Что-то малоприятное, как мне представляется, ваша светлость, и заключено оно вот здесь, внутри.
— Почему ты так думаешь?
— Потому что это письмо от герцога д’Эгильона.
— Ага! От моего племянника? — спросил герцог.
— Да, господин маршал. Выйдя из кабинета короля, где заседал совет, лакей подошел ко мне и передал это письмо. И вот я так и этак верчу его уже минут десять и никак не могу отделаться от мысли, что в нем какая-то дурная новость.
Герцог протянул руку.
— Дай сюда! — приказал он. — Я храбрый!
— Должен вас предупредить, — остановил его Рафте, — что, передавая эту бумагу, лакей хохотал до упаду.
— Дьявольщина! Вот это действительно настораживает… Все равно давай! — сказал маршал.
— Он еще прибавил: «Господин герцог д’Эгильон советует господину маршалу прочесть это послание незамедлительно».
— Боль, ты не заставишь меня сказать, что ты зло! — вскричал старый маршал, твердой рукой сломав печать.
Он прочел письмо.
— Эге!.. Вы изменились в лице, — проговорил Рафте, заложив руки за спину и наблюдая за герцогом.
— Неужели это возможно? — пробормотал Ришелье, продолжая читать.
— Кажется, это серьезно?
— А ты доволен?
— Разумеется, я вижу, что не ошибся.
Маршал перечитал письмо.
— Король добр, — заметил он через мгновение.
— Он назначил господина д’Эгильона министром?
— Еще лучше!
— Ого! Так что же?
— Прочти и скажи свое мнение.
Рафте в свою очередь стал читать письмо. Оно было написано рукой герцога д’Эгильона и содержало в себе следующее:
«Дорогой дядюшка!
Ваш добрый совет принес свои плоды: я рассказал о своих неприятностях дорогому другу нашего дома, госпоже графине Дюбарри, а она довела их до сведения его величества. Король возмутился насилием, учиненным господами из парламента надо мной, человеком, честно исполнявшим свой долг. Сегодня же его величество отменил решение парламента и предписал мне продолжать носить звание пэра Франции.
Дорогой дядюшка! Зная, какое удовольствие Вам доставит эта новость, посылаю Вам снятую секретарем копию решения его величества, принятого на сегодняшнем совете. Вы узнаёте о нем раньше всех.
Примите уверения в моем искреннем уважении, дорогой дядюшка; надеюсь, что Вы не оставите меня и в будущем, оказывая милости и подавая мудрые советы.
Подписано: герцог д'Эгилъон».
— Он, помимо всего прочего, еще и смеется надо мной! — вскричал Ришелье.
— Клянусь честью, вы правы, монсеньер.
— Король, сам король влез в это осиное гнездо!
— А вы еще вчера не хотели в это поверить.
— Я не говорил, что он туда не полезет, господин Рафте, я сказал, что он выпутается… И вот, как видишь, он выпутался.
— Да, парламент проиграл.
— И я вместе с ним.
— Сейчас — да.
— Навсегда! Я еще вчера это предчувствовал, а ты меня утешал, как будто никаких неприятностей вообще не могло произойти.
— Монсеньер! Как мне представляется, вы слишком рано отчаиваетесь.
— Господин Рафте, вы глупец! Я проиграл и заплачу за это. Вы, может быть, не понимаете, как мне неприятно быть посмешищем в замке Люсьенн. В эту самую минуту герцог смеется надо мной в объятиях графини Дюбарри. Мадемуазель Шон и господин Жан Дюбарри тоже зубоскалят по моему адресу. Негритенок лопает конфеты и подшучивает надо мной. Черт побери! Я человек добрый, но все это приводит меня в бешенство!
— В бешенство, монсеньер?
— Да, именно в бешенство!
— В таком случае, не надо было делать того, что вы сделали, — глубокомысленно заметил Рафте.
— Вы сами меня на это толкнули, господин секретарь.
— Я?
— Вы.
— А мне-то что за дело, будет герцог д’Эгильон пэром Франции или не будет? Я вас спрашиваю, монсеньер? Мне как будто не за что обижаться на вашего племянника.
— Господин Рафте! Вы наглец!
— Я уже сорок девять лет от вас это слышу, монсеньер.
— И еще услышите.
— Только не сорок девять лет, вот что меня утешает.
— Вот как вы отстаиваете мои интересы, Рафте!
— Интересы, побужденные вашими мелкими страстями, я не отстаиваю никогда, господин герцог… Как бы вы ни были умны, вам иногда случается делать глупости, которые я не простил бы даже такому болвану, как я.
— Объяснитесь, господин Рафте, и если я пойму, что не прав, то признаю свою ошибку.
— Вчера вам захотелось отомстить, ведь правда? Вы пожелали увидеть унижение вашего племянника. Вы захотели в некотором смысле сами вынести решение парламента по его делу и насладиться зрелищем агонизирующей жертвы, как сказал бы Кребийон-сын. Ну что же, господин маршал, такие зрелища, такие удовольствия дорого стоят… Вы богаты, так платите, господин маршал, платите!
— Что бы вы предприняли на моем месте, господин мыслитель? Ну?
— Ничего… Я стал бы ждать, не подавая признаков жизни. Но вам не терпелось настроить парламент против графини Дюбарри с той минуты, как Дюбарри предпочла вам более молодого д’Эгильона.
Вместо ответа маршал проворчал что-то себе под нос.
— И парламент, — продолжал Рафте, — сделал то, что вы ему подсказали. Когда его определение было обнародовано, вы предложили свои услуги ничего не подозревавшему племяннику.
— Все это прекрасно, и я готов согласиться, что был не прав. Однако вы должны были меня предупредить…
— Чтобы я помешал совершить зло?.. Вы меня принимаете за кого-то другого, господин маршал. Вы каждому встречному повторяете, что создали меня по своему образу и подобию, что вы меня выдрессировали; вы хотите, чтобы я не приходил в восторг из-за того, что кто-то делает глупость или что с кем-то случается несчастье?..
— Так несчастье должно случиться, господин колдун?
— Несомненно.
— Какое?
— Вы заупрямитесь, а герцогу д’Эгильону тем временем удастся помирить парламент с графиней Дюбарри. В этот день он станет министром, а вы отправитесь в изгнание… или в Бастилию.
От возмущения маршал просыпал на ковер все содержимое своей табакерки.
— В Бастилию? — переспросил он, пожав плечами. — Разве мы живем при Людовике Четырнадцатом, а не при Людовике Пятнадцатом?
— Нет! Однако графиня Дюбарри вдвоем с герцогом д’Эгильоном стоят госпожи де Ментенон. Берегитесь! Я не знаю сегодня ни одной принцессы крови, которая бы стала приносить вам в тюрьму конфеты и гусиную печенку.
— Вот так предсказания! — заметил маршал после долгого молчания. — Вы читаете в книге будущего, ну а что в настоящем?
— Господин маршал слишком мудр, чтобы ему советовать.
— Скажи-ка, господин шут, уж не собираешься ли и ты надо мной посмеяться?..
— Осторожно, господин маршал, не забывайте о возрасте; нельзя так называть человека, которому перевалило за сорок, а мне ведь уже шестьдесят семь лет.
— Ну, это пустяки… Помоги мне выйти из этого положения и… скорее, скорее!..
— Помочь советом?
— Чем хочешь.
— Еще не время.
— Ты определенно шутишь?
— Боже сохрани!.. Если бы я хотел пошутить, я выбрал бы для этого другое время. К несчастью, теперь не до шуток.
— Что означает это поражение? Оно подоспело не вовремя?
— Да, ваша светлость, не вовремя. Если весть об отмене приговора дошла до Парижа, я не отвечаю за… Может быть, послать курьера к президенту д’Алигру?
— Чтобы над нами посмеялись еще раньше?..
— При чем здесь самолюбие, господин маршал? Тут бы и святой потерял голову… Послушайте! Позвольте мне закончить мой план высадки войск в Англии, а сами постарайтесь выкарабкаться из этой интриги, связанной с портфелем, потому что половина дела уже сделана.
Маршал знал, что временами Рафте бывал не в духе. Он знал, что, когда его секретарь впадал в меланхолию, его лучше было не раздражать.
— Ну, не сердись на меня, — сказал он. — Если я чего-нибудь не понимаю, объясни мне.
— Значит, монсеньер желает, чтобы я набросал приблизительный план поведения?
— Вот именно, раз ты утверждаешь, что я не умею себя вести.
— Ну что ж, пусть будет так! Слушайте!
— Слушаю.
— Вы должны послать господину д’Алигру, — ворчливо начал Рафте, — письмо герцога д’Эгильона, присовокупив копию решения об отмене приговора, принятого королем на совете. Дождитесь, пока парламент соберется для обсуждения и примет решение — это произойдет очень скоро. Тогда садитесь в карету и поезжайте с визитом к вашему поверенному, метру Флажо.
— Как? — вскричал Ришелье; это имя заставило его подпрыгнуть, как и накануне. — Опять господин Флажо! Какое метру Флажо до всего этого дело и какого черта я поеду к метру Флажо?
— Как я имел честь сообщить вашей светлости, метр Флажо — ваш поверенный.
— Ну и что же?
— Раз он ваш поверенный, у него ваши бумаги… касающиеся каких-нибудь процессов… И вы поедете для того, чтобы поинтересоваться, как идут ваши дела.
— Завтра?
— Да, господин маршал, завтра.
— Но это же ваше дело, господин Рафте.
— Вовсе нет, вовсе нет… Так было, когда метр Флажо был простым писцом. Тогда я мог разговаривать с ним как с равным. Но с завтрашнего дня метр Флажо становится Аттилой, бичом королей, ни больше ни меньше; с таким всемогущим господином должен беседовать только герцог, пэр и маршал Франции.
— Ты это все серьезно или опять ломаешь комедию?
— Завтра вы сами увидите, насколько это серьезно, монсеньер.
— Ты мне растолкуй, что со мной будет у твоего метра Флажо.
— Мне бы этого не хотелось… Ведь вы завтра станете мне доказывать, что все предугадали заранее… Спокойной ночи, господин маршал! Запомните следующее: сейчас же послать курьера к господину д’Алигру, а завтра поезжайте к метру Флажо. Ах да, адрес… Впрочем, кучер знает, в течение этой недели он возил меня туда не раз.
XCIX
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ СНОВА ВСТРЕТИТСЯ СО СВОЕЙ СТАРОЙ ЗНАКОМОЙ, ПОТЕРЯННОЙ ИМ ИЗ ВИДУ, ВОЗМОЖНО,
БЕЗ ОСОБЫХ СОЖАЛЕНИЙ
Читатель нас, без сомнения, спросит, почему Флажо, собирающийся сыграть столь величественную роль, был нами назван прокурором, а не адвокатом. И читатель был бы прав; мы сейчас ответим на этот вопрос.
Парламент с недавнего времени был распущен на каникулы, и у адвокатов было так мало работы, что не стоило о ней и говорить.
Предвидя наступление времени, когда защищать и вовсе будет некого, метр Флажо заключил соглашение с прокурором Гильду; тот уступил ему и контору и клиентуру за двадцать пять тысяч ливров, выплаченных единовременно. Вот как метр Флажо оказался прокурором. Если нас спросят, где он взял двадцать пять тысяч ливров, мы можем ответить, что он женился на мадемуазель Маргарите, получившей эту сумму в наследство. Это произошло в конце тысяча семьсот семидесятого года за три месяца до изгнания г-на де Шуазёля.
Метр Флажо уже давно выказал себя ярым сторонником оппозиции. Став прокурором, он оказался еще неистовее и благодаря этой горячности приобрел некоторую известность. Эта известность вкупе с опубликованием зажигательной статьи о столкновении герцога д’Эгильона с г-ном де Л а Шалоте привлекла к нему внимание Рафте, который во что бы то ни стало хотел быть в курсе парламентских событий.
Однако, несмотря на новое звание и возросшую известность, метр Флажо остался жить на улице Пти-Лион-Сен-Совер. Было бы слишком жестоко не дать мадемуазель Маргарите порадоваться тому, что прежние соседки называют ее госпожой Флажо, и не дать ей насладиться почтительностью писцов метра Гильду, перешедших на службу к новому прокурору.
Нетрудно догадаться, как страдал г-н де Ришелье, проезжая через зловонный в этой части Париж, добираясь до вонючей дыры, которую парижские городские власти нарекли громким именем улицы.
Перед дверью метра Флажо карета г-на де Ришелье столкнулась с другой каретой.
Маршал заметил в ней высокую женскую прическу, и так как, несмотря на семидесятипятилетний возраст, он оставался галантным кавалером, то поспешил ступить ногой в грязь, чтобы предложить руку даме, выходившей из кареты без чьей-либо помощи.
Однако в этот день маршалу не везло: на подножку ступила сухая бугорчатая нога старухи. Морщинистое лицо, темно-коричневое под толстым слоем румян, окончательно убедило его в том, что это даже не пожилая дама, а дряхлая старуха.
Впрочем, отступать было некуда; маршал сделал движение, и движение было замечено. Господин де Ришелье и сам был немолод. Однако сутяга — а какая еще женщина могла бы прибыть в карете на эту улицу, если не сутяга? — в отличие от герцога, не колеблясь и с улыбкой, от которой становилось жутко, оперлась на руку Ришелье.
«Где-то я уже видел это лицо», — подумал герцог, а вслух прибавил:
— Сударыня тоже желает подняться к метру Флажо?
— Да, герцог, — отвечала старуха.
— Я имею честь быть вам знакомым, сударыня? — вскричал неприятно удивленный герцог и остановился у грязного подъезда.
— Кто же не знает господина маршала, герцога де Ришелье? — ответила старуха. — Для этого пришлось бы забыть, что я женщина.
«Неужели эта мартышка считает себя женщиной?» — подумал покоритель Маона и согнулся в изящнейшем поклоне.
— Осмелюсь задать вопрос, с кем имею честь говорить?
— Графиня де Беарн, к вашим услугам, — отвечала старуха, приседая в реверансе на грязной дощатой мостовой в трех дюймах от откинутой крышки погреба, в котором, как злорадно надеялся про себя маршал, старуха должна была вот-вот исчезнуть после третьего приседания.
— Очень приятно, сударыня, я в восторге, — проговорил он, — благодарю судьбу за счастливый случай. — Так у вас тоже процессы, графиня?
— Ах, герцог, у меня всего один процесс, но какой! Не может быть, чтобы вы о нем не слыхали!
— Разумеется, разумеется, этот большой процесс… Вы правы, простите. Ах, черт, забыл только, с кем вы судитесь…
— С Салюсами.
— Да, да, с Салюсами, графиня. Об этом процессе еще сочинили куплет…
— Куплет?.. — раздраженно спросила старуха. — Какой еще куплет?
— Осторожно, графиня, не упадите, — предупредил герцог, с огорчением отметив, что старуха так и не свалилась в яму. — Держитесь за перила, вернее, за веревку.
Старуха первой стала подниматься по ступенькам. Герцог последовал за ней.
— Да, довольно смешной куплет, — продолжал он.
— Смешной куплет о моем процессе?..
— Бог мой, вы сами можете оценить!.. Да вы, может быть, его знаете?..
— Ничего я не знаю.
— Поется на мотив «Прекрасной Бурбоннезки»:
Мадам! Я в затрудненье ныне,
Любезность оказав, графиня,
Вы помогли бы мне вполне.
— Вы понимаете, что это говорит графиня Дюбарри.
— Как это оскорбительно для нее!..
— Что вы хотите! Эти куплетисты… Для них нет ничего святого. Боже, до чего засалена веревка! А вы на это отвечаете:
Стара я и упряма стала,
От долгой тяжбы я устала,
Кто выиграть помог бы мне?
— Это ужасно! — вскричала графиня. — Нельзя так оскорблять благородную женщину!
— Прошу прощения, графиня, если я спел фальшиво: я задыхаюсь на лестнице… Ну вот мы и пришли. Позвольте, я подергаю за ручку двери.
Старуха с ворчанием пропустила герцога вперед.
Маршал позвонил. Хотя г-жа Флажо стала женой прокурора, в ее обязанности по-прежнему входило отворять дверь и готовить еду. Она впустила посетителей и проводила их в кабинет Флажо.
Сутяги обнаружили здесь разгневанного хозяина, изощрявшегося с пером в зубах, диктуя ужасный обличительный текст своему первому писцу.
— Боже мой! Метр Флажо! Что же это творится? — вскричала графиня.
Прокурор обернулся на ее голос.
— A-а, графиня! Ваш покорный слуга! Стул графине де Беарн! Этот господин с вами, графиня?.. Э-э, господин герцог де Ришелье, если не ошибаюсь? У меня?.. Еще стул, Бернарде, давай сюда еще один стул.
— Метр Флажо! — заговорила графиня. — Прошу вас сказать, в каком состоянии мой процесс?!
— Ах, графиня! Я как раз только что занимался вами.
— Прекрасно, метр Флажо, прекрасно!
— Думаю, графиня, что он наделает много шуму, я на это надеюсь.
— Хм! Будьте осторожны…
— Что вы, графиня, теперь нечего опасаться.
— Если вы занимаетесь моим делом, то можете сначала дать аудиенцию господину герцогу.
— Господин герцог, простите меня, — смутился Флажо, — однако вы слишком галантны, чтобы не понять…
— Понимаю, метр Флажо, понимаю.
— Теперь я весь к вашим услугам.
— Будьте покойны, я у вас много времени не отниму: вы знаете, что меня к вам привело.
— Бумаги, которые передал мне третьего дня господин Рафте.
— Да, некоторые документы, касающиеся моего процесса с… моего процесса о… А черт! Должны же вы знать, какой процесс я имею в виду, метр Флажо.
— Ваш процесс о землях в Шапна.
— Не спорю. Могу ли я надеяться с вашей помощью на успех? Это было бы весьма любезно с вашей стороны.
— Господин герцог! Это дело отложено на неопределенный срок.
— Почему же?
— Дело будет слушаться не раньше, чем через год, самое раннее.
— На каком основании, скажите на милость?
— Обстоятельства, господин герцог, обстоятельства… Вы знаете об указе его величества?..
— Думаю, что знаю… О каком именно вы говорите? Его величество часто издает указы.
— Я имею в виду тот, который отменяет наше решение.
— Прекрасно! Ну и что же?
— А то, господин герцог, что мы в ответ готовы сжечь наши корабли.
— Сжечь ваши корабли, дорогой мой? Вы сожжете корабли парламента? Вот это не совсем ясно; я и не знал, что у парламента есть корабли.
— Может быть, первая палата отказывается регистрировать королевские указы? — спросила графиня де Беарн; процесс герцога де Ришелье не мог отвлечь ее от тяжбы, какую вела она.
— Это еще что!
— И вторая тоже?
— Это бы ничего… Обе палаты приняли решение ничего больше не рассматривать, прежде чем король не уберет герцога д’Эгильона.
— Ба! — всплеснув руками, вскричал маршал.
— Больше не рассматривать… чего? — в волнении спросила графиня.
— Да… процессы, графиня!
— И мой процесс будет отложен? — вскричала г-жа де Беарн в ужасе, который она даже не пыталась скрыть.
— И ваш, и процесс господина герцога — тоже.
— Но это беззаконие! Это неповиновение указам его величества!
— Сударыня! — с пафосом отвечал прокурор. — Король забылся… Мы тоже готовы забыться.
— Господин Флажо, вас засадят в Бастилию, это говорю вам я!
— Я отправлюсь туда с пением, сударыня, и, уж если я туда пойду, все мои собратья последуют за мной с пальмовыми ветвями в руках.
— Он взбесился! — обратилась графиня к Ришелье.
— Мы, все до одного, готовы сражаться до конца! — продолжал прокурор.
— Ого! — обронил маршал. — Это становится интересно.
— Сударь! Да ведь вы сами сейчас только мне сказали, что занимаетесь мною, — снова заговорила графиня де Беарн.
— Я так и сказал, и это правда… Вас, сударыня, я привожу в качестве первого примера в своем выступлении. Вот абзац, имеющий к вам отношение.
Он вырвал из рук писца начатую обличительную речь, нацепил на нос очки и с выражением прочитал:
«…Потеряв состояние, заложив имение, поправ свои обязательства… Его Величество поймет, как они должны страдать… Итак, докладчик имел в своем распоряжении важное дело, от которого зависит благосостояние одного из первых домов королевства; его стараниями, благодаря его предприимчивости, таланту — да позволено будет ему так сказать — это дело шло прекрасно, и право знатной и могущественной дамы Анжелики Шарлотты Вероники графини де Беарн было бы признано, объявлено, как вдруг дыхание раздора… погубив…»
— На этом месте я остановился, сударыня, — сообщил прокурор, выпятив грудь колесом, — я надеюсь, что портрет получится великолепный.
— Господин Флажо, — заговорила графиня де Беарн, — сорок лет назад я впервые обратилась к вашему отцу, достойному человеку; после его смерти я передала свои дела в ваши руки; на моих делах вы заработали около десяти или двенадцати тысяч ливров; возможно, вы заработали бы еще больше…
— Записывайте, все записывайте, — с живостью приказал метр Флажо канцеляристу, — это будет свидетельство, доказательство: мы внесем его в речь.
— Так вот я забираю у вас свои бумаги, — перебила его графиня, — с этой минуты вы утратили мое доверие.
Растерявшись от внезапной немилости, словно громом пораженный, метр Флажо застыл в недоумении. Оправившись от удара, он почувствовал себя мучеником, пострадавшим за веру.
— Пусть так! Бернарде, верните бумаги графине и отметьте, что докладчик предпочел совесть состоянию.
— Прошу прощения, графиня, — шепнул маршал на ухо г-же де Беарн, — однако вы поступаете необдуманно, как мне представляется.
— О чем я не подумала, господин герцог?
— Вы забираете свои бумаги у этого храброго бунтовщика, но что вы собираетесь с ними делать?
— Отнесу их другому поверенному, другому адвокату! — вскричала графиня.
Метр Флажо поднял глаза к небу с мрачной улыбкой самоотречения и стоического смирения.
— Но ведь раз принято решение, — шепотом продолжал маршал, — что палаты не будут больше проводить судебных заседаний, дорогая графиня, следовательно, никакой другой поверенный не станет вами заниматься, как и Флажо…
— Это что же, заговор?
— Неужели вы, черт побери, считаете метра Флажо таким глупцом, чтобы он протестовал в одиночку, рискуя потерять свою контору? Должно быть, собратья поддерживают его?
— Что же намереваетесь делать вы?
— Я заявляю, что метр Флажо — честный поверенный и мои бумаги будут у него в целости и сохранности… Я оставляю их у него и продолжаю, разумеется, платить, как если бы он и дальше занимался моим делом.
— Вы по праву считаетесь умным человеком и либералом, господин маршал! — воскликнул Флажо. — Я буду распространять это суждение, господин герцог!
— Вы слишком добры ко мне, дорогой поверенный! — с поклоном отвечал Ришелье.
— Бернарде! — крикнул вдохновленный прокурор своему писцу. — Включите похвалу господина маршала де Ришелье в заключительную часть!
— Нет, нет, не стоит, метр Флажо! Я вас умоляю… — с живостью возразил маршал. — Ах, черт побери, что вы там собираетесь делать? Я предпочитаю тайну в том, что принято называть делом… Не огорчайте меня, метр Флажо. Я буду отрицать, опровергать: видите ли, я очень скромен и недоверчив. Ну, графиня, что вы на это скажете?
— Я скажу так: мой процесс будет слушаться… Мне нужно судебное разбирательство, и оно состоится!
— А я вам скажу: чтобы ваш процесс состоялся, королю придется послать швейцарцев, шеволежеров и двадцать пушек в зал заседаний, — с воинственным видом отвечал Флажо, и это привело старуху в полное отчаяние.
— Вы, значит, не верите, что его величество на это способен? — шепнул Ришелье, обращаясь к Флажо.
— Это невозможно, господин маршал! Это просто неслыханно! Это означало бы, что во Франции нет больше справедливости, как уже нет хлеба.
— Вы полагаете?
— Вы сами в этом убедитесь.
— Однако король разгневается.
— Мы готовы на все!
— Даже на изгнание?
— На смерть, господин маршал! Оттого, что на нас мантия, мы не стали трусливее!
И г-н Флажо ударил себя кулаком в грудь.
— Теперь я уверен, — сказал Ришелье своей спутнице, — что кабинету министров не поздоровится!
— О да! — после некоторого молчания заметила графиня. — И это весьма для меня прискорбно, потому что я никогда не вмешиваюсь в происходящее, а теперь вот оказываюсь втянутой в этот конфликт.
— Я совершенно убежден, — продолжал маршал, — что есть одно лицо, которое может вам помочь в этом деле, человек могущественный… Но захочет ли он?
— Надеюсь, не будет с моей стороны слишком нескромным полюбопытствовать, господин герцог, кто это могущественное лицо?
— Ваша «крестница», — отвечал герцог.
— Графиня Дюбарри?
— Она самая.
— А ведь, пожалуй, вы правы… Вы подали мне прекрасную мысль!
Герцог прикусил губу.
— Так вы поедете в Люсьенн? — спросил он.
— Без малейшего колебания.
— Однако графине Дюбарри не осилить оппозиции парламента.
— Я скажу ей, что хочу рассмотрения моего дела в суде. Она ни в чем не сможет мне отказать после того, что я для нее сделала. Она скажет королю, что ей этого хочется. Его величество поговорит с канцлером, а у канцлера — длинные руки, господин герцог… Метр Флажо, будьте любезны, хорошенько изучите мое дело. Оно сыграет роль более значительную, чем вы предполагаете, это говорю вам я!
Метр Флажо недоверчиво покачал головой, однако графиня была непоколебима.
Выйдя из задумчивости, герцог подхватил:
— Раз вы отправляетесь в Люсьены, графиня, передайте, пожалуйста, от меня нижайший поклон.
— С большим удовольствием, герцог.
— Мы с вами друзья по несчастью: ваш процесс приостановлен, мой — тоже. Когда вы будете просить за себя, вы тем самым ускорите рассмотрение и моего дела… Кроме того, вы можете засвидетельствовать там мое неудовольствие, которое нам причиняют эти умные головы в парламенте. Прибавьте к этому, пожалуйста, что именно я посоветовал вам прибегнуть к помощи божественной хозяйки Люсьенна.
— Не премину, герцог. Прощайте, господа!
— Имею честь предложить вам свою руку и проводить вас до кареты. Еще раз прощайте, метр Флажо, не буду вам мешать заниматься делами…
Маршал проводил графиню до кареты.
«Рафте прав, — подумал он, — такие, как Флажо, способны произвести революцию. Слава Богу, у меня есть поддержка с обеих сторон. Я придворный и в то же время член парламента. Графиня Дюбарри попытается вмешаться в политику и падет одна. Если она устоит, я ей подложу в Трианон маленькую мину. Да, этот чертов Рафте в самом деле мой ученик. Я его поставлю во главе моей канцелярии, когда стану министром».
С
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ДЕЛА ЕЩЕ БОЛЕЕ ЗАПУТЫВАЮТСЯ
Графиня де Беарн воспользовалась советом Ришелье. Спустя два с половиной часа после того, как она рассталась с герцогом, она уже сидела в приемной Люсьенна в обществе Замора.
Она некоторое время не показывалась у г-жи Дюбарри, и потому ее присутствие вызвало некоторое любопытство в будуаре, когда было произнесено имя графини.
Господин д’Эгильон тоже не терял времени даром. Он замышлял вместе с фавориткой заговор, когда Шон вошла с просьбой принять г-жу де Беарн.
Герцог собрался было удалиться, но графиня его удержала.
— Я бы хотела, чтобы вы остались, — сказала она. — В том случае, если старая скупердяйка станет клянчить деньги, вы окажетесь полезны: в вашем присутствии она попросит меньше.
Герцог остался.
Госпожа де Беарн с подобающим случаю выражением лица села напротив графини в предложенное ей кресло. Когда они обменялись приветственными фразами, г-жа Дюбарри спросила:
— Могу ли я узнать, какому счастливому случаю я обязана вашим посещением, сударыня?
— Ах, графиня! — воскликнула старуха. — Меня привело к вам огромное несчастье!
— Что случилось?
— У меня есть новость, которая очень опечалит его величество.
— Говорите скорее!
— Парламент…
— Ага! — проворчал герцог д’Эгильон.
— Господин герцог д’Эгильон! — поспешила представить графиня своего гостя посетительнице во избежание недоразумения.
Однако старая графиня была такой же хитрой, как все придворные вместе взятые. Она могла допустить оплошность только умышленно, когда недоразумение было ей на руку.
— Я наслышана обо всех гнусностях этих судейских крючков и об их неуважению к заслугам и знатному происхождению, — сказала она.
Ее комплимент герцогу достиг цели: герцог низко поклонился старой графине, она поднялась и тоже поклонилась.
— Однако речь идет не только о господине герцоге, затронуты интересы целой нации: парламент отказывается заседать.
— Неужели? — вскричала г-жа Дюбарри, откидываясь на софу. — Так во Франции больше не будет правосудия?.. И что же дальше? И что же тогда случится?
Герцог улыбнулся. Однако вместо того, чтобы свести все к шутке, графиня де Беарн еще больше нахмурила и без того суровое лицо.
— Это огромное бедствие, — молвила она.
— Вы так думаете? — спросила фаворитка.
— Сразу видно, графиня, что у вас нет процесса.
— Гм! — обронил г-н д’Эгильон, желая привлечь внимание графини Дюбарри; она, наконец, поняла, куда клонит гостья.
— Увы, графиня, — спохватилась она, — вы правы: вы мне напомнили, что у меня нет процесса, но у вас-то он есть, и очень серьезный!
— Да, графиня!.. И любая отсрочка для меня разорительна.
— Бедная графиня!
— Необходимо, чтобы король принял решение!
— Его величество давно готов выслать господ советников.
— Да, но тогда дело будет отложено на неопределенный срок!
— Вы знаете какой-нибудь другой способ? Не предложите ли вы что-нибудь еще?
Сутяга вся ушла в чепец, словно Цезарь, умирающий под своей тогой.
— Есть одно средство, — заговорил д’Эгильон, — однако его величество вряд ли на него согласится.
— Какое средство? — озабоченно спросила старая графиня.
— Обыкновенное оружие французского монарха, когда его воля встречает сколько-нибудь чрезмерное сопротивление — занять королевское кресло в парламенте и сказать: «Я так хочу!», в то время как противники думают: «А я так не хочу!»
— Превосходная мысль! — в восторге вскричала г-жа Дюбарри.
— Однако не стоит ее разглашать, — тонко заметил д’Эгильон с жестом, понятным графине де Беарн.
— Сударыня! — подхватила сутяжница. — Вы имеете такое влияние на его величество! Добейтесь того, чтобы он сказал: «Я хочу, чтобы состоялся процесс графини де Беарн». Кстати, как вы знаете, это мне уже давно было обещано.
Господин д’Эгильон прикусил губу, поклонился графине Дюбарри и вышел из будуара: он услыхал, как во двор въехала карета короля.
— А вот и король! — поднялась г-жа Дюбарри, давая этим понять, что аудиенция окончена.
— Позвольте мне пасть его величеству в ноги!
— Чтобы попросить его устроить королевское заседание? Я ничего не имею против, — оживилась графиня Дюбарри. — Оставайтесь здесь, раз вам этого так хочется.
Едва графиня де Беарн успела поправить чепец, как вошел король.
— A-а, у вас гости, графиня?..
— Госпожа де Беарн, сир.
— Сир, правосудия! — вскричала старая дама, приседая в низком реверансе.
— О! — воскликнул Людовик XV с едва различимой насмешкой, понятной только тем, кто его знал. — Вас кто-нибудь оскорбил, сударыня?
— Сир, я прошу правосудия!
— Против кого?
— Против парламента.
— Вот оно что! — досадливо поморщился король, хлопнув в ладоши. — Вы жалуетесь на мой парламент? Доставьте мне удовольствие, образумьте его. У меня тоже есть основание быть им недовольным, и я тоже прошу у вас правосудия! — прибавил он, передразнивая реверанс старой графини.
— Сир, ведь вы же, наконец, король, вы повелитель.
— Король — да; повелитель — не всегда.
— Сир, изъявите свою волю.
— Это как раз то, что я делаю каждый вечер. Но на следующее утро господа члены парламента тоже проявляют свою волю. А так как наши желания диаметрально противоположны, мы напоминаем Землю и Луну, которые летают вечно одна за другой, никогда не встречаясь.
— Сир, у вас довольно мощный голос, чтобы заглушить этих крикунов.
— Вот тут вы ошибаетесь. Это ведь не я адвокат, а они. Если я говорю «да», они отвечают «нет». Найти общий язык совершенно невозможно… Вот если бы, когда я говорю «да», вы нашли средство помешать им сказать «нет», я заключил бы с вами союз.
— Сир, я знаю такое средство.
— Немедленно дайте мне его.
— Ну что же, сир, извольте: устройте королевское заседание.
— Час от часу не легче! Королевское заседание! — отвечал король. — Как вы могли до этого додуматься? Да это почти революция!
— У вас будет возможность сказать этим бунтовщикам прямо в лицо, что вы повелитель. Вы знаете, сир, что когда король проявляет таким образом свою волю, то он один имеет право говорить, никто ему не отвечает. Вы им скажете: «Я так хочу!» — и они склонят головы…
— Верно, идея великолепная! — воскликнула графиня Дюбарри.
— Да, великолепная, — согласился Людовик XV, — но она не подходит.
— До чего же красиво, — с жаром продолжала г-жа Дюбарри, — кортеж, дворяне, пэры, вся королевская гвардия, за ними огромная толпа народа, потом само королевское кресло с пятью подушками, расшитыми золотыми лилиями… Пышная была бы церемония!
— Вы полагаете? — не очень уверенно спросил король.
— И роскошный королевский наряд: горностаевая мантия, бриллиантовый венец, золотой скипетр — в общем, весь блеск, который так идет к царственному и красивому лицу. Ах, до чего вы были бы великолепны, сир! — воскликнула графиня Дюбарри.
— Но королевского заседания не было уже довольно давно, — бросил король с деланной небрежностью.
— Со времени вашего детства, сир, — прибавила графиня де Беарн. — Воспоминание о вашей необыкновенной красоте хранится в каждом сердце.
— Кроме того, — добавила г-жа Дюбарри, — это был бы удобный случай для господина канцлера проявить свое суровое сдержанное красноречие, чтобы эти людишки были раздавлены правдой, достоинством, авторитетом.
— Я должен дождаться преступления со стороны парламента, — сказал Людовик XV, — а уж тогда посмотрим.
— Чего еще ждать, сир? Что может быть ужаснее того, что сделано?
— Что же сделано? Рассказывайте.
— А вы не знаете?
— Парламент слегка подразнил герцога д’Эгильона, это не смертельно… Хотя дорогой герцог — один из моих друзей, — прибавил король, взглянув на г-жу Дюбарри. — Итак, парламент подразнил герцога — я положил конец их злобным выпадам, отменив его решение вчера или третьего дня, не помню точно. Вот мы и в расчете.
— А знаете, сир, — перебила его г-жа Дюбарри, — графиня только что нам сообщила, что нынче утром эти господа в черных мантиях дождались удобного случая.
— Что такое? — нахмурившись, спросил король.
— Расскажите, графиня! Король позволяет, — сказала фаворитка.
— Сир! Господа советники решили больше не проводить судебных заседаний парламента до тех пор, пока вы, ваше величество, не решите дело в их пользу.
— Неужели? — усмехнулся король. — А вы не ошибаетесь, графиня? Ведь это было бы неповиновение, а мой парламент не осмелится восстать, я надеюсь…
— Сир, уверяю вас, что…
— Полно, сударыня, это, верно, слухи.
— Выслушайте меня, ваше величество.
— Говорите, графиня.
— Так вот, мой поверенный вернул мне сегодня мое дело… Он больше не выступает в суде, потому что теперь никто больше не судит.
— Уверяю вас, что это только слухи. Они пытаются меня запугать.
При этих словах король взволнованно заходил по комнате.
— Сир! Может быть, ваше величество скорее поверит герцогу де Ришелье? Так вот, в моем присутствии герцогу де Ришелье вернули, как и мне, все бумаги, и герцог удалился в ярости.
— Кто-то скребется в дверь, — заметил король, желая переменить тему.
— Это Замор, сир.
Вошел Замор.
— Хозяйка! Письмо!
— Вы позволите, сир? — спросила графиня. — О Господи! — вдруг вскрикнула она.
— Что такое?
— Это от господина канцлера, сир. Зная, что ваше величество собирался ко мне с визитом, господин де Мопу просит меня испросить для него аудиенцию.
— Что там еще могло случиться?
— Просите господина канцлера! — приказала г-жа Дюбарри.
Графиня де Беарн встала и хотела откланяться.
— Вы не мешаете, графиня, — сказал ей король. — Здравствуйте, господин де Мопу! Что нового?
— Сир! — с поклоном отвечал канцлер. — Парламент вам раньше мешал — теперь больше нет парламента.
— Как так? Они, что же, все умерли? Наелись мышьяку?
— Боже сохрани!.. Нет, сир, они здравствуют. Но они больше не желают заседать и подали в отставку. Я только что принимал их скопом.
— Советников?
— Нет, сир, отставки.
— Я же вам говорила, сир, что это серьезно, — вполголоса заметила графиня.
— Очень серьезно! — в нетерпении подтвердил король. — Ну и что же вы сделали, господин канцлер?
— Я пришел за приказаниями вашего величества.
— Давайте всех их вышлем, Мопу.
— Сир, в изгнании они тоже не станут проводить судебные заседания.
— Так прикажем им заседать!.. Неужели не существует более ни предписаний, ни королевских указов?..
— Сир, на этот раз вам придется изъявить свою волю.
— Да, вы правы.
— Смелее! — шепнула графиня де Беарн г-же Дюбарри.
— И поступить как повелитель, после того, как вы слишком часто вели себя как отец! — вскричала графиня.
— Канцлер! — задумчиво проговорил король. — Я знаю только одно средство. Оно сильное, но действенное. Я собираюсь устроить королевское заседание в парламенте. Надо на этот раз как следует напугать этих господ.
— Сир! — вскрикнул канцлер. — Прекрасно сказано! Мы их или согнем, или сломаем!
— Графиня! — обратился король к старой сутяжнице. — Если ваше дело еще и не слушалось, то, как видите, в том не моя вина.
— Сир! Вы величайший в мире король!
— Да! Да!.. — эхом отозвались графиня, Шон и канцлер.
— Однако мир так не думает, — пробормотал король.
CI
КОРОЛЕВСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Итак, состоялось это знаменательное событие с соответствующим случаю церемониалом, которого требовали, с одной стороны, тщеславие короля, с другой — интриги, подталкивавшие его к государственному перевороту.
Королевская гвардия была поставлена под ружье. Огромное количество стрелков в куртках, солдат городской стражи и полицейских должны были охранять господина канцлера. А он, словно генерал в день решающего сражения, должен был явить собой центральную фигуру этого предприятия.
Господина канцлера все ненавидели. Он сам это знал, и если тщеславие мешало ему понять губительность для него готовящегося шага, то люди, лучше осведомленные о сложившемся общественном мнении, могли бы без всякого преувеличения предсказать ему позор или, по крайней мере, шиканье.
Такой же прием был оказан и герцогу д’Эгильону, которого народ инстинктивно недолюбливал, хотя, правда, после парламентских дебатов отношение к нему несколько изменилось. Король притворялся спокойным. Однако он был встревожен. Но видно было, как ему нравится его великолепный королевский наряд; он полагал, что ничто его не может так защитить, как величие.
Он мог бы прибавить: «И любовь подданных». Но эти слова ему часто повторяли в Меце во время его болезни, и он решил, что если скажет так, то его обвинят в плагиате.
Для дофины зрелище было внове, и она в глубине души, может быть, желала его увидеть. Однако, когда наступило утро, она с грустным видом отправилась на церемонию и не меняла выражения лица во все ее продолжение; это способствовало тому, что о ней сложилось благожелательное мнение.
Графиня Дюбарри была отважная дама. Она верила в свою судьбу, потому что была молода и хороша собой. И потом, разве о ней не все уже было сказано? Что нового можно было прибавить? Казалось, она сияла, освещенная отблеском величия своего возлюбленного — короля.
Герцог д’Эгильон гордо вышагивал среди шедших впереди короля пэров. Его благородное, выразительное лицо не выдавало ни малейшего огорчения или неудовольствия. В то же время он, чувствуя себя победителем, не выказывал своего торжества. При виде того, как он шел, никто не догадался бы о том, какую битву затеяли из-за него король и парламент.
В толпе на него показывали друг другу пальцем; члены парламента бросали испепеляющие взгляды — и только!
Большой зал Дворца правосудия был набит битком, собралось более трех тысяч человек.
А вокруг Дворца толпа, сдерживаемая палками привратников и дубинками стрелков, глухо гудела. Свое присутствие толпа выдавала только этим гулом, временами очень явственным, в котором тонули отдельные голоса и выкрики и который вполне справедливо можно было назвать гласом народного моря.
В большом зале установилась тишина; когда стихли шаги, каждый занял свое место, и величавый монарх мрачно повелел канцлеру начинать.
Члены парламента знали заранее, что королевское заседание не обещает им ничего хорошего. Они понимали, зачем их позвали. Они справедливо полагали, что король собирается объявить им свою волю; однако они знали и то, что король робок, чтобы не сказать — труслив, и если им и суждено было испугаться, то лишь последствий церемонии, а не самого заседания.
Канцлер взял слово. Он любил поговорить. Начало его речи было построено весьма искусно, и любители красноречия нашли его многообещающим.
Однако сама речь превратилась постепенно в столь сильный обвинительный акт, что вызвала у знатных господ улыбку, а членам парламента стало не по себе.
Устами канцлера король приказывал немедленно покончить с бретонскими делами, которые ему надоели. Он предписывал парламенту примириться с герцогом д’Эгильоном, чью службу он благосклонно принимал, а также не прерывать более отправление правосудия. После этого все должно было пойти как в благословенные времена золотого века, когда текли ручейки судебных и совещательных речей в пяти частях, а на деревьях росли папки с делами, так что господам адвокатам и прокурорам, имевшим право их срывать, ибо эти плоды принадлежали им, оставалось только протянуть руку.
Эти сладкие речи не примирили парламент с г-ном де Мопу, так же как не заставили помириться и с герцогом д’Эгильоном. Впрочем, речь была произнесена, и на нее не было возможности ответить.
Члены парламента, к сильной досаде короля, все как один — что само по себе придает силы — приняли спокойный и безразличный вид, не понравившийся его величеству и занимавшим трибуны аристократам.
Ее высочество дофина побледнела от ярости. Она впервые явилась свидетельницей неповиновения толпы. Она собиралась хладнокровно прикинуть возможности этого сопротивления.
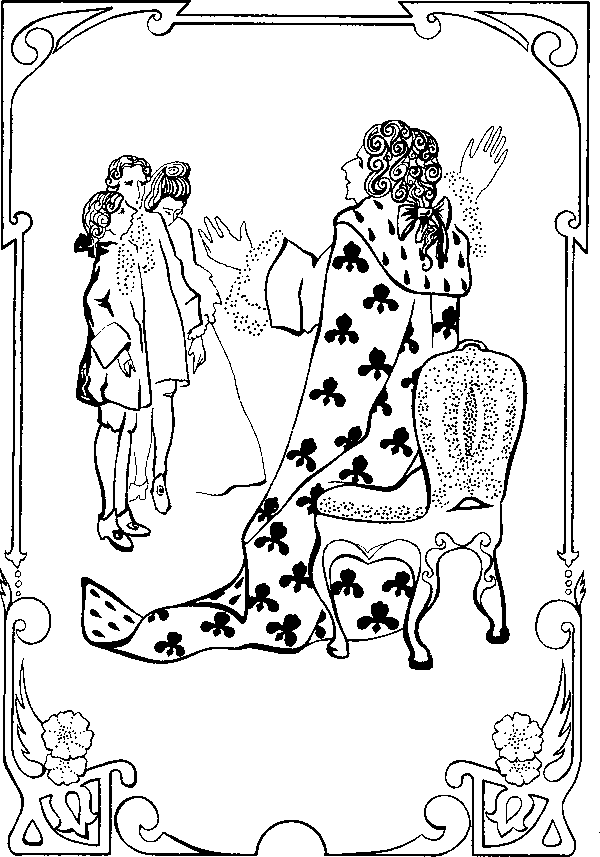
Отправляясь на церемонию королевского заседания, она намеревалась хотя бы внешне проявить несогласие с решением, которое должно было приниматься или быть официально объявлено. Однако мало-помалу она почувствовала себя втянутой в борьбу, причем была на стороне равных ей по крови и по положению. По мере того как канцлер вгрызался в парламентскую плоть, юная гордячка все сильнее возмущалась тем, что его зубы недостаточно остры. Ей казалось, что она могла бы найти такие слова, которые заставили бы дрогнуть сборище, как стадо быков под палкой погонщика. Короче говоря, она нашла, что канцлер слишком слаб, а члены парламента — очень сильны.
Людовик XV был великолепным физиономистом, как все эгоисты, если только они не были лентяями. Он огляделся, желая увидеть, как встречена его воля, выраженная, как ему казалось, достаточно красноречиво.
Закушенные губы ее высочества побелели, и он понял, что творится в ее душе.
Он перевел взгляд на графиню Дюбарри, уверенный в том, что увидит нечто противоположное, но, вместо победоносной улыбки, заметил лишь страстное желание привлечь к себе взгляд короля словно для того, чтобы узнать, о чем он думает.
Ничто так не смущает слабые умы, как мысль о том, что их опередят ум и воля другого человека. Если они замечают на себе решительные взгляды, они заключают, что действовали недостаточно смело и теперь будут выглядеть или уже выглядят смешными, что с них потребуют больше того, что они сделали.
Тогда они бросаются в другую крайность: робость переходит в ярость, неожиданный взрыв дает выход опасениям, оказавшимся сильнее их прежних страхов.
Королю не было нужды прибавлять ни одного слова к выступлению канцлера — кстати, это противоречило бы этикету. Однако его словно обуял демон словоохотливости: он махнул рукой, показывая, что желает говорить.
На сей раз присутствующие оцепенели. Головы всех членов парламента повернулись, словно по команде, к креслу короля.
Принцы, пэры, военные — все взволновались. Было не исключено, что после стольких хороших слов его христианнейшее величество возьмет да и скажет ненужную грубость, а их благоговение перед его величеством не позволяло им прервать короля.
Кое-кто заметил, что герцог де Ришелье, до этого явно показывавший свое отчуждение от племянника, неожиданно устремил на него взгляд, странным образом похожий на сочувственный.
Однако его взгляд, уже готовый выразить возмущение, встретился с взглядом графини Дюбарри. Ришелье, как никто, обладал бесценным даром перевоплощения: он сменил насмешливое выражение на восхищение и выбрал прекрасную графиню точкой пересечения между этими крайностями.
Итак, он послал на ходу приветственную и любезную улыбку г-же Дюбарри, однако это не обмануло графиню. Маршал, вступивший в сношения с парламентом и с находившимися в оппозиции принцами, не мог теперь прервать эти связи, дабы никто не заметил, что он представляет собой на самом деле.
Сколько возможностей в капле воды! Это целый океан для наблюдательного человека! Как много веков спрессовано в одной секунде! Неописуемая вечность! Все, о чем мы рассказываем, произошло за то короткое время, пока его величество Людовик XV, собираясь заговорить, раскрывал рот.
— Вы слышали от канцлера, — решительно начал он, — какова моя воля. Подумайте же о том, как ее исполнить, потому что я никогда не изменю свои намерения!
Последние слова Людовика XV прогремели с силой порохового взрыва.
Все собрание было буквально потрясено.
Члены парламента затрепетали от ужаса, немедленно передавшегося толпе со скоростью бегущей по проводам электрической искры. Такой же трепет охватил и сторонников короля. Удивление и восхищение были написаны на всех лицах, отдались в каждом сердце.
Дофина, сама того не желая, благодарно взглянула на короля своими прекрасными глазами.
Взвинченная графиня Дюбарри вскочила и захлопала в ладоши, нисколько не боясь того, что ее забросают при выходе камнями или что на следующий день она получит сотню куплетов, один отвратительнее другого.
С этой минуты Людовик XV наслаждался своим триумфом.
Члены парламента покорно склонили головы, не сдавая, однако, своих позиций.
Король привстал с расшитых золотыми лилиями подушек.
Сейчас же вслед за ним поднялись капитан гвардейцев, командир военной свиты короля и все дворяне.
С улицы послышалась барабанная дробь, заиграли трубы. Король гордо прошел через зал сквозь строй склоненных голов. Почти неуловимый на слух гул толпы при появлении короля сменился оглушительным ревом, который затих в отдалении, там, куда оттеснили народ солдаты и стрелки.
Герцог д’Эгильон шел по-прежнему впереди короля, не выказывая своего торжества.
Подойдя к двери, ведущей на улицу, канцлер ужаснулся при виде людского моря, волнение которого он почувствовал на расстоянии. Он приказал стрелкам:
— Сомкнитесь вокруг меня!
Низко кланяясь герцогу д’Эгильону, маршал де Ришелье сказал:
— Обратите внимание, герцог, на эти склоненные головы: придет день, и они чертовски высоко поднимутся. Вот тогда надо будет поберечься!
Графиня Дюбарри проходила в эту минуту вместе со своим братом, маршальшей Мирпуа и некоторыми придворными дамами. Она услыхала предостережение старого маршала и, не столько желая возразить ему, сколько стремясь блеснуть своим остроумием, заметила:
— Да что вы, маршал! По-моему, бояться нечего! Вы же слышали, что сказал его величество? Если не ошибаюсь, он объявил, что никогда не изменит своих намерений?
— Слова его величества в самом деле грозные, графиня, — с улыбкой отвечал старый маршал. — Однако эти несносные члены парламента не видели, к счастью для вас, как король смотрел на вас, когда говорил, что не отступится от своих намерений.
Он заключил этот мадригал одним из тех неподражаемых реверансов, какие в наши дни не умеют делать даже на сцене.
Госпожа Дюбарри была прежде всего женщина, а никак не политик. Она увидела лишь комплимент там, где г-н д’Эгильон почувствовал насмешку и вместе с тем угрозу.
Вот почему она ответила улыбкой, тогда как ее союзник закусил губу и побледнел. Он понял, что маршал его не простил.
Последствия церемонии королевского заседания не замедлили сказаться. Они были благоприятны для короля. Но, как часто случается, сильное потрясение ошеломляет. Зато после него кровь быстрее течет в жилах, она словно очищается.
Так, во всяком случае, думали просто одетые люди, собравшиеся небольшой группкой на углу набережной Цветов и Бочарной улицы, наблюдая за отъездом короля и его пышного кортежа.
Группа состояла из трех человек. Случай соединил их на этом углу, откуда они, как казалось, с любопытством смотрели на толпу. Не будучи знакомы между собой, они, однако, обменялись несколькими словами и стали держаться вместе. Еще раньше чем кончилось заседание парламента, они уже сделали заключение.
— Ну что же, страсти разгорелись! — заговорил один из них, старик со сверкающими глазами и добрым, благородным лицом. — Королевское заседание — великая вещь!
— Да! — с горькой улыбкой подхватил молодой человек. — Да, если бы слова подтверждались делами…
— Сударь, кажется, я вас знаю… — проговорил старик, повернувшись к юноше. — Где я мог вас видеть?
— Ночью тридцать первого мая. Вы не ошиблись, господин Руссо.
— A-а, вы тот самый молодой хирург, мой соотечественник, господин Марат?
— Да, сударь, к вашим услугам.
Они обменялись поклонами.
Третий пока не проронил ни слова. Это был приятный молодой человек. Во время церемонии он не сводил взгляда с толпы, внимательно наблюдая за борьбой ее страстей.
Молодой хирург ушел первым. Он отважно ринулся в самую гущу людей, не столь благодарных, как Руссо, и уже позабывших, с какой самоотверженностью он спасал пострадавших во время давки. Но он надеялся, что придет день, и его имя всплывет в памяти народной.
Другой молодой человек подождал, пока он уйдет, и обратился к Руссо:
— А вы не уходите, сударь?
— Я слишком стар, чтобы рисковать жизнью в такой давке.
— В таком случае, — понизив голос, продолжал незнакомец, — до встречи на улице Платриер сегодня вечером, господин Руссо… Непременно приходите!
Философ вздрогнул так, словно перед ним встал призрак. Бледный от природы, он еще сильнее побледнел и стал похож на мертвеца. Пока он собирался с духом, чтобы ответить незнакомцу, тот исчез.
СII
О ВПЕЧАТЛЕНИИ, ПРОИЗВЕДЕННОМ СЛОВАМИ НЕЗНАКОМЦА НА ЖАН ЖАКА РУССО
Услышав необычные слова, произнесенные незнакомым господином, несчастный Руссо задрожал и пошел сквозь толпу, позабыв о том, что он стар и что боится давки; наконец он вырвался на свободу. Он дошел до моста Богоматери и, погруженный в задумчивость, прошел через квартал, прилегающий к Гревской площади, выбрав самый короткий путь к дому.
«Оказывается, что тайна, которую каждый посвященный хранит с риском для жизни, доступна первому встречному, — рассуждал он. — Вот что происходит с тайными обществами, когда они выдержат все испытания перед лицом народа… Какой-то человек меня знает, он понимает, что я скоро буду его товарищем, а возможно, и сообщником. Нет, такой порядок вещей абсурден и невыносим».
Эти мысли заставили Руссо зашагать быстрее, хотя обыкновенно он передвигался с большой осторожностью, особенно после происшествия на улице Менильмонтан.
«Таким образом, — продолжал философ, — пожелав поближе познакомиться с будущим возрождением человечества, о котором якобы известно так называемым иллюминатам, я едва не сделал глупости, поверив в то, что дельные мысли к нам могут прийти из Германии, страны пива и туманов; я опорочил бы свое имя, связавшись с дураками или интриганами, а они прикрывали бы им свои глупости. Нет, не бывать этому! Нет, словно при вспышке молнии мне открылась бездна, и я не собираюсь бросаться туда очертя голову!»
Отдыхая, Руссо остановился на минуту посреди улицы и опёрся на палку.
«А красивая была химера! — продолжал философ. — Свобода в лоне рабства; будущее, завоеванное без потрясений и без всякого шума; таинственная сеть, раскинутая в то время, пока тираны всего мира дремлют… Это было чересчур красиво; с моей стороны было глупо в это поверить… Не нужно ни опасений, ни подозрений, ни сомнений: все это недостойно свободомыслящего и независимого человека».
Он пошел дальше и вдруг заметил ищеек г-на де Сартина, шаривших всюду глазами. Они так напугали свободомыслящего и независимого человека, что он отскочил в тень ограды, мимо которой в эту минуту проходил.
От этого места уже недалеко было и до улицы Платриер. Руссо быстрым шагом прошел это расстояние, поднялся по лестнице, задыхаясь, словно загнанная лань, и упал на стул в своей комнате, не в силах отвечать на расспросы Терезы.
Немного погодя он объяснил ей причину своего волнения: он бежал, было жарко, его поразила новость — на церемонии королевского заседания король разгневался; народ потрясен произошедшими событиями.
Тереза в ответ проворчала, что все это не оправдание для того, чтобы опаздывать к обеду, и что мужчине не пристало шарахаться от малейшего шума, подобно мокрой курице.
Руссо не нашелся, что ответить на последнее замечание: он много раз говорил о том же — правда, в других выражениях.
Тереза прибавила, что философы да и вообще люди с богатым воображением все скроены на один лад. В своих книгах они только и делают, что трубят в фанфары и утверждают, что ничего не боятся, что им наплевать и на Бога, и на людей. Однако, стоит тявкнуть собачонке, как они кричат: «На помощь!», а раз чихнув, готовы завопить: «Ах, Боже мой, я умираю!»
Это была одна из излюбленных тем Терезы, когда она давала волю своему красноречию, а робкий от природы Руссо не находил что ответить. И потому под звуки ее пронзительного голоса Руссо вынашивал свою мысль, представлявшую для него гораздо большую ценность, чем мысли Терезы, несмотря на обидные слова, которыми награждала его жена.
«Счастье состоит из запахов и звуков, — думал он, — а запах и звук — вещи условные… Кто сказал, что лук пахнет хуже розы, а павлин поет хуже соловья?»
Сформулировав эту аксиому — ее можно было принять за чистейший парадокс, — он сел за стол и стал обедать.
После обеда Руссо, против обыкновения, не сел к клавесину. Он двадцать раз прошелся по комнате и раз сто выглянул в окно, изучая улицу Платриер.
У Терезы начался один из приступов ревности, обычно возникающих из духа противоречия у людей вздорных, то есть в действительности наименее подверженных ревности.
Право, нет ничего несноснее, чем притворный порок, уж лучше притворная добродетель!
Тереза испытывала глубокое отвращение к внешности своего мужа, к его телосложению, уму и привычкам; она считала, что он стар, болен и некрасив. Она не боялась, что у нее отнимут мужа, так как не могла даже предположить, что какая-нибудь женщина способна взглянуть на него иначе, чем она сама. Однако самая сладкая мука для женщины — ревность. Вот почему Тереза позволяла себе порой это удовольствие.
Заметив, что Руссо так часто в задумчивости подходит к окну, что ему не сидится на месте, она заявила:
— Теперь я понимаю ваше беспокойство… Должно быть, вы недавно кое с кем расстались…
Руссо посмотрел на нее с испугом, что явилось для нее лишним доказательством ее правоты.
— …кое с кем, кого вы хотели бы еще раз увидеть, — продолжала она.
— Вы так думаете? — сказал Руссо.
— Похоже, мы стали бегать на свидания?
— На свидания? — переспросил Руссо, до которого наконец дошло, что она его ревнует. — Вы с ума сошли, Тереза!
— Я прекрасно понимаю, что это было бы безумием, — сказала она. — Впрочем, вы на все способны. Бегайте, бегайте! С вашей физиономией цвета папье-маше, с вашим сердцебиением, дурацким покашливанием — ступайте, завоевывайте сердца! Самый лучший способ прославиться!
— Тереза! Вы сами прекрасно знаете, что ничего такого нет! — с раздражением заметил Руссо. — Дайте мне спокойно подумать!
— Вы распутник! — с самым серьезным видом выпалила Тереза.
Руссо покраснел так, словно это была правда или он услышал комплимент.
Тоща Тереза сочла себя вправе разгневаться, перевернуть все вверх дном, хлопнуть дверью, испытывая терпение Руссо, — так ребенок, играющий металлическим колечком, кладет его в коробочку и гремит им изо всех сил.
Руссо укрылся в кабинете. Крики Терезы расстроили его мысли.
Он решил, что, вне всякого сомнения, было бы не совсем безопасно не пойти на таинственную встречу, о которой ему говорил незнакомец на углу набережной.
«Если уж они преследуют предателей, то наверняка это распространяется на колеблющихся и безразличных, — подумал он. — Я давно заметил, что большая опасность — ничто, как и серьезная угроза, потому что в подобных случаях дело редко доходит до приведения угрозы в исполнение. Но вот когда речь идет о мелкой мести, ударах исподтишка, мистификации и других мелочах, их-то и надо опасаться. В один прекрасный день братья-масоны отплатят мне за мое презрение, натянув веревку у меня на лестнице: я сломаю ногу и растеряю десять последних зубов… Или, пожалуй, уронят мне на голову камень, когда я буду проходить мимо какой-нибудь стройки… А еще лучше, если у них в братстве найдется какой-нибудь памфлетист, живущий у меня под боком, может быть, на одной со мной лестнице, и заглядывающий ко мне в комнату через окно. В этом нет ничего невозможного, раз собрания проходят на улице Платриер… Ну вот, этот бездельник напишет обо мне всякие глупости, высмеет меня на весь Париж… Ведь у меня всюду враги!»
Спустя мгновение Руссо думал уже о другом.
«Ну что же! — говорил он себе. — Где моя смелость? Где моя честь? Разве я испугался бы, оставшись наедине с самим собой? Неужели, взглянув в зеркало, я увидел бы только труса и негодяя? Нет, это не так… Пускай хоть весь свет против меня сговорится, пусть потолок того погреба обрушится на мою голову, я все равно туда пойду… Кстати, все красивые рассуждения порождают страх. С того времени как, встретившись с незнакомцем, я вернулся домой, я все время топчусь на одном месте из трусости. Я сомневаюсь во всех и в себе самом! Это нелогично… Я себя знаю, меня нельзя обвинить в восторженности: если я увидел в будущей организации что-то необычайное, значит, оно в ней есть. Кто осмелится мне сказать, что я не окажусь тем, кто восстановит род человеческий? Меня так долго искали, таинственные посланцы безгранично могущественной организации прибыли для обсуждения идей, изложенных в моих сочинениях. Так вот, я готов отступить, когда речь идет о том, чтобы, следуя моим советам, перейти от слов к делу и от изложенной мною теории к практике!»
Руссо все более оживлялся.
«Чего еще и желать! Время идет… Народы перестают быть забитыми, они идут друг за другом в темноте на ощупь; они образуют огромную пирамиду, которую будущие столетия увенчают бюстом Руссо, гражданина Женевы. Стремясь жить так, чтобы слова его не расходились с делом, он рисковал свободой, жизнью, то есть оставался верен своему девизу: „Vitam impendere vero“.
Увлекшись, Руссо сел за клавесин и окончательно забылся, извлекая из инструмента громкие, шумные, воинственные звуки.
Стемнело. Терезе надоело мучить своего пленника, и она заснула, сидя на стуле. Руссо с сильно бьющимся сердцем надел новую одежду, словно собирался на любовное свидание. Он некоторое время наблюдал за игрой своих черных глаз и нашел, что они у него живые и выразительные. Руссо остался собой доволен.
Он взял трость и, стараясь не разбудить Терезу, выскользнул из дома.
Спустившись по лестнице и открыв потайной замок входной двери, Руссо выглянул наружу, желая убедиться в том, что вокруг все тихо.
Не видно было ни одной кареты; на улице, по обыкновению, было много гуляющих; одни из них глазели на прохожих, как это принято и в наши дни; другие останавливались у окон лавок, разглядывая в лорнет хорошеньких продавщиц за прилавком.
В таком водовороте новый человек вряд ли привлек бы к себе внимание. Руссо торопливо шагнул на улицу; путь ему предстоял недолгий.
У двери, что указали Руссо, стоял уличный певец со скрипкой, издававшей пронзительные звуки. Эта музыка, к которой так чувствителен каждый истинный парижанин, разносилась на всю улицу; эхо отвечало издалека последними тактами куплета, пропетого скрипкой или самим музыкантом.
Трудно было вообразить что-либо более неблагоприятное для уличного движения, чем пробка, образовавшаяся из-за скопления слушателей. Прохожие вынуждены были обходить собравшихся либо слева, либо справа; те, что сворачивали налево, шли потом по улице, те же, что обходили толпу справа, следовали затем вдоль указанного Руссо дома и vice versa.
Руссо обратил внимание на то, что некоторые прохожие словно терялись по дороге, будто попадали в ловушку. Он понял: эти люди подходили к дому с тою же целью, что и он, и решился последовать их примеру — это было нетрудно.
Подойдя к кучке собравшихся, будто он тоже хотел послушать, он стал поджидать первого, кто будет проходить к дому, чтобы понаблюдать за ним. У Руссо, разумеется, было больше оснований для опасения, потому что он рисковал более других; он все не раз взвесил, прежде чем решил, что представился благоприятный случай.
Впрочем, ему не пришлось долго ждать. Ехавший по улице кабриолет рассек кружок слушателей надвое, прижав их к стенам домов. Руссо оставалось*сделать последний шаг… Наш философ убедился в том, что любопытных отвлек кабриолет; Руссо воспользовался тем, что все отвернулись от дома, и исчез в глубине подъезда.
Через несколько секунд он заметил лампу; под ней мирно сидел какой-то человек, по виду — отдыхавший после трудового дня лавочник, который читал газету или притворялся, что читает.
Услыхав шаги Руссо, человек поднял голову и выразительным жестом прижал палец к груди, освещенной лампой.
Руссо ответил на условный знак, прижав палец к губам.
Человек быстро встал и толкнул находившуюся справа от него и невидимую в деревянной обшивке стены дверь, которую он до этого закрывал спиной. Он указал Руссо на крутую лестницу, уходившую под землю.
Руссо вошел; дверь бесшумно и быстро за ним затворилась.
Опираясь на трость, Руссо стал спускаться. Ему не понравилось, что члены тайного общества заставляют его в качестве первого испытания спускаться с риском свернуть себе шею и переломать ноги.
Впрочем, лестница скоро кончилась. Руссо насчитал семнадцать ступенек, после этого в его лицо пахнул горячий воздух погреба.
Влажная духота была следствием того, что в этом погребе собралось довольно много людей.
Руссо увидал на стенах белые и красные гобелены, изображавшие разного рода рабочие инструменты, скорее символические, чем настоящие. Со сводчатого потолка спускалась одна-единственная лампа, отбрасывавшая зловещие отблески на лица почтенных с виду собравшихся, что сидели на деревянных скамьях и тихо между собою беседовали.
На полу не было ни паркета, ни ковра. Он был покрыт толстой тростниковой циновкой, заглушавшей шум шагов.
Появление Руссо не вызвало никакой сенсации. Казалось, никто не заметил, как он вошел.
Еще пять минут назад Руссо страстно желал такого приема. Однако теперь он был раздосадован невниманием.
Найдя свободное место на одной из задних скамеек, он сел там как мог скромнее, позади всех.
Он насчитал тридцать три человека. На возвышении стояло бюро, предназначенное для председателя.
СIII
ЛОЖА НА УЛИЦЕ ПЛАТРИЕР
Руссо обратил внимание на то, что присутствовавшие разговаривали несмело и сдержанно. Многие вообще не разжимали рта. И только три или четыре пары обменивались словами.
Те, кто не разговаривал, пытались даже спрятать лица, и это им вполне удавалось благодаря тени, которую отбрасывало возвышение для ожидаемого председателя.
В тени этого возвышения укрылись самые робкие. Зато двум-трем членам общества не терпелось познакомиться с товарищами. Они ходили взад и вперед, разговаривали; то один, то другой поминутно исчезал за дверью, скрытой за черным занавесом, на котором были изображены языки пламени.
Вскоре раздался звонок. Какой-то человек поднялся со скамьи, где он сидел вместе с другими масонами, и занял место за столом.
Он сделал несколько знаков руками и пальцами; все присутствующие повторили их вслед за ним; он прибавил последний знак, наиболее из всех выразительный, и объявил заседание открытым.
Господин этот был совершенно незнаком Руссо; за его внешностью богатого ремесленника скрывались немалая сила духа и такое красноречие, что ему позавидовал бы любой оратор.
Его речь была ясной и краткой. Он объявил, что члены ложи собрались для того, чтобы принять в свои ряды нового брата.
— Пусть вас не удивляет, — сказал он, — что мы пригласили вас в такое место, где не могут быть проведены обычные испытания. Верховные члены общества пришли к выводу, что в этом случае испытания излишни. Брат, которого мы сегодня принимаем, представляет собой светоч современной философии. Этот мудрец будет нам предан по убеждению, а не из страха. На того, кто постиг все тайны природы и премудрости человеческого сердца, невозможно произвести впечатление теми же приемами, какими можно запугать простого смертного, готового служить нам руками, волей, деньгами. А чтобы добиться сотрудничества с этим выдающимся человеком благородного и деятельного характера, нам будет довольно его обещания, простого его согласия.
На этом оратор закончил свою речь и огляделся, желая убедиться в произведенном впечатлении.
На Руссо его слова оказали магическое действие: женевский философ знал все приготовительные таинства масонского братства; он взирал на них с отвращением, вполне объяснимым у просвещенных людей; все эти ненужные и потому бессмысленные испытания, каким высшие чины ложи подвергали новых членов, чтобы вызвать у них страх, когда всем известно, что бояться нечего, представлялись ему верхом ребячества и пустого суеверия.
Но что еще важнее, робкий философ был противником всего демонстративного, показного. Ему было бы нестерпимо участвовать в представлении перед незнакомыми людьми, которые к тому же мистифицировали бы его, пусть с более или менее добрыми намерениями.
Вот почему, видя, что его собираются освободить от испытаний, он почувствовал нечто большее, чем простое удовлетворение. Он знал, что все члены были равны перед строгими законами масонского братства. И потому исключение, которое для него готовы были сделать, он воспринял как огромную победу.
Он уже собирался в нескольких словах поблагодарить красноречивого и любезного председателя, как вдруг из зала послышался чей-то голос.
— Раз уж вам вздумалось обходиться словно с принцем с таким же человеком, как мы все, — едко и с дрожью проговорил кто-то, — раз уж вы освобождаете его от физических испытаний, как будто они уже перестали быть одним из наших символов поиска свободы духа через страдание плоти, то, по крайней мере, мы надеемся, что вы не собираетесь пожаловать драгоценное звание незнакомцу прежде, чем мы зададим ему вопросы согласно обычаю, чтобы выяснить, какую веру он исповедует.
Руссо обернулся, желая увидеть лицо воинственного господина, так чувствительно задевшего самолюбие торжествовавшего старика.
Он очень удивился, узнав молодого хирурга, которого он утром встретил на набережной Цветов.
Искренность да еще, может быть, презрение к "драгоценному званию" помешали ему ответить.
— Вы слышали? — спросил председатель, обращаясь к Руссо.
— Да! — отвечал философ, вздрогнув от собственного голоса, непривычно прозвучавшего под сводами мрачного погреба. — И я еще более удивился этому требованию, когда увидал, от кого оно исходит. Как! Человек, который по роду занятий обязан бороться с тем, что называется физическим страданием, и помогать братьям не только потому, что они масоны, но и обыкновенные люди, — этот человек проповедует пользу физических страданий!.. Он выбрал весьма необычный путь, чтобы привести человека к счастью, а больного — к выздоровлению.
— Речь здесь идет не о каком-то определенном лице, — живо возразил молодой человек. — Новый член общества не знает меня, как я не знаю его. Мои слова не лишены логики, и я смею утверждать, что уважаемому председателю следовало бы действовать не взирая на лица. Я не признаю в этом господине философа, — продолжал он, указав на Руссо, — пусть и он забудет о том, что я врач. И так нам придется, возможно, прожить всю жизнь, ни единым взглядом, ни единым жестом не выдав нашего знакомства, более близкого, впрочем, благодаря узам братства, чем обычная дружба. Еще раз повторяю: если вы сочли своим долгом освободить нового члена от испытаний, то сейчас самое время, по крайней мере, задать ему вопросы.
Руссо не проронил ни слова. Председатель понял по его лицу, что ему неприятен этот спор и он сожалеет о том, что ввязался в это дело.
— Брат! — властно проговорил он, обратившись к молодому человеку. — Не угодно ли вам помолчать, когда говорит руководитель, и не позволять себе обсуждать его действия: они суверенны.
— Я имею право сделать запрос, — вежливо возразил молодой человек.
— Сделать запрос — да, но не выступать с осуждением. Брат, вступающий в общество, слишком известен для того, чтобы мы привносили в наши отношения смешную и ненужную таинственность. Всем присутствующим здесь братьям известно его имя, и оно является гарантией. Однако, так как он сам, в чем я совершенно уверен, любит равенство, я прошу его ответить на вопрос, который я задаю только ради формы: чего вы ищете в сообществе?
Руссо сделал два шага вперед и, отделившись от толпы, обвел собрание задумчивым и грустным взглядом.
— Я ищу в нем то, — заговорил он, — чего не нахожу: истину, а не софизмы. Зачем вам направлять на меня кинжалы, которые не могут заколоть; зачем предлагать мне яд, если на самом деле это чистая вода; зачем бросать меня в люк, если внизу расстелен матрац? Я знаю, на что способны люди. Я знаю предел своих физических возможностей. Если вы их превысите, вам незачем будет выбирать меня своим братом. Будучи мертвым, я ни на что вам не пригожусь; следовательно, вы не хотите меня убивать, еще менее — ранить. Никто в целом свете не заставит меня поверить в необходимость такого посвящения, во время которого нужно было бы сломать мне руку или ногу.
Я больше вас всех изведал боль; я изучил тело и нащупал душу. Если я согласился прийти к вам, когда меня об этом попросили, — он подчеркнул это слово, — то только потому, что подумал: я смогу быть полезным. Таким образом, я даю, но ничего не получаю взамен. Увы! Прежде чем вы сможете как-то меня защитить; прежде чем вы своими силами сможете вернуть мне свободу, если я окажусь в тюрьме, дать мне хлеба, когда меня станут морить голодом, утешить меня, если меня опечалят; прежде чем, повторяю, вы станете действительной силой, брат, которого вы сегодня принимаете в свои ряды, если будет угодно этому господину, — прибавил он, взглянув на Марата, — этот брат уже отдаст дань природе, потому что прогресс и просвещение — вещи медлительные, а из того места, куда он попадет, никто из вас не сумеет его извлечь…
— Вы ошибаетесь, прославленный брат! — проникновенно произнес тихий голос, привлекший внимание Руссо. — Сообщество, в которое вы любезно согласились вступить, гораздо могущественнее, чем вы полагаете. Оно держит в своих руках будущее всего мира. А будущее, как вам известно, это надежда, это наука; будущее — это Бог, отдающий, как и обещал, свет людям. А Бог не может солгать.
Удивленный этой возвышенной речью, Руссо взглянул на собравшихся и узнал еще одного молодого человека, того самого, что назначил ему утром встречу.
Он был в черном элегантном костюме и стоял, прислонившись к боковой стенке возвышения; его лицо в неясном свете лампы казалось прекрасным, благородным и выразительным.
— Наука — это бездна! — воскликнул Руссо. — И вы еще будете говорить мне о науке! Утешения, будущее, обещания! Другой мне рассказывает о материи, выносливости и насилии. Кому я должен верить? Так, пожалуй, собрание братьев превратится в стаю голодных волков того мира, что шумит над нашими головами! Волки и овцы! Слушайте мой символ веры, раз вы не читали моих книг.
— Ваши книги! — вскричал Марат. — Они представляют собой нечто возвышенное, согласен! Но это утопии. Вы полезны так же, как Пифагор, Солон и софист Цицерон. Вы учите добру, но добру выдуманному, несуществующему, неприемлемому. Вы уподобляетесь тому, кто пытается накормить голодную толпу радужными мыльными пузырями.
— Видели ли вы когда-нибудь, — насупившись, возразил Руссо, — чтобы большие потрясения в природе происходили без предварительной подготовки? Наблюдали ли вы за рождением человека — событием обыкновенным и вместе с тем возвышенным? Обращали ли вы внимание на то, как он в материнской утробе девять месяцев готовится к жизни? А вы хотите, чтобы я обновил мир только действиями?.. Это не будет означать обновления, сударь, — это явилось бы революцией.
— Так вы, стало быть, против независимости? — яростно набросился на него молодой хирург. — Вы против свободы?
— Напротив, — отвечал Руссо, — независимость — это идол, которому я поклоняюсь, а свобода — моя богиня. Разница в том, что я желаю свободы нежной, радостной, которая согревает и оживляет. Я хочу такого равенства, что сближает друзей в дружбе, а не из страха. Я стремлюсь к тому, чтобы каждая частица общественного организма была образованна и воспитанна, как механик стремится к гармонии, а резчик по дереву — к сходству, то есть к безупречному подбору, исключительной сочетаемости всех деталей его работы. Я повторяю то, о чем уже писал: я призываю к прогрессу, согласию, самоотверженности.
На губах Марата блуждала презрительная улыбка.
— Да! Реки, кипящие млеком и медом! — подхватил он. — Елисейские поля Вергилия, поэтические мечты, которые философия надеется превратить в реальность.
Руссо не стал возражать. Он почувствовал, как нелегко отстаивать ему свою умеренность, ему, кого вся Европа считала яростным проповедником новых идей.
Чтобы успокоиться, наивный и робкий философ вопросительно взглянул на защищавшего его недавно господина и, получив его молчаливое одобрение, тоже молча сел.
Председательствовавший поднялся с места.
— Вы все слышали? — спросил он, обратившись к собранию.
— Да! — было ему ответом.
— Считаете ли вы этого господина достойным вступления в общество? Верно ли он понимает свои обязанности?
— Да, — отвечали собравшиеся, однако довольно сдержанно, что свидетельствовало о том, что до единодушия далеко.
— Принесите клятву! — обратился председатель к Руссо.
— Мне было бы неприятно думать, — высокомерно отвечал философ, — что я не понравился кому-либо из членов общества, и я должен еще раз повторить то, о чем сейчас только говорил и в чем совершенно убежден. Если бы я был оратором, я сумел бы развить свою мысль так, чтобы она захватила всех. Однако мой язык меня не слушается и искажает мою мысль, когда я прошу его немедленно ее передать. Я хотел бы сказать, что делаю гораздо больше и для мира, и для всех вас, находясь вне этого общества, чем если бы я старательно исполнял все ваши обычаи. Так позвольте мне остаться за моим занятием, с моими слабостями, в одиночестве. Как я уже сказал, я одной ногой в могиле: огорчения, болезни, нищета толкают меня туда. Вам не задержать этого великого действа природы. Оставьте меня, я создан не для того, чтобы шагать в одном строю с другими людьми, я их ненавижу и избегаю. Впрочем, я служу им, потому что я сам человек, и, отдавая им свои силы, верю в то, что они становятся лучше. Теперь вы полностью знакомы с моими мыслями, мне нечего прибавить.
— Так вы отказываетесь принести клятву? — в некотором волнении спросил Марат.
— Решительно отказываюсь. Я не желаю быть членом общества. Я вижу слишком много доказательств тому, что буду бесполезен.
— Брат! — миролюбиво заговорил незнакомец. — Позвольте мне называть вас так, потому что мы в самом деле братья, невзирая на различия наших воззрений. Итак, брат, не поддавайтесь минутной досаде, вполне естественной. Принесите в жертву свою законную гордость. Сделайте ради нас то, что вам неприятно. Ваши советы, ваши мысли, само ваше присутствие несет свет! Не ввергайте нас во мрак.
— Вы ошибаетесь, — возразил Руссо, — я ничего вас не лишаю, я всегда давал любому своему читателю, любому газетчику то, что и всему миру; если вам нужны имя и сущность Руссо…
— Нужны! — вежливо подхватили несколько голосов.
— Тогда возьмите собрание моих сочинений, разложите книги на столе председателя и, когда вы перейдете к обсуждению какого-нибудь вопроса и настанет моя очередь высказать свое мнение, раскройте мою книгу: вы найдете там мое мнение, мое суждение.
Руссо шагнул к выходу.
— Одну минутку! — остановил его хирург. — Свобода воли должна быть для каждого: и для прославленного философа, и для всех остальных. Однако было бы неверно допускать в наше святилище любого непосвященного, который, не будучи связан никаким условием, даже устным, мог бы выдать наши тайны.
Руссо взглянул на него и снисходительно улыбнулся.
— Вы требуете, чтобы я поклялся молчать? — спросил он.
— Вы сами об этом сказали.
— Извольте.
— Будьте любезны прочитать клятву, уважаемый брат, — проговорил Марат.
"Уважаемый брат" прочел клятву:
"Клянусь перед лицом всемогущего Бога, Создателя всего сущего, в присутствии верховных членов и уважаемого собрания никогда не передавать ни устно, ни письменно, ни намеком ничего из того, что будет открыто, а в случае неосторожности готов осудить себя сам и буду наказан по законам великого основателя, все* вышестоящих членов и буду достоин гнева моих отцов".
Руссо протянул было руку, как вдруг незнакомец, внимательно слушавший и следивший за спором с превосходством, которое никто и не ставил под сомнение, хотя он ничем не выделялся из толпы, подошел к председателю и шепнул ему на ухо несколько слов.
— Вы правы, — согласился почтенный председатель и, обращаясь к Руссо, прибавил: — Вы обыкновенный человек, а не брат, вы человек чести, случайно оказавшийся среди нас и в том же положении, что и мы. И потому мы отрекаемся от нашего правила и просим лишь дать честное слово забыть обо всем, что между нами произошло.
— Клянусь честью, что забуду все, как утренний сон! — в волнении отвечал Руссо.
С этими словами он вышел, а за ним и многие члены ложи.
CIV
ОТЧЕТ
После того, как вышли братья второго и третьего разрядов, в ложе остались семь братьев, семь верховных членов.
Они узнали друг друга благодаря условному знаку, доказывавшему, что они посвящены в высшую степень.
Прежде всего они позаботились о том, чтобы двери были заперты. Затем их, глава обнаружил себя, показав братьям перстень с выгравированными на нем таинственными буквами L.-.P.-.D.
Он был уполномочен поддерживать самые главные связи ордена и состоять в сношениях с шестью другими верховными членами, проживавшими в Швейцарии, России, Америке, Швеции, Испании и Италии.
Он принес некоторые весьма важные известия, которые получил от своих собратьев для передачи кругу посвященных, занимавших положение более высокое, чем остальные, но более низкое, чем он сам.
Мы узнали в этом верховном члене Бальзамо.
Наиболее важным сообщением было письмо, в котором содержались угрожающие сообщения. Оно пришло из Швеции от Сведенборга.
"Следите за югом, братья! — говорилось в нем. — Под обжигающим солнцем пригрелся предатель. Этот предатель вас погубит.
Следите за Парижем, братья! Предатель находится там. В его руках тайны ордена, им движет ненависть.
Предательство носится в воздухе, я слышу его едва уловимый шепот. Мне было открыто, что месть будет ужасной, но она, возможно, придет слишком поздно. А пока — берегитесь, братья! Будьте осторожны! Иногда бывает довольно одного предателя, пусть недостаточно сведущего, чтобы разрушить все наши тщательно подготовленные планы".
Братья удивленно переглянулись, не проронив ни слова. Слова сурового ясновидца, его предвидение, подтверждаемое многочисленными примерами, еще более омрачили членов комитета, возглавляемого Бальзамо.
Он тоже доверял ясновидению Сведенборга. По прочтении письма у него появилось болезненное ощущение того, что грядет нечто очень страшное.
— Братья! — провозгласил он. — Вдохновенный пророк ошибается редко. Будьте же бдительны, как он вас к тому призывает. Вы не хуже меня знаете, что вот-вот начнется борьба. Давайте же постараемся, чтобы нас не одолели враги, которых мы способны без труда устранить. Не забывайте, что они располагают целым штатом наемных шпионов. Это самое сильное оружие в нашем мире, где взгляды людей простираются не далее границ земной жизни. Братья, будем же остерегаться подкупленных предателей!
— Эти опасения кажутся мне ребяческими, — раздался чей-то голос. — У нас с каждым днем прибывают силы, нас уверенно ведут за собой блестящие умы.
Бальзамо поклонился, благодаря льстеца за похвалу.
— Да, это так! Однако, как сказал наш прославленный вождь, предательство просачивается отовсюду, — возразил брат, оказавшийся не кем иным, как хирургом Маратом, возведенным, несмотря на его молодость, в высшую степень, благодаря чему он присутствовал теперь впервые на подобном совещании. — Вспомните, братья, что, чем больше приманка, тем больше и добыча. Если господин де Сартин за кошелек экю может купить признания одного из наших неизвестных братьев, то министр, посулив миллион или высокий чин, может купить одного из наших верховных членов. Вот почему у нас принято, чтобы братья низших степеней ничего не знали. Самое большее, что им известно, это несколько сот имен товарищей, да и то эти имена сами по себе ничего не значат. Наш орден прекрасно организован, но эта организация весьма аристократична: низшие братья ничего не знают, ничего не могут; их собирают, чтобы сообщить или услышать от них ничего не значащие сведения. Впрочем, они тратят деньги и время для укрепления нашего здания. Задумайтесь над тем, что подручный каменщика приносит лишь камень и раствор, но сможете ли вы без камня и раствора построить дом? Итак, этот подручный получает скудное вознаграждение, однако я склонен рассматривать его наравне с архитектором, по плану которого создается все здание. А еще я считаю архитектора и каменщика равными друг другу потому, что, с философской точки зрения, последний тоже человек, такой же человек, как и все, он несет свою долю несчастий, отпущенных ему судьбой, и даже в большей степени, чем другие: на него может упасть камень, или под ним могут рухнуть леса.
— Я позволю себе вас прервать, брат, — вмешался Бальзамо. — Вы отклонились от занимающей нас темы. Ваш недостаток, брат, заключается в излишнем усердии и стремлении к обобщениям. Сегодня мы не обсуждаем, хороша или плоха наша организация. Нам необходимо укрепить свои ряды, сплотиться внутри нашего общества. Если бы я собирался с вами дискутировать, я ответил бы вам следующим образом: нет, орган, производящий движение, не может быть приравнен к гению создателя. Нет, рабочий не может рассматриваться наравне с архитектором; нет, мозг и рука не равны друг другу.
— Допустим, что господин де Сартин схватит одного из наших братьев низшего ранга, — вскричал Марат, — разве он не сгноит его в Бастилии точно так же, как вас и меня?
— Согласен. Однако в первом случае ущерб будет лишь для индивида, а не для ордена, который должен для нас быть превыше всего, а вот если в тюрьму попадет верховный член, движение остановится: если нет генерала, армия проигрывает сражение. Так радейте же, братья, о спасении вождей!
— Да, но пусть и они о нас заботятся!
— Это их долг.
— И пусть за свои ошибки они расплачиваются вдвойне.
— Еще раз вынужден повторить, брат мой, что вы удаляетесь от установлений ордена. Разве вам не известно, что клятва, объединяющая всех членов нашего братства, едина и предусматривает для всех одинаковое наказание?
— Знатные всегда найдут возможность его избежать.
— Сами они придерживаются другого мнения, брат. Послушайте конец письма нашего пророка Сведенборга, одного из наших верховных членов. Вот что он прибавляет:
"Зло придет от одного из верховных членов, от очень высокого чина ордена, если же и не от него лично, его вина от этого не будет меньшей; помните, что огонь и вода могут быть заодно; один дает свет, другая — откровения.
Будьте бдительны, братья! Следите за всем и вся, следите!"
— Тогда давайте повторим связывающую нас клятву, — продолжал Марат, ухватившись в речи Бальзамо и письме Сведенборга за то, из чего он рассчитывал извлечь выгоду, — давайте пообещаем сдержать ее во всей строгости, кем бы ни оказался предавший или послуживший причиной предательства.
Бальзамо некоторое время собирался с мыслями, затем поднялся с места и произнес священные слова, уже знакомые нашим читателям. Он говорил медленно, торжественно, угрожающе.
— "Во имя распятого Бога-сына клянусь порвать плотские связи, соединяющие меня с отцом, матерью, братьями, сестрами, женой, близкими, друзьями, любовницами, монархами, благодетелями — с любым существом, которому я обещал верность, повиновение или помощь.
Клянусь открыть начальнику, которого я признаю согласно статуту ордена, то, что я видел или совершил, прочел или о чем слышал, узнал или догадался, а также выведывать или искать то, что не сразу откроется моему взору.
Клянусь отдавать должное яду, мечу и огню как средствам очищения земного шара смертью или одурманиванием врагов истины или свободы.
Клянусь соблюдать закон молчания. Я готов умереть, пораженный громом и молнией, в тот день, когда заслужу наказание, и я встречу без стонов удар ножа, который настигнет меня в любом уголке земного шара, где бы я ни находился".
Семь человек, составлявших мрачное собрание, слово в слово повторили клятву, поднявшись и обнажив головы.
Когда клятва была произнесена, снова заговорил Бальзамо:
— Мы заручились клятвой. Давайте же не отвлекаться от предмета нашей беседы. Я должен представить комитету отчет об основных событиях года.
Мое управление нашими делами во Франции будет представлять некоторый интерес для ваших просвещенных и пытливых умов.
Итак, я начинаю.
Франция есть центр Европы, как сердце в живом организме. Она живет сама и дарит жизнь. Стоит ей взволноваться, как весь организм чувствует недомогание.
Я приехал во Францию и поступил с Парижем, как доктор поступает с больным сердцем: я выслушал, ощупал, провел наблюдения. Когда год назад я к нему только приблизился, монархия недомогала; сегодня пороки ее убивают. Мне следовало ускорить действие этих губительных оргий, а для этого я им способствовал.
У меня на пути было одно препятствие в лице человека. Это был не просто первый, но и самый могущественный человек в государстве после короля.
Он был наделен некоторыми из тех качеств, что нравятся другим людям. Правда, он был чрезмерно честолюбив, однако он умело вплетал честолюбие в свои дела. Он знал, как смягчить порабощение народа, заставив его поверить, а иногда воочию убедиться в том, что народ — часть государства; советуясь с ним временами о его нуждах, он поднимал знамя, вокруг которого всегда объединяют массы: это дух нации.
Он ненавидел англичан, естественных врагов Франции. Он ненавидел фаворитку, всегдашнего врага народа. И вот если бы этому человеку суждено было бы когда-нибудь стать узурпатором, если бы он стал одним из нас, если бы он следовал нашим путем, действовал в наших интересах, я берег бы его, он нашел бы у меня всяческую поддержку, я ничего бы для него не пожалел. Ведь вместо того чтобы подправлять прогнивший трон, он опрокинул бы его вместе с нами в назначенный день. Но он принадлежал к аристократическому классу, у него в крови было почитание верховной власти — он на нее не претендовал, монархии — на нее он не осмеливался замахнуться; он бережно относился к королевской власти, хотя и презирал короля; он делал еще больше: он служил щитом этой самой власти, на которую были направлены наши удары. Парламент и народ были преисполнены уважения к этой живой преграде расширению королевской прерогативы и оказывали ему лишь умеренное сопротивление, уверенные в том, что им будет обеспечена мощная поддержка, когда придет их час.
Я понял, как сложились обстоятельства. Я подготовил падение господина де Шуазёля.
Это сложное дело, за которое все десять лет брались многочисленные заинтересованные лица, питавшие ненависть к министру, я начал и завершил всего за несколько месяцев при помощи таких средств, о которых не стоит рассказывать. Благодаря некой тайной силе, являющейся моим оружием, тем более мощным, что оно останется навсегда скрыто от всех глаз, я опрокинул, прогнал господина де Шуазёля, а вслед за ним потянулся длинный шлейф сожалений, разочарований, жалоб и озлоблений.
И вот теперь мой труд приносит плоды: вся Франция требует вернуть Шуазёля и встанет на его защиту, как сироты обращаются к Небу, когда Бог прибирает их родителя.
Парламенты пользуются своим единственным правом: правом бездеятельности. И вот уже они прекратили свои заседания. В хорошо налаженном организме, каким должно быть сильное государство, остановка одного из основных органов смертельна. Парламент выполняет в общественном организме роль желудка: как только он перестает работать, народ — потроха государства — тоже не работает, а следовательно, и не платит. Таким образом, становится ощутимой недостача золота, выполняющего функцию крови в этом организме. Правительство, разумеется, захочет бороться. Однако кто станет воевать против народа? Уж во всяком случае, не армия, дочь народа, питающаяся хлебом хлебопашца и пьющая вино виноградаря. Остаются военная свита короля, привилегированные части, гвардия, швейцарцы, мушкетеры — всего пять-шесть тысяч человек! Что может сделать эта горстка пигмеев, когда народ поднимается, подобно великану?
— Так пусть поднимается, пусть! — закричали сразу несколько голосов.
— Да, да! За дело! — крикнул Марат.
— Молодой человек, я не просил еще вашего совета, — холодно остановил его Бальзамо. — Такое возмущение масс, — продолжал он, — такое восстание слабых, почувствовавших свою силу в единстве и сплоченности против одинокого гиганта, могло бы быть вызвано сейчас только незрелыми умами! И оно было бы достигнуто без особых усилий, что меня особенно пугает. Однако я все хорошо обдумал, изучил, взвесил. Я спустился в народные глубины, облекся в одежды народа и проникся его сущностью, выносливостью, грубостью, я увидел его так близко, что сам стал его частью. Итак, сегодня я могу сказать, что знаю его. И я не ошибусь в его оценке. Он силен, но невежествен; его легко возмутить, но он незлопамятен — одним словом, он еще не созрел для такого восстания, каким я его себе мыслю и хотел бы видеть. Ему не хватает знаний, которые помогают видеть события с двух сторон — с точки зрения истории и с точки зрения их полезности. Ему не хватает памятливости, чтобы запомнить свой собственный опыт.
Он похож на дерзких юношей, какие мне встречались в Германии на народных гуляньях: они отважно взбирались на самую верхушку корабельной мачты, к которой ландфогт приказывал привязать окорок и серебряный кубок. Разгоряченные желанием достать приз, они бросались к мачте и необыкновенно проворно взбирались вверх. Но когда они почти достигали цели, когда оставалось лишь протянуть руку и схватить приз, силы их оставляли и они падали под свист толпы.
В первый раз это случалось с ними так, как я только что описал; в другой раз они сберегали силы и следили за дыханием; однако, затрачивая больше времени на подъем, они падали из-за медлительности, как в первый раз — из-за поспешности. Наконец, в третий раз они находили золотую середину и благополучно взбирались наверх. Вот план, что я обдумываю. Попытки, бесконечные попытки приближают нас к цели вплоть до того дня, когда верная удача позволит нам ее достичь.
Бальзамо замолчал и оглядел нетерпеливых слушателей, кипевших молодостью и неопытностью.
— Говорите, брат, — разрешил он Марату, волновавшемуся более других.
— Я буду краток, — начал Марат. — Попытки только утомляют народ, если и вовсе не расхолаживают. Попытки — это в духе господина Руссо, гражданина Женевы, великого поэта, но гения робкого, гражданина бесполезного, которого Платон изгнал бы из своей республики! Ждать! Опять ждать! Со времен эмансипации коммун и восстания майотенов вы ждете уже семь столетий! Пересчитайте, сколько поколений умерло в ожидании, и попробуйте после этого произнести это роковое слово: "Ждать!" Господин Руссо говорит нам об оппозиции, какой она была в пору великого века, когда ее представляли перед маркизами и у ног короля Мольер со своими комедиями, Буало со своими сатирами, Лафонтен со своими баснями.
Жалкая и немощная оппозиция, ни на йоту не приблизившая счастья человечества. Все это сказочки для маленьких детей. Рабле тоже занимался политикой в вашем понимании, однако такая политика вызывает только смех и ничего более. Видели ли вы за последние триста лет, чтобы хоть одно злоупотребление властей было исправлено? Довольно с нас поэтов! Довольно теоретиков! Труд, действие — вот что нам необходимо! Мы уже три столетия пытаемся вылечить Францию с помощью медицины — настала пора вмешаться хирургии со скальпелем в руках. Общество поражено гангреной, остановим же ее железом! Ждать может только тот, кто, встав из-за стола, ложится на пуховую перину, с которой рабы сдувают лепестки роз, потому что полный желудок сообщает мозгу нежные пары, веселящие и радующие его. А вот голод, нищета, отчаяние отнюдь его не насыщают; стихи, сентенции, фаблио не приносят облегчения. Нищие громко кричат от голода. Только глухой может не слышать этих стонов. Пусть будет проклят тот, кто не отвечает на них. Восстание, даже если оно будет подавлено, прояснит умы больше, чем целое тысячелетие наставлений, больше, чем три столетия примеров; восстание покажет в истинном свете королей, если и не опрокинет их вовсе. А этого уже много, этого уже довольно!
Послышался одобрительный шепот.
— Где наши враги? — продолжал Марат. — Это те, кто в обществе выше нас; они охраняют вход во дворцы, занимают ступеньки вокруг трона. На этом троне — палладий, который они охраняют с еще большим усердием и страхом, чем троянцы. Ведь этот самый палладий делает их всемогущими, богатыми, заносчивыми — вот что такое для них королевская власть. К королю можно подобраться только через трупы тех, кто его охраняет, как можно захватить генерала, разбив батальон его охраны. Если верить истории, много батальонов было разбито, много генералов взято в плен со времен Дария вплоть до короля Иоанна, начиная от Регула и до Дюгеклена.
Разобьем гвардию — и мы доберемся до идола. Разгромим сначала часовых — и мы одолеем командира. Первая атака — на придворных, на благородных, на аристократов! Последняя — на короля! Сочтите всех привилегированных: наберется едва ли двести тысяч. Пройдитесь с острым мечом в руках по прекрасному саду под названием "Франция" и срубите эти двести тысяч голов, как поступил Тарквиний на маковом поле в Лации, — и делу конец. После этого две силы предстанут одна против другой: народ и король. Король — не более чем символ — попытается бороться с народом, этим колоссом. Вот тогда вы увидите, на чьей стороне будет победа. Когда карлики нападают на великана, они начинают с пьедестала. Когда дровосеки хотят срубить дуб, они рубят под корень. Дровосеки! Дровосеки! Возьмемся за топор, начнем с корней, и придет час, когда древний дуб окажется на земле.
— И раздавит вас, как пигмеев, в своем падении, несчастные! — громовым голосом вскричал Бальзамо. — Вы обрушиваетесь на поэтов, а сами говорите еще более поэтично, более образно, чем они! Брат, брат! — продолжал он, обращаясь к Марату. — Вы заимствовали эти слова, я в этом уверен, из какого-нибудь романа, который вы пописываете в своей мансарде.
Марат покраснел.
— Знаете ли вы, что такое революция? — продолжал Бальзамо. — Я видел их сотни две и могу вам о них рассказать. Я видел революции в Древнем Египте, Ассирии, Греции, Риме, Византийской империи. Я был свидетелем средневековых революций, когда одни люди бросались на других, Восток шел стеной на Запад, а Запад — на Восток, люди резали друг друга, не умея договориться. Со времен резни, учиненной царями-пастухами, и до наших дней произошла, может быть, сотня революций. Вы жаловались, что живете в рабстве. Значит, революции ни к чему не приводят. А почему? Потому что те, кто производил революцию, страдали одним и тем же недугом: нетерпением.
Разве Бог, направляющий революции смертных, торопится?
"Срубите, срубите дуб!" — кричите вы, вместо того чтобы сообразить: дуб падает всего одну секунду и покрывает собою площадь, которую лошадь, пущенная вскачь, будет обегать в тридцать секунд. Значит, те, что будут рубить дуб, не смогут избежать его стремительного падения и окажутся погребены под его необъятной кроной. Вы этого хотите? Ну так от меня вам этого не добиться. Я, подобно Богу, сумел прожить двадцать, тридцать, сорок человеческих жизней. Я, как Бог, вечен и, так же как он, терпелив. Я несу свою судьбу, а вместе с ней — вашу и всего человечества, в своих руках. Никто не заставит меня разжать руки, полные потрясающих истин. Ведь это было бы подобно громовому раскату. И я знаю это! Молния так же надежно спрятана в моей руке, как во всемогущей Божьей деснице.
Господа! Господа! Давайте оставим эти высоты и спустимся на землю.
Господа! Скажу вам просто и убежденно: еще не время! Нынешний король, последний потомок великого предка, еще почитаем в народе; в его величии есть нечто такое, что способно погасить вспышки вашего гнева. Тот, что сейчас у власти, — настоящий король и умрет королем. Его происхождение написано у него на лбу, оно определяется по жесту, по звуку голоса. Этот властитель всегда останется королем. Если мы его свалим, произойдет то, что уже было с Карлом Первым: палачи первые падут перед ним ниц, а придворные, виновные в его несчастье, вроде лорда Кейпела, станут лобызать топор, отсекший голову их господину.
Как все вы, господа, знаете, Англия поторопилась. Король Карл Первый умер на эшафоте, это верно. Однако Карл Второй, его сын, умер на троне.
Подождите, подождите, господа! Сейчас время играет нам на руку.
Вы хотите растоптать лилии. Это наш общий девиз: "Lilia pedibus destrue". Но нужно сделать это так, чтобы не осталось ни единого корешка, позволявшего надеяться на то, что цветок Людовика Святого распустится еще раз. Вы хотите уничтожить королевскую власть? Чтобы королевской власти более не существовало, необходимо прежде всего навсегда ослабить ее престиж и ее основы. Вы хотите уничтожить королевскую власть? Дождитесь, пока королевская власть перестанет быть служением религии и превратится в должность, подождите, пока обязанности короля будут исполняться не в храме, а в лавке. Таким образом королевская власть лишится своего священного смысла, то есть король перестанет быть законным преемником и наместником Бога на земле, и власть его будет утрачена навсегда. Слушайте! Слушайте! Этот непобедимый, непреодолимый барьер между нами, ничтожествами, и существами почти божественными… Народ никогда не осмеливался переступить ту грань, которая зовется наследственным правом на престол. Эти слова сияли, словно маяк в ночи, и до сего дня оберегали королевскую власть от крушения. И вот теперь этим словам суждено угаснуть под влиянием роковой тайны.
Принцесса, привезенная во Францию для продолжения королевского рода, добавив к нему свою императорскую кровь, принцесса, год назад ставшая супругой наследника французского престола… Подойдите ближе, господа: я бы не хотел, чтобы мои слова вышли за пределы вашего круга.
— Так что же? — беспокойно переспросили шесть верховных членов.
— Так вот, господа: дофина — пока девственница!
Зловещий ропот, способный напугать сразу всех королей — столько в нем было злорадства и мстительного торжества, — вырвался, словно отравленная стрела, из тесного круга сомкнутых шести голов, а над ними словно парил Бальзамо, наклонившись с возвышения.
— При таком положении вещей, — продолжал Бальзамо, — представляются возможными два пути, оба одинаково благоприятные для достижения нашей цели.
Первая гипотеза заключается в том, что дофина останется бездетной. В этом случае род угаснет и будущее не обещает нашим друзьям ни боев, ни трудностей, ни сомнений. Светлое будущее наступит само собой, благодаря тому, что этому роду предопределено вымирание, как уже случалось во Франции всякий раз, когда наследников престола оставалось трое. Так было с сыновьями Филиппа Красивого: Людовик Сварливый, Филипп Длинный и Карл Четвертый, умершие бездетными после того, как поочередно сидели на королевском троне. Так случилось и с тремя сыновьями Генриха Второго: Франциском Вторым, Карлом Девятым и Генрихом Третьим, скончавшимися бездетными после того, как каждый из них побывал у власти. Подобно им, его высочество дофин, граф Прованский и граф д’Артуа один за другим будут править страной и все трое умрут бездетными, как их предки: таков закон судьбы.
А затем, как после Карла Четвертого, последнего из рода Капетингов, пришел Филипп Шестой Валуа, родственник по боковой линии предыдущих королей; после того как Генриха Третьего, последнего из рода Валуа, сменил Генрих Четвертый Бурбон, побочный родственник предыдущего рода; после графа д’Артуа, записанного в книге судеб как последнего из королей старейшего рода, придет, быть может, какой-нибудь Кромвель или Вильгельм Оранский, чужак либо по крови, либо по праву наследования.
Вот что нам дает первая гипотеза.
Вторая заключается в том, что у ее высочества будут дети. Вот прекрасная ловушка для наших врагов, куда они попадутся, будучи уверенными в том, что загнали в нее нас с вами. Если ее высочество не останется бездетной, если она станет матерью, ах, как все при дворе возрадуются и будут считать, что королевская власть во Франции укрепилась! У нас тоже будут причины для радости: мы будем располагать тайной столь страшной, что никакой престиж, никакая власть, никакие усилия не умалят известных лишь нам преступлений и не спасут от несчастий, грозящих будущей королеве из-за ее плодовитости. Мы без труда докажем, что наследник, которого она подарит трону, — незаконный, а ее плодовитость мы объявим результатом супружеской неверности. Рядом с этим мнимым счастьем, словно посланным Небом, бездетность покажется ее высочеству великой милостью Божьей. Вот почему я воздерживаюсь, господа. Вот почему я выжидаю, братья! Вот почему, наконец, я считаю бесполезным разжигать сегодня страсти в народе: я смогу употребить их с пользой, когда настанет час.
Теперь, господа, вы знаете, что было сделано за этот год. Вы видите, как мы продвинулись. Можете быть уверены, что мы победим благодаря гению и отваге тех, кто будет глазами и мозгом; благодаря настойчивости и трудам тех, кто будет руками; благодаря вере и преданности тех, кто будет сердцем нашего союза. Вы должны проникнуться необходимостью слепого повиновения. Помните, что ваш руководитель тоже подчинится воле статутов ордена в тот день, когда эти статуты того потребуют.
На этом, господа, на этом, возлюбленные братья, я и закрыл бы заседание, если бы мне не надо было совершить еще одно благое дело и указать на зло.
Сегодня нас посетил великий писатель. Он был бы уже в наших рядах, если бы неуместное усердие одного из наших братьев не испугало его робкое сердце. Писатель был совершенно прав, когда говорил о нашем собрании, и я рассматриваю как огромное несчастье тот факт, что посторонний одержал верх над большинством братьев, плохо знающих наши правила и не имеющих понятия о нашей конечной цели.
Руссо, победивший софизмами, взятыми из своих книг, истины нашего братства, указал на серьезный порок, который я выжег бы каленым железом, если бы у меня не оставалась надежда излечить его при помощи убеждения. У одного из наших братьев болезненно развито самолюбие. Оно привело к тому, что в этой дискуссии мы потерпели поражение. Надеюсь, что это более не повторится, в противном случае мне придется прибегнуть к дисциплинарным мерам.
Теперь, господа, призываю вас к тому, чтобы вы распространяли нашу веру добром и убеждением. Действуйте внушением, не навязывайте истину, не насаждайте ее против воли, огнем и мечом, как инквизиторы или палачи. Не забывайте, что мы станем великими, только когда сумеем стать добрыми, а нас признают добрыми лишь в том случае, если мы будем казаться лучше тех, кто нас окружает. Запомните также, что лучшие и добрейшие из нас — ничто без науки, искусства и веры. Наконец, они ничтожны по сравнению с теми, кого Господь отметил особым даром руководить людьми и управлять империями!
Господа! Заседание закрыто.
С этими словами Бальзамо надел шляпу и завернулся в плащ.
Посвященные в полном молчании расходились по одному, дабы не вызвать подозрений.
Назад: ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Дальше: CV ТЕЛО И ДУША

