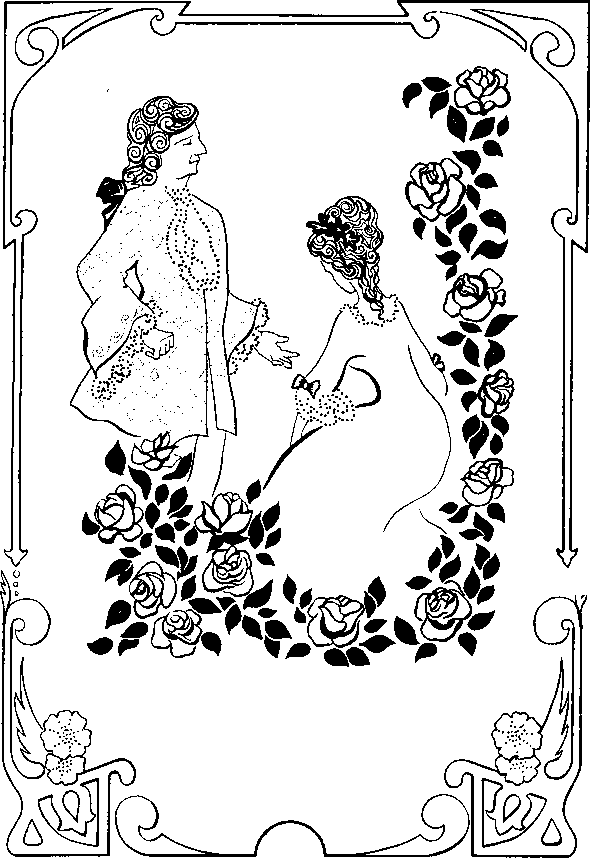Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 19.Джузеппе Бальзамо. Часть 4,5
Назад: Александр Дюма Джузеппе Бальзамо (Записки врача)
Дальше: XCVI ПАРЛАМЕНТЫ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
LXXXVIII
КОРОЛЕВСКАЯ ДОЛЯ
Оставшись один, герцог д’Эгильон почувствовал было себя неловко. Он прекрасно понял все, что хотел сказать ему дядюшка, отлично понял, что г-жа Дюбарри подслушивала, несомненно понял, что умному человеку следовало в этом случае стать возлюбленным и в одиночку разыграть партию, для которой старый герцог пытался подыскать ему товарища.
Прибытие короля весьма удачно положило конец объяснению, неизбежному, несмотря на пуританскую сдержанность г-на д’Эгильона.
Маршала невозможно было долго обманывать, он был не из тех, кто позволил бы другим выставлять напоказ свои достоинства, которых недостает ему самому.
Когда д’Эгильой остался один, он успел хорошенько обо всем подумать.
А король в самом деле был уже близко. Его пажи уже распахнули двери приемной, а Замор бросился к монарху, выпрашивая конфет с трогательной фамильярностью, что, правда, в минуты мрачного расположения духа его величества стоила негритенку щелчков по носу или трепки за уши, очень неприятной для него.
Король уселся в китайском кабинете, и д’Эгильон смог убедиться в том, что г-жа Дюбарри не упустила ни единого слова из его разговора с дядюшкой; теперь сам д’Эгильон все слышал и таким образом оказался свидетелем встречи короля с графиней.
Его величество казался очень утомленным, подобно человеку, поднявшему непосильную тяжесть. Атлас, верно, поддерживая на плечах небо целых двенадцать часов, не испытывал такого изнеможения после своих трудов.
Любовница поблагодарила, похвалила, приласкала Людовика XV; она расспросила его об откликах на ссылку г-на де Шуазёля, и это ее развлекло.
Графиня Дюбарри решила рискнуть. Настало подходящее время для того, чтобы заняться политикой; кстати, она чувствовала в себе довольно отваги, чтобы сотрясти одну из четырех частей света.
— Сир, вы разрушили — это хорошо, — заговорила она, — вы сломали — это великолепно; но ведь теперь надо заново строить.
— О! Уже все свершилось, — небрежно отвечал король.
— Вы составили кабинет министров?
— Да.
— Вот так сразу, не успев перевести дух?
— Право, меня окружают тупицы. Вы рассуждаете как женщина. Вы же сами мне недавно говорили: прежде чем выгнать старого повара, вы присмотрели нового; не так ли?
— Повторите еще раз: вы уже сформировали кабинет?
Король приподнялся с огромной софы, где он полулежал, в качестве подушки пользуясь главным образом плечиком красавицы-графини.
— Судя по тому, как вы взволнованы, Жаннетта, — обратился он к ней, — можно подумать, что вы знаете мой кабинет министров настолько, чтобы его осудить, и можете предложить мне другой.
— Вы недалеки от истины, сир, — отвечала она.
— В самом деле?.. У вас есть кабинет?
— Да ведь у вас же он есть! — возразила она.
— Я — другое дело, графиня. Это моя обязанность. Ну, теперь посмотрим, кто же ваши кандидаты?
— Сначала назовите своих.
— С удовольствием — чтобы подать вам пример.
— Начнем с морского министерства, где распоряжался милейший господин де Прален.
— Опять вы за свое, графиня. Нет, это будет милейший человек, который никогда не видел моря.
— Полноте!
— Клянусь честью! Великолепно придумано! Я буду любим народом, и мне будут поклоняться на самых далеких морях — вернее, моему изображению на монетах.
— Кого же вы предлагаете, сир? Ну кого?
— Держу пари на тысячу против одного, вы ни за что не угадаете.
— Чтобы я угадала имя человека, способного сделать вас популярным? Признаться, нет…
— Человек из парламента, дорогая… Первый президент парламента в Безансоне.
— Господин де Буан?
— Он самый… Ах, черт возьми, как хорошо вы осведомлены!.. И вы знакомы с такими людьми?
— Приходится: вы мне рассказываете целыми днями о парламенте. Однако этот господин не знает даже, что такое весло.
— Тем лучше. Господин де Прален очень хорошо знал свое ведомство и очень дорого мне обходился со своим строительством кораблей.
— Ну, а финансы, сир?
— Финансы — совсем другое дело, для них я подобрал сведущего человека.
— Финансиста?
— Нет… военного. Финансисты и так слишком долго обгладывают меня.
— Господи помилуй, кто же тогда будет в военном министерстве?
— Успокойтесь. Туда я поставлю финансиста Террэ. Он знаток по части счетов и найдет ошибки во всех бумагах господина де Шуазёля. Признаюсь вам, я нарочно, чтобы польстить философам, сначала решил поставить во главе военного министерства человека безупречного, чистоплотного, как они говорят.
— Ну-ну, кто же это? Вольтер?
— Почти угадали, шевалье де Мюи… Это настоящий Катон.
— О Боже! Я в ужасе!
— Дело уже было сделано… Я вызвал этого человека, его назначение подписано, он меня поблагодарил, и тут мой злой или добрый гений — судите сами, графиня, — подсказал мне пригласить его сегодня вечером в Люсьенн, чтобы побеседовать за ужином.
— Фи! Какой ужас!
— Да, графиня, именно так мне и ответил де Мюи.
— Он вам так сказал?
— В других выражениях, графиня. В общем, он мне сказал, что его самое горячее желание — служить королю, однако совершенно невозможно служить графине Дюбарри.
— До чего хорош этот ваш философ!
— Вы понимаете, графиня, я протянул руку… чтобы отобрать приказ о назначении; с невозмутимой улыбкой я разорвал его на мелкие клочки, и шевалье удалился. Людовик Четырнадцатый сгноил бы этого мерзавца в одной из отвратительных ям Бастилии. А меня, Людовика Пятнадцатого, парламент держит в повиновении, вместо того чтобы я сам заставлял его трепетать. Вот так!
— Все равно, сир, вы просто совершенство, — проговорила графиня, осыпая своего августейшего любовника поцелуями.
— Далеко не все с вами согласятся. Террэ просто осыпают проклятиями.
— А кого не осыпают?.. Кто у нас в министерстве иностранных дел?
— Славный Бертен, вы его знаете?
— Нет.
— Ну, значит, не знаете.
— Мне представляется, что среди всех, кого вы назвали, нет ни одного хорошего министра.
— Пусть так. Кого же предлагаете вы?
— Я назову одного.
— Вы не хотите говорить. Боитесь?
— Маршала.
— Какого маршала? — поморщившись, спросил король.
— Герцога де Ришелье.
— Старика? Эту мокрую курицу?
— Как же так? Завоеватель Маона — и вдруг мокрая курица!
— Старый развратник…
— Сир, это же ваш напарник.
— Распутник, не пропускающий ни одной юбки.
— Ну что вы! С некоторых пор он за женщинами больше не бегает.
— Не говорите о Ришелье никогда, он мне противен до последней степени; этот завоеватель Маона водил меня по всем парижским притонам… Про нас слагали куплеты. Нет, только не Ришелье! Одно его имя выводит меня из себя!
— Вы что же, ненавидите их?
— Кого?
— Семейство Ришелье.
— Они мне омерзительны.
— Все?
— Все. Один герцог и пэр господин Фронзак чего стоит! Его уже раз десять следовало бы колесовать.
— С удовольствием вам отдаю его. Но ведь есть и еще кое-кто из семейства Ришелье.
— Да, д’Эгильон.
— И что же?
Можно себе представить, как при этих словах племянник насторожился в будуаре.
— Мне следовало бы ненавидеть его больше других, потому что из-за него на меня набрасываются все крикуны, которые только есть во Франции. Но я не могу избавиться от слабости, которую я к нему питаю: он смел — вот за что я его люблю.
— Он умен! — воскликнула графиня.
— Да, это отважный человек, страстно защищающий королевские прерогативы. Настоящий пэр!
— Да, да, вы тысячу раз правы! Сделайте что-нибудь для него.
Скрестив руки на груди, король посмотрел на графиню Дюбарри.
— Как вы можете, графиня, предлагать мне герцога именно в то время, когда вся Франция требует от меня изгнать его и лишить герцогского достоинства.
Графиня Дюбарри тоже скрестила руки.
— Вы только что назвали Ришелье мокрой курицей, — промолвила она, — так вот: это прозвище прекрасно подходит вам.
— Графиня…
— Вы прекрасно выглядели, когда выслали господина де Шуазёля.
— Да, это было нелегко.
— Вы это сделали — прекрасно! А теперь опасайтесь последствий.
— Я?
— Разумеется! Что означает изгнание герцога?
— Я дал пинка парламенту.
— Почему же вы не хотите ударить дважды? Какого черта! Сделали один шаг — делайте и другой! Парламент хотел оставить Шуазёля — вышлите Шуазёля! Он хочет выслать д’Эгильона — оставьте д’Эгильона!
— Я и не собираюсь его высылать.
— А вы не просто оставьте его, а обласкайте, да так, чтобы это было заметно.
— Вы хотите, чтобы я доверил министерство этому скандалисту?
— Я хочу, чтобы вы вознаградили того, кто защищал вас в ущерб своему достоинству и своему состоянию.
— Скажите лучше: своей жизни, потому что его непременно побьют в ближайшие дни камнями за компанию с вашим другом Мопу.
— Вот бы порадовались ваши защитники, если бы слышали вас сейчас!
— Да они мне платят тем же, графиня.
— Вы несправедливы: факты говорят за себя.
— Вот как? Почему же вы просите за д’Эгильона с такой страстью?
— Страстью? Не знаю. Я видела его сегодня и с ним говорила впервые.
— Ну, это другое дело. Значит, это ваше убеждение, а я готов уважать любые убеждения, потому что у меня их не было никогда.
— Дайте тогда что-нибудь Ришелье ради д’Эгильона, раз не желаете ничего давать д’Эгильону.
— Ришелье? Нет, нет и нет, никогда и ничего!
— Тогда дайте господину д’Эгильону, раз ничего не даете Ришелье.
— Что? Доверить ему портфель министра? Теперь это невозможно.
— Понимаю… Но ведь можно позднее… Поверьте, что он изворотлив, это человек действия. В лице Террэ, д’Эгильона и Мопу у вас будет трехглавый Цербер; подумайте также о том, что кабинет министров, предложенный вами, просто смехотворен и долго не продержится.
— Ошибаетесь, графиня, месяца три он выстоит.
— Через три месяца я вам припомню ваше обещание.
— Ах, графиня!
— Так и условимся. А теперь подумаем о сегодняшнем дне.
— Да у меня ничего нет.
— У вас есть шеволежеры. Господин д’Эгильон — офицер, в полном смысле слова военный. Дайте ему шеволежеров.
— Хорошо, пусть берет.
— Благодарю! — в радостном порыве воскликнула графиня. — Благодарю вас!
И господин д’Эгильон услышал, как она совершенно плебейски чмокнула Людовика в щеку.
— А теперь угостите меня ужином, графиня.
— Не могу, — отвечала она, — здесь ничего не приготовлено; вы меня совсем уморили своими разговорами о политике… Все мои слуги произносят речи, устраивают фейерверки, на кухне некому работать.
— В таком случае поедемте в Марли, я забираю вас с собой.
— Это невозможно: у меня голова раскалывается.
— Что, мигрень?
— Ужасная!
— Тогда вам следует прилечь, графиня.
— Так я и сделаю, сир.
— Ну, прощайте!
— До свидания!
— Я похож на господина де Шуазёля: меня высылают.
— Но зато провожают вас с подобающими почестями и ласками, — отвечала лукавая женщина, нежно подталкивая короля к дверям и выставляя его. Людовик начал спускаться по лестнице, громко смеясь и оборачиваясь на каждой ступеньке.
Графиня держала в руке подсвечник, освещая ему путь с высоты перистиля.
— Знаете что, графиня… — заговорил король, возвращаясь на одну ступеньку вверх.
— Что, сир?
— Лишь бы бедный маршал из-за этого не умер.
— Из-за чего?
— Из-за того, что ему так и не достанется портфель.
— Какой вы злюка! — отвечала графиня, провожая короля последним взрывом хохота.
Его величество удалился в прекрасном расположении духа, оттого что сыграл шутку с герцогом, которого он в самом деле терпеть не мог.
Когда графиня Дюбарри вернулась в будуар, она увидела, что д’Эгильон стоит на коленях у двери, молитвенно сложив руки и устремив на нее страстный взгляд.
Она покраснела.
— Я провалилась, — проговорила она, — наш бедный маршал…
— Я все знаю, — отвечал он, — отсюда отлично слышно… Благодарю вас, сударыня, благодарю!
— Мне кажется, я была обязана сделать это для вас, — нежно улыбаясь, заметила она. — Встаньте, герцог, не то я решу, что вы не только умны, но и памятливы.
— Возможно, вы правы, сударыня. Как вам сказал дядюшка, я ваш покорный слуга.
— А также и короля. Завтра вам следует предстать перед его величеством. Встаньте, прошу вас!
Она протянула ему руку, он благоговейно припал к ней губами.
Вероятно, графиню охватило сильное волнение, так как она не прибавила больше ни слова.
Господин д’Эгильон тоже молчал — он был смущен не меньше графини. Наконец г-жа Дюбарри подняла голову.
— Бедный маршал! — повторила она. — Надо дать ему знать о поражении.
Господин д’Эгильон воспринял ее слова как желание его выпроводить, и поклонился.
— Сударыня, — проговорил он, — я готов к нему съездить.
— Что вы, герцог! Всякую дурную новость следует сообщать как можно позже. Чем ехать к маршалу, лучше оставайтесь у меня отужинать.
На герцога пахнуло молодостью, в сердце его вновь вспыхнула любовь, в жилах заиграла кровь.
— Вы не женщина, — молвил он, — вы…
— …ангел, не так ли? — прошептали ему на ухо горячие губы графини, которая вплотную приблизилась к герцогу, чтобы сказать это, а затем увлекла за собой к столу.
В этот вечер г-н д’Эгильон чувствовал себя, должно быть, вполне счастливым: он отобрал министерский портфель у дядюшки и съел за ужином долю самого короля.
LXXXIX
В ПРИЕМНОЙ ГЕРЦОГА ДЕ РИШЕЛЬЕ
Как у всех придворных, у г-на де Ришелье был один особняк в Версале, другой — в Париже, дом в Марли, еще один — в Люсьенне — словом, был угол везде, где мог жить или останавливаться король.
Еще Людовик XIV, увеличив число королевских резиденций, принуждал всех знатных особ, в чьи привилегии входило присутствие при больших и малых выходах короля, к огромным тратам: придворные должны были перенимать образ жизни его двора и следовать его капризам.
Итак, во время высылки г-на де Шуазёля и г-на де Пралена герцог де Ришелье проживал в своем версальском особняке; он приказал отвезти себя туда, возвращаясь накануне из Люсьенна, после того как представил своего племянника г-же Дюбарри.
Ришелье видели вместе с графиней в лесу Марли; его видели в Версале после того, как министр впал в немилость; было известно о его тайной и продолжительной аудиенции в Люсьенне. Этого, а также болтливости Жана Дюбарри оказалось довольно для того, чтобы весь двор счел необходимым засвидетельствовать свое почтение г-ну де Ришелье.
Старый маршал тоже собирался насладиться восторженными похвалами, лестью и ласками, которые каждый заинтересованный безрассудно рассыпал перед идолом дня.
Господин де Ришелье не ожидал, разумеется, удара, что готовила ему судьба. Однако он поднялся утром описываемого нами дня с твердым намерением заткнуть нос, чтобы не вдыхать аромата от воскурений, совсем как Улисс, заткнувший уши воском, чтобы не слышать пения сирен.
Окончательное решение должно было стать ему известно только на следующий день: король сам собирался огласить назначение нового кабинета министров.
Велико же было удивление маршала, когда он проснулся — вернее, был разбужен оглушительным стуком колес — и узнал от камердинера, что весь двор вокруг особняка запружен каретами, так же как приемные и гостиные — их владельцами.
— Хо-хо! — воскликнул он. — Кажется, из-за меня много шуму.
— Это с самого утра, господин маршал, — проговорил слуга, видя, с какой поспешностью герцог пытается снять ночной колпак.
— Отныне для меня не существует слова «рано» или «поздно», запомните это! — возразил он.
— Да, монсеньер.
— Что сказали посетителям?
— Что монсеньер еще не встал.
— И все?
— Все.
— Как глупо! Надо было прибавить, что я засиделся накануне допоздна или… Где Рафте?.
— Господин Рафте спит, — отвечал камердинер.
— Как спит? Пусть его разбудят, черт побери!
— Ну-ну! — воскликнул бодрый, улыбающийся старик, появляясь на пороге. — Вот и Рафте! Зачем он понадобился?
При этих словах всю высокомерность герцога как рукой сняло.
— A-а, я же говорил, что ты не спишь!
— Ну а если бы я и спал, что в этом было бы удивительного? Ведь только что рассвело.
— Дорогой Рафте, ты же видишь, что я-то не сплю!
— Вы другое дело, вы министр, вы… Как же тут уснуть?
— Тебе, кажется, захотелось поворчать, — заметил маршал, недовольно скривившись перед зеркалом. — Ты что, недоволен?
— Я? Чему же тут радоваться? Вы переутомитесь и заболеете. Государством придется управлять мне, а в этом нет ничего занятного, монсеньер.
— Как ты постарел, Рафте!
— Я ровно на четыре года моложе вас, ваша светлость. Да, я стар.
Маршал нетерпеливо топнул ногой.
— Ты прошел через приемную? — спросил он.
— Да.
— Кто там?
— Весь свет.
— О чем говорят?
— Рассказывают друг другу о том, что они собираются у вас попросить.
— Это естественно. А ты слышал, что говорят о моем назначении?
— Мне бы не хотелось вам этого говорить.
— Как! Уже осуждают?
— Да, даже те, кому вы нужны. Как же это воспримут те, кто может понадобиться вам?
— Ну знаешь ли, Рафте! — воскликнул старый маршал, неестественно рассмеявшись. — Они скажут, что ты мне льстишь…
— Послушайте, монсеньер! — обратился к нему Рафте. — За каким дьяволом вы впряглись в тележку, которая называется министерством? Вам что, надоело быть счастливым и жить спокойно?
— Дорогой мой, я в жизни попробовал все, кроме этого.
— Тысяча чертей! Вы никогда не пробовали мышьяка. Отчего бы вам не подмешать его себе в шоколад из любопытства?
— Ты просто лентяй, Рафте. Ты понимаешь, что у тебя, как у секретаря, прибавится работы, и уже готов увильнуть… Кстати, ты сам об этом уже сказал.
Маршал одевался тщательно.
— Подай мундир и воинские награды, — приказал он слуге.
— Можно подумать, что мы собираемся воевать? — проговорил Рафте.
— Да, черт возьми, похоже на то.
— Вот как? Однако я не видел подписанного королем назначения, — продолжал Рафте. — Странно!
— Назначение сейчас доставят, вне всякого сомнения.
— Значит, «вне всякого сомнения» теперь официальный термин.
— С годами ты становишься все несноснее, Рафте! Ты формалист и пурист. Если бы я это знал, то не стал бы поручать тебе готовить мою речь при вступлении в Академию — именно она сделала тебя педантом.
— Послушайте, монсеньер: раз уж мы теперь правительство, будем же последовательны… Ведь это нелепо…
— Что нелепо?
— Граф де ла Водрёй, которого я только что встретил на улице, сообщил мне, что насчет министерства еще ничего не известно.
Ришелье усмехнулся.
— Господин де ла Водрёй прав, — проговорил он. — Так ты, значит, уже выходил из дому?
— Еще бы, черт подери! Это было необходимо. Я проснулся от дикого грохота карет, приказал подавать одеваться, надел свои боевые ордена и прошелся по городу.
— Ага! Я представляю Рафте повод для развлечений?
— Что вы, монсеньер, Боже сохрани! Дело в том, что…
— В чем же?
— Во время прогулки я кое-кого встретил.
— Кого?
— Секретаря аббата Террэ.
— И что же?
— Он мне сказал, что военным министром назначен его патрон.
— Ого! — воскликнул в ответ Ришелье с неизменной улыбкой.
— Что вы из этого заключили, монсеньер?
— Только то, что, раз господин Террэ будет военным министром, значит, я им не буду. А если он им не будет, то, возможно, этот портфель достанется мне.
Рафте сделал все, чтобы совесть его была чиста. Это был человек отважный, неутомимый, честолюбивый, такой же умный, как его хозяин, но гораздо более дальновидный, ибо он был простого происхождения и находился в зависимости от маршала. Благодаря этим двум уязвимым местам в его броне он за сорок лет отточил свою хитрость, развил силу воли, натренировал ум. Видя, что патрон уверен в успехе, Рафте решил, что ему тоже нечего бояться.
— Поторопитесь, монсеньер, — сказал он, — не заставляйте себя слишком долго ждать, это было бы для вас дурным предзнаменованием.
— Я готов, однако мне бы все-таки хотелось знать, кто там.
— Вот список.
Он подал длинный список — Ришелье с удовлетворением прочел имена первых людей из знати, судейского сословия и мира финансов.
— Уж не становлюсь ли я знаменитостью? А, Рафте?
— Мы живем во времена чудес, — отвечал тот.
— Смотрите: Таверне! — удивился маршал, продолжая просматривать список. — Он-то зачем сюда явился?
— Не знаю, господин маршал. Ну, вам пора!
Секретарь почти силой вынудил хозяина выйти в большую гостиную.
Ришелье должен был быть доволен: оказанный ему прием мог бы удовлетворить принца крови.
Однако утонченная вежливость, коварство и ловкость придворной знати той эпохи и того общества лишь утверждали Ришелье в жестоком самообольщении.
Из приличия и из уважения все собравшиеся остерегались произносить в присутствии Ришелье слово «министерство». Самые ловкие осмелились робко поздравить его, другие знали, что надо только сделать легкий намек и Ришелье почти ничего не ответит.
Этот визит на восходе солнца был для всех простым жестом, чем-то вроде приветственного поклона.
В те времена едва уловимые полутона нередко бывали понятны всем.
Некоторые придворные осмелились в разговоре выразить пожелание, просьбу или надежду.
Один хотел, как он выражался, «видеть свое губернаторство» поближе к Версалю. Ему было приятно побеседовать об этом с человеком, пользующимся столь неограниченным влиянием, как г-н де Ришелье.
Другой утверждал, что уже трижды был обойден вниманием де Шуазёля и не продвигался по службе. Он рассчитывал на благосклонность г-на де Ришелье, который должен был освежить память короля. И вот теперь ничто не помешает проявлению доброй воли его величества.
Таким образом, множество просьб, более или менее корыстных, но искусно завуалированных, было высказано на ушко обласканному маршалу.
Мало-помалу толпа растаяла. Все хотели, как они говорили, дать господину маршалу возможность «заняться его важными делами».
Только один человек остался в гостиной.
Он не стал подходить вместе с другими, ничего не просил, даже не представился.
Когда гостиная опустела, он с улыбкой приблизился к герцогу.
— A-а, господин де Таверне! — узнал его маршал. — Очень рад, очень рад!
— Я тебя ждал, герцог, чтобы поздравить, искренне поздравить.
— Неужели? С чем же? — спросил Ришелье, которого сдержанность посетителей словно заставила быть скрытным и хранить таинственный вид.
— Я тебя поздравляю с новым званием, герцог.
— Тише! Тише! — прошептал маршал. — Не будем об этом говорить… Еще ничего не известно, это только слухи.
— Однако, дорогой мой маршал, не один я так думаю, если в твоих приемных полным-полно народу.
— Я, право, сам не знаю почему.
— Зато я знаю.
— Что же ты знаешь?
— Могу сказать это в двух словах.
— В каких же?
— Вчера в Трианоне я имел честь выразить свою преданность. Его величество расспрашивал меня о моих детях, а в конце разговора сказал: «Кажется, вы знакомы с господином де Ришелье? Поздравьте его».
— Да? Его величество вам так сказал? — переспросил Ришелье, не в силах скрыть гордости, будто эти слова были королевской грамотой, которую с замиранием сердца ждал Рафте.
— Вот почему я обо всем догадался, — продолжал Таверне, — и это было нетрудно при виде того, что к тебе торопится весь Версаль; я же поспешил, чтобы, выполняя волю короля, поздравить тебя и, подчиняясь своему чувству, напомнить о нашей старой дружбе.
Герцог почувствовал раздражение: это был его врожденный недостаток, от которого не застрахованы даже лучшие умы. Герцог увидел в бароне де Таверне лишь одного из просителей низшего ранга, бедных людей, обойденных милостями, кого не стоило даже продвигать и с кем бесполезно было водить знакомство; на них обыкновенно досадуют за то, что они напомнили о себе лет через двадцать лишь для того, чтобы погреться в лучах чужого процветания.
— Я понимаю, что это значит, — проговорил маршал довольно жестко, — я должен исполнить какую-нибудь просьбу.
— Ну что же, ты сам напросился, герцог.
— Ах! — вздохнул Ришелье, садясь, или, вернее, опускаясь, на софу.
— Как я тебе говорил, у меня двое детей, — продолжал Таверне, подыскивая слова и внимательно следя за маршалом. Хитрый и изворотливый, он заметил холодность своего великого друга и постарался действовать решительно. — У меня есть дочь, я ее горячо люблю, она образец добродетели и красоты. Дочь пристроена у ее высочества дофины, пожелавшей проявить к ней особую милость. О ней, о моей красавице Андре, я и не говорю, герцог. Ей уготовано прекрасное будущее, ее ожидает счастье. Ты видел мою дочь? Неужели я ее тебе еще не представил? И ты ничего о ней не слышал?
— Уф-ф… Не знаю, право, — небрежно бросил Ришелье. — Может быть, и слышал…
— Ну, это не важно, — продолжал Таверне, — моя дочь устроена. Я, как видишь, тоже ни в чем не испытываю нужды: король назначил мне пенсион, на него вполне можно прожить. Признаться, я не отказался бы при случае получить кое-что, дабы снова отстроить Мезон-Руж и поселиться там на старости лет; впрочем, с твоим влиянием, с влиянием моей дочери…
— Эге! — пробормотал Ришелье; до сих пор он пропускал слова Таверне мимо ушей, наслаждаясь своим величием, и лишь слова «влияние моей дочери» заставили его встрепенуться. — Эге! Твоя дочь… Так это та самая юная красавица, внушающая опасение добрейшей графине? Это тот самый скорпион, что пригрелся под крылышком дофины, чтобы однажды укусить кое-кого из Люсьенна?.. Ну, я не буду неблагодарным другом. А что касается признательности, то дорогая графиня, сделавшая меня министром, увидит, умею ли я быть признательным.
Затем он громко прибавил, надменно обратившись к барону де Таверне:
— Продолжайте!
— Клянусь честью, я сказал почти все, — проговорил тот, посмеиваясь про себя над тщеславным маршалом и желая одного: добиться своего. — Все мои мысли теперь только о моем Филиппе: он носит славное имя, но ему не суждено придать этому имени блеск, если никто ему не поможет. Филипп — храбрый, рассудительный юноша, может быть чересчур рассудительный. Но это — следствие его стесненного положения: как ты знаешь, если водить лошадь на коротком поводке, она ходит с опущенной головой.
«Мне-то что за дело?» — думал маршал, не скрывая скуки и нетерпения.
— Мне нужен человек, — безжалостно продолжал Таверне, — занимающий столь же высокое, как ты, положение, который бы помог Филиппу получить роту… Прибыв в Страсбур, ее высочество дофина дала ему чин капитана. Это хорошо, но ему не хватает всего каких-нибудь ста тысяч ливров, чтобы получить роту в каком-нибудь привилегированном кавалерийском полку… Помогите мне в этом, мой знаменитый друг!
— Ваш сын — тот самый молодой человек, который оказал услугу госпоже дофине? — спросил Ришелье.
— Огромную! — вскричал Таверне. — Это он отбил последнюю упряжку ее королевского высочества, которую собирался захватить Дюбарри.
«Ой-ой! — воскликнул про себя Ришелье. — Да, это он… Самый страшный враг графини… Как удачно подвернулся Таверне! Вместо чина получит ссылку…»
— Вы ничего мне не ответите, герцог? — спросил Таверне, задетый за живое неподатливостью продолжавшего молчать маршала.
— Это невозможно, дорогой господин Таверне, — заключил маршал, поднимаясь и тем давая понять, что аудиенция окончена.
— Невозможно? Такая малость невозможна? И это говорит мне старый друг?
— А что же тут такого?.. Разве дружба, о которой вы говорите, — достаточная причина для того, чтобы одному стремиться к несправедливости, другому — к злоупотреблению дружбой? Пока я был ничто, вы меня двадцать лет не видели, но вот я министр, и вы — тут как тут!
— Господин де Ришелье, вы несправедливы.
— Нет, мой дорогой, я не хочу, чтобы вы таскались по приемным. Значит, я и есть настоящий друг…
— Так у вас есть причина, чтобы мне отказать?
— У меня?! — вскричал Ришелье, крайне обеспокоенный подозрением, которое могло зародиться у Таверне. — У меня?! Причина?..
— Да, ведь у меня есть враги…
Герцог мог бы сказать обо всем, но тогда пришлось бы признаться барону: он угождает г-же Дюбарри из благодарности, что он стал министром по ее капризу. А уж в этом-то маршал не мог сознаться ни за что на свете. Вот почему в ответ он поспешил сказать следующее:
— Нет у вас никаких врагов, дорогой друг, а вот у меня они есть. Немедленно без всякой очередности начать раздавать звания и милости — значит подставить себя под удар и вызвать толки о том, что я действую не лучше Шуазёля. Дорогой мой! Я бы хотел оставить после себя добрую память. Я уже двадцать лет вынашиваю реформы, улучшения, и скоро они явятся взору всего мира! Фавор губителен для Франции: я буду жаловать по заслугам. Труды наших философов несут свет, который достиг и моих глаз; рассеялись потемки прошлых лет, настала счастливая пора для государства… Я готов рассмотреть вопрос о продвижении вашего сына точно так же, как я сделал бы это для первого попавшегося гражданина; я принесу в жертву свои пристрастия, и эта жертва, несомненно болезненная, будет принесена во имя трехсот тысяч других… Если ваш сын, господин Филипп де Таверне, покажется мне достойным этой милости, он ее получит, и не потому, что его отец — мой друг, не потому, что он носит имя своего отца, а потому, что заслужит этого сам. Вот таков мой план действий.
— Другими словами, такова ваша философия, — прошипел старый барон, который от злости кусал ногти и досадовал на то, что этот разговор, полный мелких гнусностей, стоил ему такого унижения.
— Пусть так. Философия — подходящее слово.
— Которое освобождает от многого, не так ли, господин маршал?
— Вы плохой придворный, — холодно улыбаясь, заметил Ришелье.
— Люди моего звания могут быть придворными только короля!
— Мой секретарь, господин Рафте, принимает в день по тысяче человек вашего звания у меня в приемной, — сказал Ришелье, — они приезжают из черт знает какой провинциальной глуши, где привыкают к грубости по отношению к своим так называемым друзьям, да еще разглагольствуют о дружбе.
— О, я прекрасно понимаю, что потомок Мезон-Ружей, чье дворянство восходит ко временам крестовых походов, иначе понимает дружбу, нежели Виньеро, ведущий свой род от деревенского скрипача!
У маршала было больше здравого смысла, чем у Таверне.
Он мог бы приказать выбросить его из окна, но только пожал плечами и сказал:
— Вы слишком отстали, господин крестоносец: вы только и знаете, что о злопыхательской памятной записке парламентов в тысяча семьсот двадцатом году, но вы не читали ответной записки герцогов и пэров. Пройдите в мою библиотеку, уважаемый: Рафте даст вам ее почитать.
В то время как он с этими ловко найденными словами выпроваживал своего противника, дверь распахнулась и в комнату с шумом вошел какой-то господин.
— Где дорогой герцог? — спросил он.
Этот сияющий господин с вытаращенными от восторга глазами и разведенными в благожелательном порыве руками был не кто иной, как Жан Дюбарри.
При виде нового лица Таверне от удивления и досады отступил.
Жан заметил его движение, узнал барона и повернулся к нему спиной.
— Мне кажется, теперь я понимаю и потому удаляюсь. Я оставляю господина министра в прекрасном обществе, — спокойно проговорил барон и с величественным видом вышел.
XC
РАЗОЧАРОВАНИЕ
Жан был так взбешен выходкой барона, что сделал было два шага вслед за ним, потом пожал плечами и возвратился к маршалу.
— И вы таких у себя принимаете?
— Что вы, дорогой мой, вы ошибаетесь. Напротив, я таких гоню прочь.
— А вы знаете, что это за господин?
— Увы! Знаю!
— Да нет, вы, должно быть, недостаточно хорошо с ним знакомы.
— Это некий Таверне.
— Этот господин хочет подложить свою дочь в постель к королю…
— Да что вы!..
— Этот господин хочет нас выжить и готов ради этого на все… Да! Но Жан здесь, Жан все видит.
— Вы полагаете, что барон собирается…
— Это не сразу заметишь, не правда ли? Партия дофина, дорогой мой… У них есть свой убийца…
— Ба!
— У них есть молодой человек, выдрессированный для того, чтобы, как пес, хватать людей за икры, тот самый бретёр, что нанес шпагой удар в плечо Жану… Бедный Жан!
— Вам? Так это ваш личный враг, дорогой виконт? — спросил Ришелье, изобразив удивление.
— Да, это мой противник в известной вам истории с почтовыми лошадьми.
— Любопытно! Я этого не знал, но отказал ему в просьбе. Вот только я не просто выпроводил бы его, а выгнал, если бы мог предполагать… Впрочем, будьте покойны, виконт: теперь этот бретёр у меня в руках, и скоро у него будет возможность в этом убедиться.
— Да, вы можете отбить ему охоту нападать на большой дороге… О, я, кажется, еще не поздравил вас…
— Вероятно, виконт, это уже решено.
— Да, это вопрос решенный. Позвольте вас обнять!
— Благодарю вас от всего сердца.
— Клянусь честью, это было непросто, но все это — пустяки, когда победа у вас в руках. Вы довольны, не правда ли?
— Если позволите, я буду с вами откровенен. Да, доволен, так как полагаю, что смогу быть полезен.
— Можете в этом не сомневаться. Это мощный ход, кое-кто еще взвоет.
— Разве меня не любят в обществе?
— Вас?.. У вас есть и сторонники и противники. А вот его просто ненавидят.
— Его?.. — удивленно переспросил Ришелье. — Кого — его?..
— Понятно кого! — перебил герцога Жан. — Парламенты взбунтуются, будет повторение порки, которую задал им Людовик Четырнадцатый; ведь их высекли, герцог, высекли!
— Прошу вас мне объяснить…
— Само собой разумеется, что парламенты ненавидят того, кому они обязаны гонениями на них.
— Так вы полагаете, что…
— Я в этом совершенно уверен, как и вся Франция. Но это все равно, герцог. Вы прекрасно поступили, призвав его в разгар событий.
— Кого?.. О ком вы говорите, виконт? Я как на иголках, я не понимаю ни слова из того, о чем вы говорите.
— Я говорю о господине д’Эгильоне, вашем племяннике.
— А причем здесь он?
— Как при чем? Вы хорошо сделали, что призвали его.
— A-а, ну да! Ну да! Вы хотите сказать, что он мне поможет?
— Он поможет всем нам… Вам известно, что он в прекрасных отношениях с Жанеттой?
— Неужели?
— Да, в превосходных. Они уже побеседовали и сумели договориться, могу поклясться!
— Вам это точно известно?
— Да, об этом нетрудно догадаться. Жанетта — большая любительница поспать.
— Ха!
— И она не встает раньше девяти, десяти или одиннадцати часов.
— Ну так что же?..
— Так вот сегодня, самое позднее в шесть часов утра, я увидал, как из Люсьенна уносили портшез д’Эгильона.
— В шесть часов? — с улыбкой воскликнул Ришелье.
— Да.
— Сегодня утром?
— Сегодня утром. Судите сами: раз она поднялась так рано, чтобы дать аудиенцию вашему дорогому племяннику, значит, она от него без ума.
— Да, да, — согласился Ришелье, потирая руки, — в шесть часов! Браво, д’Эгильон!
— Должно быть, аудиенция началась часов в пять… Ночью! Это просто невероятно!..
— Невероятно!.. — повторил маршал. — Да, это в самом деле невероятно, дорогой мой Жан.
— И вот теперь вы будете втроем, как Орест, Пилад и еще один Пилад.
В ту минуту, когда маршал удовлетворенно потирал руки, в гостиную вошел д’Эгильон.
Племянник поклонился дядюшке с выражением соболезнования; этого оказалось довольно, чтобы Ришелье понял если не все, то почти все.
Он побледнел так, словно получил смертельную рану: он вспомнил, что при дворе не бывает ни друзей, ни родственников, каждый печется только о себе.
«Какой же я был дурак!» — подумал он.
— Ну что, д’Эгильон? — произнес он, подавив тяжелый вздох.
— Ну что, господин маршал?
— Это тяжелый удар для парламентов, — повторил Ришелье слова Жана.
Д’Эгильон покраснел.
— Вы уже знаете? — спросил он.
— Господин виконт обо всем мне рассказал, — отвечал Ришелье, — даже о вашем визите в Люсьенн сегодня на рассвете. Ваше назначение — большой успех для моей семьи.
— Поверьте, господин маршал, я очень сожалею, что так вышло.
— Что за чушь он несет? — с удивлением сказал Жан, скрестив на груди руки.
— Мы друг друга понимаем, — перебил его Ришелье, — мы прекрасно друг друга понимаем.
— Ну и отлично. А вот я совсем вас не понимаю… Какие-то сожаления… А, ну да!.. Это потому, что он не сразу будет назначен министром. Да, да… очень хорошо.
— Так его назначение отсрочено? — спросил маршал, почувствовав, как в его сердце зашевелилась надежда — вечный спутник честолюбца и влюбленного.
— Да, отсрочено, господин маршал.
— А пока ему и так неплохо заплатили… — вскричал Жан. — Наилучшее командование в Версале!
— Да? — уронил Ришелье, снова почувствовав боль. — Он получил командование?
— Господин Дюбарри, возможно, несколько преувеличивает, — отвечал герцог д’Эгильон.
— Но, в конце концов, командование чем?
— Королевскими шеволежерами.
Ришелье почувствовал, как бледность вновь залила его морщинистые щеки.
— О да! — проговорил он с непередаваемой улыбкой. — Это и правда безделица для такого очаровательного кавалера. Что вы хотите, герцог! Самая красивая девушка на свете может дать только то, что у нее есть, даже если она любовница короля.
Наступил черед д’Эгильона побледнеть.
Жан в это время рассматривал прекрасные полотна кисти Мурильо.
Ришелье похлопал племянника по плечу.
— Хорошо еще, что вам пообещали продвижение в будущем, — сказал он. — Примите мои поздравления, герцог… Самые искренние поздравления… Ваша ловкость, ваше искусство в переговорах не уступают вашей удачливости… Прощайте, у меня дела. Прошу не обойти меня своими милостями, дорогой министр.
Д’Эгильон произнес в ответ:
— Вы — это я, господин маршал, а я — это вы.
Поклонившись дядюшке, он вышел, не теряя врожденного чувства собственного достоинства и тем самым выйдя из одного из самых трудных положений, когда-либо выпадавших ему за всю его жизнь.
— Вот что хорошо, восхитительно в д’Эгильоне, так это его наивность, — поспешил заговорить Ришелье после его ухода; Жан не знал, как отнестись к обмену любезностями между племянником и дядюшкой. — Он умный и добрый, — продолжал маршал, — он знает двор и честен, как девушка.
— И кроме того, он вас любит.
— Как агнец.
— Да, — согласился Жан, — скорее ваш сын — д’Эгильон, а не господин де Фронзак.
— Могу поклясться, что вы правы… Да, виконт… да.
Ришелье нервно расхаживал вокруг кресла, словно подыскивая и не находя нужных выражений.
«Ну, графиня, — бормотал он про себя, — вы мне за это еще заплатите!» ^
— Маршал! Мы сможем олицетворять вчетвером знаменитый античный пучок. Знаете, тот, который никто не мог переломить? — лукаво проговорил Жан.
— Вчетвером? Дорогой господин виконт, как вы это себе представляете?
— Моя сестра — это мощь, д’Эгильон — влиятельность, вы — разум, а я — наблюдательность.
— Отлично! Отлично!
— И тогда пусть попробуют одолеть мою сестру. Готов побиться об заклад с кем угодно!
— Черт побери! — выругнулся Ришелье, в котором все кипело.
— Пусть попробуют противопоставить соперниц! — вскричал Жан, упоенный своими замыслами.
— О! — воскликнул Ришелье, ударив себя по лбу.
— Что такое, дорогой маршал? Что с вами?
— Ничего. Просто считаю идею союза восхитительной.
— Правда?
— И я всемерно готов ее поддержать.
— Браво!
— Скажите, де Таверне живет в Трианоне вместе с дочерью?
— Нет, он проживает в Париже.
— Девчонка очень красива, дорогой виконт.
— Будь она так же красива, как Клеопатра или как… моя сестра, я ее больше не боюсь… раз мы заодно.
— Так, говорите, Таверне живет в Париже на улице Сент-Оноре?
— Я не говорил, что на улице Сент-Оноре, он проживает на улице Кок-Эрон. Уж не появилась ли у вас мысль, как избавиться от Таверне?
— Пожалуй, да, виконт; мне кажется, у меня возникла одна идея.
— Вы бесподобный человек. Я вас покидаю и исчезаю: мне хочется узнать, что говорят в городе.
— Прощайте, виконт… Кстати, вы мне не сказали, кто вошел в новый кабинет министров.
— Да так, перелетные пташки: Террэ, Бертен… не знаю, право, кто еще… Одним словом, разменная монета настоящего министра д’Эгильона, хотя его назначение и отложено.
«И вполне вероятно, навечно», — подумал маршал, посылая Жану одну из своих любезных улыбок, подобную прощальному поцелую.
Жан удалился. Вошел Рафте. Он все слышал и знал, как к этому отнестись; все его опасения оправдывались. Он ни слова на сказал, потому что слишком хорошо знал маршала.
Рафте не стал звать камердинера: он сам раздел Ришелье и проводил до постели. Старый маршал лег, дрожа как в лихорадке; по настоянию секретаря он принял пилюлю.
Рафте задернул шторы и вышел. Приемная уже была полна озабоченными, насторожившимися лакеями. Рафте взял за руку старшего камердинера.
— Хорошенько следи за господином маршалом, — сказал он, — ему плохо. Утром у него произошла большая неприятность: он оказал неповиновение королю…
— Оказал неповиновение королю? — в испуге переспросил камердинер.
— Да. Его величество прислал монсеньеру портфель министра; маршал узнал, что все это произошло благодаря Дюбарри, и отказался! Это превосходно, и парижане должны были бы соорудить в его честь триумфальную арку. Однако потрясение оказалось настолько сильным, что наш хозяин занемог. Так смотри же за ним!
Рафте предвидел, как быстро эти слова облетят весь город, и потому спокойно удалился к себе в кабинет.
Спустя четверть часа Версаль уже знал о благородном поступке и истинном патриотизме маршала. А тот спал глубоким сном, не подозревая о славе, которой был обязан своему секретарю.
XCI
СЕМЕЙНЫЙ УЖИН У ГОСПОДИНА ДОФИНА
В тот же день мадемуазель де Таверне, выйдя из своей комнаты в три часа пополудни, отправилась к дофине, имевшей обыкновение слушать чтение перед обедом.
Первый чтец ее королевского высочества, аббат, не исполнял больше своих обязанностей. Он посвятил себя высокой политике после того, как проявил незаурядные способности в дипломатических интригах.
Итак, мадемуазель де Таверне, одевшись должным образом, вышла из комнаты, чтобы приступить к своим обязанностям. Как все, кто проживал в Трианоне, она испытывала трудности несколько поспешного переезда. Она еще ничего не успела устроить: не подобрала прислугу, не расставила свою скромную мебель; временно ей помогала одеваться одна из служанок герцогини де Ноай, той самой непреклонной фрейлины, которую дофина звала «госпожой Этикет».
Андре была в голубом шелковом платье с удлиненным лифом и присборенной юбкой, подчеркивавшей ее осиную талию. На платье был спереди разрез. Когда полы разреза распахивались, под ними становились видны три гофрированные складки расшитого муслина; короткие рукава также были украшены расшитыми муслиновыми фестончиками и приподняты в плечах. Они гармонировали с расшитой косынкой в стиле «пейзан», целомудренно скрывавшей грудь. Собрав на затылке свои прекрасные волосы, Андре попросту перехватила их голубой лентой в тон платью; волосы падали ей на щеки и шею, рассыпались по плечам длинными густыми завитками и украшали ее лучше перьев, эгретов и кружев, которые были тогда в моде; девушка держалась гордо и, вместе с тем, скромно; ее матовых щек никогда не касались румяна.
Уже на ходу она натягивала белые шелковые митенки на тонкие пальцы с закругленными ноготками, такие красивые, что равных им не было во всем мире. А на садовой дорожке оставались следы от ее туфелек нежно-голубого атласа на высоких каблучках.
Когда она пришла в павильон Трианона, ей сообщили, что ее высочество дофина отправилась на прогулку в сопровождении архитектора и главного садовника. С верхнего этажа доносился шум станка, на котором дофин вытачивал надежный замок для любимого сундука.
В поисках дофины Андре прошла через сад; хотя было уже начало осени, тщательно укрывавшиеся на ночь цветы тянули кверху побледневшие головки, чтобы погреться в мимолетных лучах еще более бледного солнца. Уже близились сумерки, потому что в это время года вечереет в шесть часов, и садовники накрывали стеклянными колпаками самые нежные растения на каждой грядке.
Поворачивая на аллею, которая была обсажена ровно подстриженными грабами, окаймлена бенгальскими розами и заканчивалась прелестным газоном, Андре обратила внимание на одного из садовников; увидав ее, он оставил лопату и поклонился с вежливостью и изысканностью, не свойственными простому люду.
Она вгляделась и узнала в нем Жильбера. Его руки, выполнявшие грубую работу, оставались по-прежнему достаточно белыми для того, чтобы привести в отчаяние барона де Таверне.
Андре невольно покраснела. Присутствие Жильбера показалось ей странной прихотью судьбы.
Жильбер еще раз поклонился. Андре кивнула в ответ и продолжала свой путь.
Однако она была существом слишком искренним и прямодушным, чтобы противиться желанию получить ответ на вопрос, вызвавший ее беспокойство.
Она вернулась, и Жильбер, успевший побледнеть и с ужасом следивший за тем, как она уходит, внезапно ожил и порывисто шагнул к ней навстречу.
— Вы здесь, господин Жильбер? — холодно спросила Андре.
— Да, мадемуазель.
— Какими судьбами?
— Мадемуазель! Должен же я на что-то жить, и жить честно.
— Понимаете ли вы, как вам повезло?
— Да, мадемуазель, очень хорошо понимаю, — отвечал Жильбер.
— Неужели?
— Я хочу сказать, мадемуазель, что вы совершенно правы: я и в самом деле очень счастлив.
— Кто вас сюда устроил?
— Господин де Жюсьё, мой покровитель.
— Да? — удивилась Андре. — Так вы знакомы с господином де Жюсьё?
— Он был другом моего первого покровителя и учителя, господина Руссо.
— Желаю вам удачи, господин Жильбер! — проговорила Андре, собираясь уйти.
— Вы чувствуете себя лучше, мадемуазель? — спросил Жильбер, и голос его так задрожал, что можно было догадаться: вопрос исходил из самого сердца и передавал каждое движение его души.
— Лучше? Что это значит? — холодно переспросила Андре.
— Я… Несчастный случай?..
— A-а, да, да… Благодарю вас, господин Жильбер, я чувствую себя лучше, это была сущая безделица.
— Да ведь вы едва не погибли, — в сильнейшем волнении возразил Жильбер, — опасность была слишком велика!
Андре подумала, что пора положить конец разговору с работником прямо посреди королевского парка.
— До свидания, господин Жильбер, — обронила она.
— Не желает ли мадемуазель розу? — с дрожью в голосе, весь в поту, пролепетал Жильбер.
— Сударь! Вы мне предлагаете то, что вам не принадлежит, — отрезала Андре.
Сраженный и удивленный, Жильбер ничего не ответил. Он опустил голову. Андре продолжала на него смотреть, радуясь тому, что ей удалось показать свое превосходство. Тогда Жильбер сорвал с самого красивого розового куста одну из веток и принялся обрывать цветы с хладнокровием и достоинством, которые произвели впечатление на девушку.
Андре была очень добра, в ней было сильно развито чувство справедливости, и она не могла не заметить, что безнаказанно обидела человека ниже себя только за то, что он проявил почтительность. Но, как все гордые люди, чувствующие, что они не правы, она поспешила удалиться, не прибавив ни слова, когда, быть может, извинение или слова примирения готовы были сорваться с ее губ.
Жильбер тоже не произнес ни единого слова. Он швырнул розы наземь и взялся за лопату. Однако в его характере гордость соединялась с хитростью. Он наклонился, собираясь продолжать работу, и вместе с тем хотел посмотреть на удалявшуюся Андре. Перед тем как свернуть на другую аллею, она не удержалась и обернулась. Она была женщина.
Жильбера порадовала ее слабость. Он сказал себе, что одержал еще одну победу.
«Я сильнее ее, — подумал он, — и я буду над ней властвовать. Она гордится своей красотой, своим именем, растущим состоянием, ей вскружила голову моя любовь, о которой она, возможно, догадывается, но от этого она становится еще желаннее для бедного работника, что не может без дрожи на нее взглянуть. О, эта дрожь, этот озноб недостойны мужчины! Придет день, и она заплатит за все подлости, на какие я иду ради нее! Ну, а сегодня я и так довольно потрудился, — прибавил он, — и победил неприятеля… Я должен был бы оказаться слабее, потому что ее люблю, а я в десять раз сильнее».
Он еще раз в приливе счастья повторил про себя эти слова. Откинув судорожным движением с умного лба красивые черные волосы, он с силой воткнул лопату в землю, бросился, словно олень, через заросли кипарисов и тисов, легким ветерком пронесся между растениями, прикрытыми колпаками, не задев ни одного из них, несмотря на стремительный бег, и замер на крайней точке описанной им диагонали с целью опередить Андре, шедшую по круговой дорожке.
Оттуда он в самом деле увидел, как задумчиво она идет. По виду ее можно было угадать, что она чувствует себя униженной. Она опустила прекрасные глаза, ее правая рука безжизненно висела вдоль развевавшегося платья. Спрятавшись в зарослях грабового питомника, он услышал, как она раза два вздохнула, словно отвечая своим мыслям. Андре прошла так близко от скрывавших Жильбера деревьев, что, протяни он руку, он мог бы коснуться ее. Он уже был готов сделать это, охваченный безумной лихорадкой, от которой голова его шла кругом.
Однако, нахмурив брови, он волевым движением, напоминавшим скорее ненависть, прижал судорожно сжатую руку к груди.
«Опять слабость!» — сказал он себе и еле слышно прибавил:
— До чего же она хороша!
Возможно, Жильбер еще долго любовался бы Андре, потому что аллея была длинная, а Андре шла медленно. Однако на эту аллею выходили другие дорожки, откуда могла явиться какая-нибудь досадная помеха. Судьба на этот раз была немилостива к Жильберу: досадная помеха в самом деле представилась в лице господина, вышедшего на аллею с ближайшей к Андре боковой дорожки, иными словами — почти напротив зеленой рощицы, где прятался Жильбер.
Этот не вовремя явившийся господин шагал уверенно, мерным шагом; зажав шляпу под мышкой, он высоко держал голову, а левую руку опустил на эфес шпаги. На нем был бархатный костюм, сверху — накидка, подбитая соболем. Он шел, чеканя шаг; у него были красивые ноги с высоким подъемом — свидетельство благородного происхождения.
Продолжая идти вперед, господин заметил Андре. Должно быть ее внешность привлекла его внимание: он ускорил шаг, сошел с дорожки и пошел наискосок через рощу, чтобы оказаться как можно скорее на пути у Андре.
Разглядев этого господина, Жильбер невольно вскрикнул, подобно вспугнутому в кустах дрозду.
Маневр господина удался. Он, несомненно, имел в подобных делах большой опыт. Не прошло и нескольких минут, как он оказался впереди Андре, хотя еще совсем недавно шел за ней на довольно значительном расстоянии.
Услыхав его шаги, Андре сначала отошла в сторону, давая ему дорогу, и только потом на него взглянула.
Господин тоже на нее смотрел, и не просто, а очень внимательно; он даже остановился, желая получше ее разглядеть, потом еще раз обернулся.
— Мадемуазель! — любезно заговорил он. — Куда вы так торопитесь, скажите на милость?
При звуке его голоса Андре подняла голову и шагах в тридцати позади него заметила неторопливо шагавших двух офицеров гвардии. Она обратила внимание на голубую ленту, выглядывавшую из-под собольей накидки этого господина и, испугавшись неожиданной встречи и любезного обращения, прервавшего ее мысли, заметно побледнела.
— Король! — прошептала она, низко поклонившись.
— Мадемуазель!.. — приближаясь, произнес в ответ Людовик XV. — У меня плохое зрение, и я вынужден просить вас назвать свое имя.
— Мадемуазель де Таверне, — едва слышно прошептала девушка в сильном смущении.
— A-а, да, да! Как хорошо, должно быть, погулять в Трианоне, мадемуазель! — продолжал король.
— Я иду к ее королевскому высочеству госпоже дофине, она меня ждет, — сказала Андре, приходя в еще большее волнение.
— Я вас к ней провожу, мадемуазель, — сказал Людовик XV. — Я по-соседски собирался навестить свою дочь. Позвольте предложить вам руку, раз нам по пути.
Андре почувствовала, как ее глаза заволокло пеленой, а кровь прихлынула к сердцу. В самом деле, для бедной девушки было огромной честью опереться на руку самого короля — державного повелителя. Это было нечаянной радостью, невероятной милостью, какой мог бы позавидовать любой придворный; Андре была как во сне.
Она склонилась в глубоком реверансе и с таким благоговением взглянула на короля, что он был вынужден еще раз поклониться. Обыкновенно, когда дело касалось церемониала и вежливости, Людовик XV вспоминал о Людовике XIV. Традиции хороших манер восходили еще ко временам Генриха IV.
Итак, он предложил руку Андре, она коснулась горячими пальчиками перчатки короля, и они вдвоем отправились к павильону, где, как доложили королю, он должен был найти дофину в обществе архитектора и главного садовника.
Читатель может быть совершенно уверен, что Людовик XV, не любивший пеших прогулок, выбрал на сей раз самую длинную дорогу, ведя Андре в Малый Трианон. Оба офицера, сопровождавшие на некотором расстоянии его величество, заметили ошибку короля и очень огорчились, так как были легко одеты, а становилось свежо.
Король и мадемуазель де Таверне пришли поздно и не застали дофину там, где надеялись ее найти. Мария Антуанетта незадолго перед их приходом ушла, не желая заставлять дофина, любившего ужинать между шестью и семью часами, долго ждать.
Ее королевское высочество пришла ровно в шесть. До крайности пунктуальный дофин уже стоял на пороге столовой, собираясь войти, как только появится дворецкий. Ее высочество сбросила накидку на руки одной из горничных, подошла к дофину и, весело подхватив его под руку, увлекла за собой. Стол был накрыт для двух прославленных амфитрионов.
Они сидели посредине, оставляя почетное место во главе стола свободным. Принимая во внимание то обстоятельство, что король любил появляться неожиданно, это место не занимали с некоторых пор даже тогда, когда было много гостей. На этом почетном краю стола прибор короля занимал значительное место. Сегодня же дворецкий, не рассчитывавший на появление именитого гостя, отправлял свою службу именно здесь.
За стулом дофины, на достаточном от него расстоянии, для того чтобы могли проходить лакеи, поместилась герцогиня де Ноай, которая держалась необычайно натянуто, хотя и изобразила на своем лице положенную этикетом любезность по случаю ужина.
Рядом с г-жой де Ноай находились другие дамы, которым их положение при дворе давало право или в виде особой милости разрешалось присутствовать на ужине их королевских высочеств.
Три раза в неделю герцогиня де Ноай ужинала за одним столом с их высочествами. Однако в те дни, когда она не ужинала, она ни в коем случае не упускала возможности просто присутствовать при этом. Кстати, то был способ протеста против исключения четырех дней из семи.
Напротив герцогини де Ноай, прозванной дофиной «госпожой Этикет», на таком же возвышении находился герцог де Ришелье.
Он тоже очень строго придерживался правил приличия, вот только его следование этикету оставалось невидимым для глаз, потому что было надежно спрятано под изысканной элегантностью, а иногда и под самым тонким зубоскальством.
В результате этого противостояния первого дворянина королевских покоев и первой придворной дамы ее высочества разговор, постоянно обрываемый герцогиней де Ноай, неизменно возобновлялся герцогом де Ришелье.
Маршал много путешествовал, побывал при всех королевских дворах Европы, отовсюду перенимал тон, соответствовавший его темпераменту, знал все анекдоты и потому, обладая редкостным тактом и будучи знатоком правил приличия, безошибочно определял, какие из них можно рассказать за столом юных инфантов, а какие — в тесном кругу у г-жи Дюбарри.
В этот вечер он заметил, что ее высочество ест с большим аппетитом, да и дофин ей не уступает. Он предположил, что они вряд ли будут способны поддержать беседу и ему придется заставить герцогиню де Ноай в течение часа пройти через настоящее чистилище.
Он заговорил о философии и театре: это были две темы, ненавистные почтенной герцогине.
Герцог начал рассказ об одной из последних филантропических причуд фернейского философа, как с некоторых пор называли автора «Генриады». Увидев, что герцогиня изнемогает, он переменил тему: стал во всех подробностях рассказывать, с каким трудом ему в качестве первого дворянина королевских покоев удалось заставить более или менее сносно играть актрис королевского театра.
Дофина интересовалась искусствами, особенно театром, самолично подбирала костюм Клитемнестры для мадемуазель Рокур, поэтому слушала г-на де Ришелье не просто благосклонно, но с большим удовольствием.
Бедная придворная дама, вопреки этикету, стала ерзать на своем возвышении, громко сморкалась и осуждающе качала головой, не замечая пудры, при каждом движении поднимающейся над ее головой подобно снежному облаку, окутывающему вершину Монблана при порыве ветра.
Но развлекать только Марию Антуанетту было недостаточно, надо было еще понравиться дофину. Ришелье оставил в покое театр, к которому наследник французской короны никогда не выказывал особого пристрастия, и заговорил о философии. Он рассуждал об англичанах с такою же горячностью, с какой Руссо говорил об Эдуарде Бомстоне.
А герцогиня де Ноай ненавидела англичан так же яростно, как и философов.
Свежая мысль была для нее утомительной; усталость проникала во все поры ее существа. Госпожа де Ноай чувствовала, что родилась консерватором, она готова была выть от новых мыслей, как воют собаки при виде людей в масках.
Ришелье, ведя эту игру, преследовал две цели: он мучил г-жу Этикет, что доставляло видимое удовольствие ее высочеству дофине, а также то тут, то там вставлял высоконравственные афоризмы или подсказывал математические аксиомы любителю точных наук господину дофину.
Итак, он ловко исполнял обязанности придворного и в то же время старательно искал глазами того, кого он рассчитывал встретить, но до сих пор не находил. Вдруг снизу раздался крик, отдавшийся под сводами дворца, а затем повторенный другими голосами сначала на лестнице, затем перед дверью в столовую:
— Король!
При этом магическом слове г-жу де Ноай подбросило словно стальной пружиной; Ришелье, напротив, с привычной неторопливостью поднялся. Дофин поспешно вытер губы салфеткой и встал, устремив взгляд на дверь.
Ее высочество дофина направилась к лестнице, чтобы в качестве хозяйки дома как можно раньше встретить короля и оказать ему гостеприимство.
XCII
ЛОКОН КОРОЛЕВЫ
Король поднимался по лестнице, не выпуская руки мадемуазель де Таверне. Дойдя до площадки, он стал с ней столь галантно и так долго раскланиваться, что Ришелье еще успел заметить поклоны, восхитился их изяществом и спросил себя, какая счастливица их удостоилась.
В неведении он находился недолго. Людовик XV взял за руку ее высочество; она все видела и, разумеется, узнала Андре.
— Дочь моя, — сказал он принцессе, — я без церемоний зашел к вам поужинать. Я прошел через весь парк, по дороге встретил мадемуазель де Таверне и попросил меня проводить.
— Мадемуазель де Таверне! — прошептал Ришелье, растерявшись от неожиданности. — Клянусь честью, мне повезло!
— Я не только не стану бранить мадемуазель за опоздание, — любезно отвечала дофина, — я хочу поблагодарить ее за то, что она привела к нам ваше величество.
Красная, как восхитительные вишни в вазе, стоявшей на столе среди цветов, Андре молча поклонилась.
«Дьявольщина! Да она в самом деле хороша собой, — сказал себе Ришелье, — старый дурак де Таверне не преувеличивал».
Приняв поклон дофина, король уселся за стол. Обладая, как и его предок, завидным аппетитом, монарх оказывал честь импровизированному угощению, которое благодаря дворецкому появилось перед ним как по волшебству.
Однако во время ужина король, сидевший спиной к двери, казалось, что-то или, вернее, кого-то искал.
Мадемуазель де Таверне не пользовалась привилегиями, так как положение ее при дофине еще не было определено, поэтому в столовую она не вошла. Низко присев в реверансе в ответ на поклон короля, она прошла в комнату Марии Антуанетты: та несколько раз просила почитать ей перед сном.
Ее высочество дофина поняла, что взгляд короля ищет ее прекрасную чтицу.
— Господин де Куаньи! — обратилась она к молодому гвардейскому офицеру, стоявшему за спиной у короля. — Пригласите, пожалуйста, мадемуазель де Таверне. С позволения госпожи де Ноай мы сегодня отступим от этикета.
Господин де Куаньи вышел и минуту спустя ввел Андре, оглушенную сыпавшимися на нее милостями и трепетавшую от волнения.
— Садитесь здесь, мадемуазель, рядом с герцогиней, — сказала дофина.
Андре робко поднялась на возвышение; она была так смущена, что имела дерзость сесть на расстоянии фута от этой дамы.
Герцогиня бросила на нее такой испепеляющий взгляд, что бедное дитя будто прикоснулось к лейденской банке: девушка отскочила по меньшей мере фута на четыре.
Людовик XV наблюдал за ней с улыбкой.
«Вот как! — воскликнул про себя Ришелье. — Пожалуй, мне не придется вмешиваться: все идет своим чередом».
Король обернулся и заметил маршала, готового выдержать его взгляд.
— Здравствуйте, господин герцог! — приветствовал его Людовик XV. — Дружно ли вы живете с герцогиней де Ноай?
— Сир! — отвечал маршал. — Герцогиня всегда оказывает мне честь, обращаясь со мной как с ветреником.
— Разве вы тоже ездили на дорогу к Шантелу?
— Я, сир? Клянусь вам, нет. Я в высшей степени счастлив милостями, оказанными вашим величеством моей семье.
Король не ожидал такого ответа, он собирался позубоскалить, но герцог его опередил.
— Что же я сделал, герцог?
— Сир! Ваше величество поручили командование шеволежерами господину герцогу д’Эгильону, моему родственнику.
— Да, вы правы, герцог.
— А для такого шага нужны смелость и ловкость вашего величества, ведь это почти государственный переворот.
Ужин подходил к концу. Король выждал минуту и поднялся из-за стола.
Разговор становился для него щекотливым, однако Ришелье решил не выпускать добычу из рук. Когда король заговорил с герцогиней де Ноай, принцессой и мадемуазель де Таверне, Ришелье ловко сумел вмешаться, а потом и вовсе овладел разговором и направил его в нужное русло.
— Знает ли ваше величество, что успехи придают смелости?
— Вы хотите сказать, что чувствуете себя смелым, герцог?
— Да, я хотел бы просить ваше величество о новой милости после той, какую вы соблаговолили мне оказать. У одного из моих добрых друзей, старого слуги вашего величества, сын служит в жандармах. Молодой человек обладает большими достоинствами, но беден. Он получил из рук августейшей принцессы патент на чин капитана, но у него нет роты.
— Принцесса эта — моя дочь? — спросил король, обратившись к дофине.
— Да, сир, — отвечал Ришелье, — а отца этого молодого человека зовут барон де Таверне.
— Отец?.. — невольно вырвалось у Андре. — Филипп?! Так вы, господин герцог просите роту для Филиппа?
Устыдившись того, что нарушила этикет, Андре отступила, покраснев и умоляюще сложив руки.
Король, обернувшись, залюбовался стыдливым румянцем красивой девушки; потом он подошел к Ришелье с благожелательным взглядом, по которому придворный мог судить, насколько его просьба приятна и уместна.
— В самом деле, это прекрасный молодой человек, — подхватила дофина, — и я обязана помочь ему сделать карьеру. Однако до чего несчастны принцы! Когда Бог наделяет их благими намерениями, он лишает их памяти или разума. Ведь я должна была подумать о том, что молодой человек беден, что недостаточно дать ему эполеты и что надо еще прибавить роту!
— Как вы, ваше высочество, могли об этом знать?
— Я знала! — живо возразила дофина с жестом, вызвавший в памяти Андре скромный, убогий дом, в котором, однако, так счастливо протекло ее детство. — Да, я знала, но думала, что все сделала, добившись чина для господина Филиппа де Таверне. Ведь его зовут Филипп, мадемуазель?
— Да, ваше высочество.
Король обвел взглядом окружавшие его благородные открытые лица. Он остановился на Ришелье — лицо маршала светилось великодушием под влиянием августейшей соседки.
— Ах, герцог! Я рискую поссориться с Люсьенном, — вполголоса сказал он ему.
Затем Людовик с живостью обернулся к Андре:
— Скажите, что это доставит вам удовольствие, мадемуазель!
— Ах, сир, я вас умоляю об этом! — воскликнула Андре, складывая руки.
— Согласен! — отвечал Людовик XV. — Выберите роту получше этому бедному юноше, герцог, а я обеспечу средствами, если вакансия не оплачена.
Доброе дело порадовало всех присутствующих: Андре одарила короля божественной улыбкой, Ришелье получил благодарность из ее прелестных уст, от которых, будь он моложе, герцог потребовал бы большего, ведь он был не только честолюбив, но и жаден.
Стали прибывать один за другим посетители, среди них — кардинал де Роган; он упорно ухаживал за дофиной с того времени, как она поселилась в Трианоне.
Однако король весь вечер благосклонно разговаривал только с Ришелье. Он даже попросил герцога проводить его, распрощавшись с ее высочеством и отправившись в свой Трианон. Старый маршал последовал за королем, трепеща от радости.
Когда его величество пошел в сопровождении герцога и двух офицеров по темным аллеям, ведущим к его дворцу, дофина отпустила Андре.
— Вам, должно быть, хочется написать в Париж и сообщить приятную новость, — сказала принцесса. — Вы можете идти, мадемуазель.
Вслед за лакеем, шедшим впереди с фонарем в руках, девушка преодолела открытое пространство в сто футов, отделявшее Трианон от служб.
А за ней от куста к кусту перебегала чья-то тень, следившая за каждым движением девушки горящим взором. Это был Жильбер.
Когда Андре подошла к крыльцу и стала подниматься по каменным ступенькам, лакей возвратился в переднюю Трианона.
Жильбер тоже проскользнул в вестибюль, прошел оттуда на конюшенный двор и по крутой узкой лестнице вскарабкался в свою мансарду, находившуюся в углу здания напротив окон спальни Андре.
Он услышал, что Андре позвала горничную герцогини де Ноай, жившую неподалеку. Когда служанка вошла к Андре, шторы упали на окно, подобно непроницаемой завесе между страстными желаниями юноши и предметом, занимавшим все его мысли.
Во дворце остался только кардинал де Роган, с удвоенным рвением любезничавший с ее высочеством; принцесса была с ним холодна.
В конце концов прелат испугался, что его поведение может быть дурно истолковано, тем более что дофин удалился. Он откланялся с выражениями глубокого почтения.
Когда он садился в карету, к нему подошла одна из служанок дофины и вслед за ним почти втиснулась в карету.
— Вот, — прошептала она.
Она вложила ему в руку небольшой гладкий листок; его прикосновение заставило кардинала вздрогнуть.
— Вот! — с живостью отвечал он, вложив в руку женщины тяжелый кошелек, который, даже будь он пустым, представлял бы собою солидное вознаграждение.
Не теряя времени, кардинал приказал кучеру гнать в Париж и спросить новых указаний у городских ворот.
Дорогой он в темноте ощупал и поцеловал, подобно опьяненному любовью юноше, то, что было завернуто в бумагу.
Когда карета подъехала к городским воротам, он приказал:
— Улица Сен-Клод!
Вскоре он уже шагал через таинственный двор и входил в малую гостиную, где его встретил молчаливый привратник Фриц.
Бальзамо заставил кардинала ожидать четверть часа. Наконец он вошел в гостиную и объяснил задержку поздним временем; он полагал, что время визитов истекло.
Было в самом деле около одиннадцати вечера.
— Вы правы, господин барон, — проговорил кардинал, — прошу прощения за беспокойство. Но, помните, однажды вы мне сказали, что можно было бы узнать одну тайну?..
— Для этого мне были нужны волосы того лица, о котором мы в тот день говорили, — перебил Бальзамо, успевший заметить бумажку в руках наивного прелата.
— Совершенно верно, господин барон.
— Вы принесли мне эти волосы, монсеньер? Прекрасно!
— Вот они. Могу ли я получить их назад после опыта?
— Да, если не придется прибегнуть к огню… В этом случае…
— Разумеется, разумеется! — согласился кардинал. — Да я себе еще достану. Смогу ли я узнать разгадку?
— Сегодня?
— Я нетерпелив, как вам известно.
— Я должен сначала попробовать, монсеньер.
Бальзамо взял локон и поспешил к Лоренце.
«Итак, сейчас я узнаю секрет этой монархии, — рассуждал он сам с собою дорогой, — сейчас мне откроется Божья воля, скрытая от простых смертных».
Прежде чем отворить таинственную дверь, он через стену усыпил Лоренцу. Молодая женщина встретила его нежным поцелуем.
Бальзамо с трудом вырвался из ее объятий. Трудно сказать, что было мучительнее для бедного барона: упреки прекрасной итальянки во время ее пробуждения или ее ласки, когда она находилась в состоянии гипноза.
Наконец ему удалось разъединить прекрасные руки молодой женщины, кольцом обвившие его шею.
— Лоренца, дорогая моя! — обратился он к ней, вкладывая ей в руку бумажку. — Скажи мне: чьи это волосы?
Лоренца прижала локон к груди, потом ко лбу. Несмотря на то что глаза ее оставались раскрыты, она видела во время сна внутренним взором.
— О! Эти волосы тайком сострижены с головы, принадлежащей именитой особе! — сообщила она.
— Правда? А эта особа счастлива? Ответь!
— Она могла бы быть счастлива.
— Смотри внимательно, Лоренца.
— Да, она могла бы быть счастлива, ее жизнь еще ничем не омрачена.
— Однако она замужем…
— О! — только и могла ответить Лоренца с нежной улыбкой.
— Ну что? Что хочет сказать моя Лоренца?
— Она замужем, дорогой Бальзамо, — повторила молодая женщина, — однако…
— Однако?..
— Однако…
Лоренца опять улыбнулась.
— Я тоже замужем, — прибавила она.
— Разумеется.
— Однако…
Бальзамо с удивлением взглянул на Лоренцу; даже во сне лицо молодой женщины залила краска смущения.
— Однако?.. — повторил Бальзамо. — Договаривай!
Она вновь обвила руками шею возлюбленного и, спрятав лицо у него на груди, прошептала:
— Однако я еще девственница.
— И эта женщина, эта принцесса, эта королева, — вскричал Бальзамо, — будучи замужем, тоже?..
— И эта женщина, эта принцесса, эта королева, — повторила Лоренца, — так же чиста и девственна, как я; даже еще чище и целомудреннее, потому что она не любит так, как я.
— Это судьба! — пробормотал Бальзамо. — Благодарю тебя Лоренца, это все, что я хотел узнать.
Он поцеловал ее, бережно спрятал волосы в карман, потом отстриг у Лоренцы небольшую прядь черных волос, сжег их над свечкой, а пепел собрал на бумажку, в которую были завернуты волосы дофины.
Он спустился вниз, на ходу приказав молодой женщине пробудиться.
Теряя терпение, взволнованный прелат ожидал его в гостиной.
— Ну как, господин граф? — с сомнением спросил он.
— Все хорошо, монсеньер.
— Что оракул?
— Оракул сказал, что вы можете надеяться.
— Он так сказал? — восторженно воскликнул принц.
— Вы можете судить, как вам заблагорассудится, монсеньер: оракул сказал, что эта женщина не любит своего супруга.
— О! — вне себя от счастья воскликнул г-н де Роган.
— А волосы мне пришлось сжечь, добиваясь истины. Вот пепел, я аккуратно собрал его для вас, словно каждая частица стоит целого миллиона, и с удовольствием возвращаю.
— Благодарю вас, сударь, благодарю, — я ваш вечный должник.
— Не будем об этом говорить, монсеньер. Позвольте дать вам один совет, — продолжал Бальзамо. — Не подмешивайте этот пепел себе в вино, как делают некоторые влюбленные. Это очень опасный опыт: ваша любовь может стать неизлечимой, а возлюбленная к вам охладеет.
— Да, я от этого воздержусь, — в страхе проговорил прелат. — Прощайте, господин граф, прощайте!
Спустя двадцать минут карета его высокопреосвященства пересекла на углу улицы Пти-Шан путь экипажу г-на де Ришелье, едва не опрокинув его в одну из глубоких ям, вырытых для постройки дома.
Оба сеньора узнали друг друга.
— A-а, это вы, принц! — с улыбкой сказал Ришелье.
— A-а, герцог! — отвечал Луи де Роган, прижав к губам палец.
И кареты разъехались в разные стороны.
XCIII
ГОСПОДИН ДЕ РИШЕЛЬЕ ОТДАЕТ ДОЛЖНОЕ НИКОЛЬ
Герцог де Ришелье направлялся в небольшой особняк барона де Таверне на улице Кок-Эрон.
Благодаря нашей возможности подобно хромому бесу легко проникать в запертые дома, мы раньше г-на де Ришелье узнаем, что в этот час барон сидел перед камином, уперев ноги в решетку для дров, под которой догорали головни. Он читал Николь наставления, время от времени беря ее за подбородок, несмотря на то что на ее лице появилось недовольное и пренебрежительное выражение.
То ли Николь привыкла к ласкам без наставлений, то ли предпочитала наставление без ласки — не смеем утверждать!
Хозяин и служанка вели серьезный разговор. Они выясняли, почему в определенные вечерние часы Николь не сразу являлась на звонок, почему ее постоянно задерживали какие-нибудь дела то в саду, то в оранжерее и почему во всех остальных местах, кроме этих двух — сада и оранжереи, — она плохо исполняла свои обязанности.
Николь кокетливо извивалась всем телом и со сладострастием в голосе говорила:
— Что ж поделаешь?.. Я здесь скучаю: мне обещали, что я отправлюсь в Трианон вместе с мадемуазель!..
Господин де Таверне милостиво потрепал Николь по щечке и подбородку, очевидно, чтобы немного ее развлечь.
Николь, уклоняясь от утешений барона, оплакивала свою горькую долю.
— Ведь я же говорю правду! — хныкала она. — Я заперта в этих чертовых четырех стенах, не вижу общества и просто задыхаюсь! А мне обещали развлечения и будущее!
— Что ты имеешь в виду? — спросил барон.
— Трианон! — воскликнула Николь. — В Трианоне меня окружала бы роскошь. Я бы хотела людей посмотреть и себя показать!
— Ого! Ну и малышка Николь! — заметил барон.
— Да, господин барон, ведь я женщина, и не хуже других.
— Черт побери! Хорошо сказано! — глухо молвил барон. — Она живет, волнуется. Эх, если бы я был молод и богат!..
Он не удержался и бросил восхищенный и завистливый взгляд на девушку, в которой было столько молодости, задора и красоты.
Выйдя из задумчивости, Николь нетерпеливо проговорила:
— Ложитесь, сударь, и я тоже пойду лягу.
— Еще одно слово, Николь!
Внезапно звонок у входной двери заставил Таверне вздрогнуть, а Николь так и подскочить.
— Кто к нам может прийти в половине двенадцатого? Поди взгляни, дорогая.
Николь отворила дверь, узнала имя посетителя и оставила входную дверь приоткрытой.
Через эту щель выскочил человек и с изрядным шумом пробежал через двор, что привлекло внимание позвонившего маршала — а это был он, — успевшего обернуться и заметить беглеца.
Николь прошла впереди Ришелье со свечой в руках; она вся сияла.
— Так-так-так! — улыбнулся маршал, следуя за ней в гостиную. — Этот старый плут де Таверне говорил мне только о своей дочери.
Герцог был из тех, кому довольно было одного взгляда, чтобы увидеть все, что ему нужно.
Промелькнувшая тень человека навела его на мысль о Николь, а Николь заставила задуматься о тени. По радостному лицу девушки герцог догадался, зачем приходил этот человек, а когда он рассмотрел лукавые глаза, белые зубки и тонкую талию субретки, у него не осталось больше сомнений ни о ее характере, ни о ее вкусах.
Войдя в гостиную, Николь с замиранием сердца объявила:
— Господин герцог де Ришелье!
Этому имени суждено было произвести в тот вечер сенсацию. Оно так подействовало на барона, что он поднялся с кресла и пошел к двери, не веря своим ушам.
Однако, не дойдя до порога, он заметил в сумерках коридора г-на де Ришелье.
— Герцог!.. — пролепетал он.
— Да, дорогой друг, герцог собственной персоной, — любезно отвечал Ришелье. — Это вас удивляет, особенно после оказанного вам недавно приема. Однако в этом нет ничего удивительного. А теперь — твою руку!
— Господин герцог! Вы слишком добры ко мне.
— Ты не слишком умен, мой дорогой! — хохотнул старый маршал, протягивая Николь трость и шляпу и поудобнее усаживаясь в кресле. — Ты отупел, ты городишь вздор… Ты не узнаешь своих, насколько я понимаю.
— Однако, герцог, мне кажется, что оказанный мне тобою третьего дня прием был настолько многозначителен, что ошибиться трудно, — отвечал взволнованный Таверне.
— Послушай, мой старый друг, третьего дня ты вел себя как школьник, а я — как педант, не хватило лишь розги, — возразил Ришелье. — Мы друг друга не поняли. Сейчас ты хочешь мне что-то сказать, а я — избавить тебя от этого труда. Иначе ты скажешь по этому поводу какую-нибудь глупость, а я отвечу тебе тем же. Перейдем лучше от вчерашнего дня к сегодняшнему. Знаешь, зачем я к тебе приехал?
— Разумеется, нет.
— Я привез тебе роту, о которой ты меня просил позавчера и которую король дает твоему сыну. Какого черта! Должен же ты улавливать тонкости: третьего дня я был почти министром — просить было бы с моей стороны неудобно; сегодня я отказался от портфеля и опять стал прежним Ришелье — было бы нелепо, ежели бы я не попросил за тебя. И вот я попросил, получил и принес!
— Герцог! Неужели это правда?.. Такая доброта с твоей стороны…
— … вполне естественна, потому что это долг друга… То, в чем отказал бы министр, Ришелье добывает и дает.
— Ах, герцог, как ты меня порадовал! Так ты по-прежнему мой верный друг?
— Черт возьми!
— Но король!.. Неужели король согласился оказать мне такую милость?..
— Король сам не знает, что делает; впрочем, возможно, я ошибаюсь и он, напротив, прекрасно это знает.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Я хочу сказать, что у его величества, может быть, есть свои причины доставить неудовольствие графине Дюбарри. Возможно, именно этому ты обязан оказанной тебе милостью еще более, нежели моему влиянию.
— Ты полагаешь?
— Я в этом совершенно уверен, хотя и помог тебе. Ты ведь, должно быть, знаешь, что я отказался от портфеля из-за этой шлюхи.
— Так говорят, однако…
— Однако ты в это не веришь, скажи откровенно!
— Да, должен признаться…
— Это означает, что ты полагал, будто у меня нет совести.
— Это означает, что я считал тебя человеком без предрассудков.
— Дорогой мой! Я старею и люблю хорошеньких женщин, только если они полезны мне… И потом, у меня есть кое-какие соображения… Впрочем, вернемся к твоему сыну. Очаровательный мальчик!
— Он в очень скверных отношениях с Дюбарри, которого я встретил у тебя, когда так неловко явился с визитом.
— Мне это известно, поэтому-то я и не министр.
— Ну вот еще!
— Можешь не сомневаться, друг мой!
— Ты отказался от портфеля, чтобы доставить удовольствие моему сыну?
— Если я тебе скажу так, ты мне не поверишь. Твой сын тут ни при чем. Я отказался потому, что требования семейки Дюбарри начинались с изгнания твоего сына и неизвестно еще, какими бы нелепостями они могли закончиться.
— Так ты поссорился с этими ничтожествами?
— И да и нет: они меня боятся, я их презираю — они это заслужили.
— Это смело, но неосторожно.
— Почему ты так думаешь?
— Графиня в фаворе.
— Скажите пожалуйста!.. — презрительно проронил Ришелье.
— Как ты можешь так говорить!
— Я говорю как человек, чувствующий шаткость положения Дюбарри и готовый, если понадобится, подложить мину в подходящее место, чтобы разнести все в клочья.
— Если я правильно понял, ты оказываешь услугу моему сыну, чтобы уколоть семейство Дюбарри.
— В большей степени — ради этого, твоя проницательность тебя не подвела; твой сын служит мне запалом, я хочу поджечь с его помощью… А кстати, барон, нет ли у тебя и дочери?
— Есть…
— Молодая?
— Ей шестнадцать лет.
— Хороша собой?
— Как Венера.
— Она живет в Трианоне?
— Так ты с ней знаком?
— Я провел с ней вечер и целый час проговорил о ней с королем.
— С королем? — вскричал Таверне; щеки его пылали.
— С королем.
— Король говорил о моей дочери, о мадемуазель Андре де Таверне?
— Он с нее глаз не сводит, дорогой мой.
— Неужели?
— Тебе это не по душе?
— Мне?.. Ну что ты!.. Напротив! Король оказывает мне честь, глядя на мою дочь… но…
— Но что?
— Дело в том, что король…
— … распутен? Ты это хотел сказать?
— Боже меня сохрани дурно отзываться о его величестве; он имеет право быть таким, каким ему хочется быть.
— В таком случае что означает твое удивление? Неужели ты мог вообразить, что король не будет влюбленными глазами смотреть на твою дочь? Ведь мадемуазель Андре — само совершенство!
Таверне ничего не ответил. Он пожал плечами и глубоко задумался. Ришелье следил за ним инквизиторским взглядом.
— Что же! Я догадываюсь, о чем ты думаешь, — продолжал старый маршал, подвигая свое кресло поближе к барону. — Ты думаешь, что король привык к дурному обществу… что он якшается со всяким сбродом, как выражаются в Поршероне, и, следовательно, не станет заглядываться на благородную девицу, отличающуюся целомудренной чистотой и невинной любовью, что он не заметит это сокровище, полное грации и очарования… Ведь его влекут только непристойные разговоры, пошлые подмигивания да ухаживания за гризетками.
— Решительно, ты великий человек, герцог.
— Почему?
— Потому что ты все верно угадал, — молвил Таверне.
— Однако признайтесь, барон, — продолжал Ришелье, — давно пора нашему властелину перестать заставлять нас, знатных господ, пэров и друзей короля Французского, целовать плоскую и грязную руку куртизанки низкого происхождения. Пора было бы вернуть нам наше достоинство. Ведь от Шатору, которая была маркизой и принадлежала к роду герцогов, он опустился до Помпадур, дочери и жены откупщика, а после нее унизился до Дюбарри, которую звали просто Жаннетон. Как бы ей на смену не явилась кухарка Мариторн или пастушка Гатон. Это унизительно для нас, барон. Наши шлемы увенчаны коронами, а мы склоняем головы перед этими дурами.
— Совершенно верно! — прошептал Таверне. — Теперь мне понятно, что при дворе нет достойных людей из-за новых порядков.
— Раз нет королевы, нет и женщин. Раз нет женщин, нет и придворных. Король содержит гризетку, и на троне теперь восседает простой народ в лице мадемуазель Жанны Вобернье, парижской белошвейки.
— Да, правда, и…
— Видишь ли, барон, — перебил его маршал, — если бы сейчас нашлась умная женщина, желающая править Францией, ей уготована прекрасная роль…
— Без сомнения! — с замиранием сердца прошептал Таверне. — К сожалению, место занято.
— Прекрасная роль для женщины, — продолжал маршал, — у которой нет таких пороков, как у этих шлюх, однако она должна обладать отвагой, вести себя расчетливо и осмотрительно. Она могла бы так высоко взлететь, что о ней станут говорить даже тогда, когда монархия перестанет существовать. Ты не знаешь, барон, твоя дочь достаточно умна?
— Она очень умна, у нее много здравого смысла.
— Она так хороша собой!
— Ты правда так думаешь?
— Да, она соблазнительна и прелестна, что так нравится мужчинам. Вместе с тем она до такой степени добра и целомудренна, что внушает уважение даже женщинам… Такое сокровище надо беречь, мой старый друг!
— Ты говоришь об этом с таким жаром…
— Я? Да я от нее без ума и хоть завтра женился бы на ней, не будь у меня за плечами семидесяти четырех лет. Однако хорошо ли она устроена? Окружена ли она роскошью, как того заслуживает прекрасный цветок?.. Подумай об этом, барон. Сегодня вечером она одна возвращалась к себе, не имея ни служанки, ни охраны, только в сопровождении лакея ее высочества, освещавшего ей фонарем дорогу; она была похожа на прислугу.
— Что же ты хочешь, герцог! Ведь ты знаешь, что я небогат.
— Богат ты или нет, дорогой мой, у твоей дочери должна быть, по крайней мере, служанка.
Таверне вздохнул.
— Я это и сам знаю, — согласился он, — камеристка ей нужна, вернее, была бы нужна.
— Ну и что же? Неужели у тебя нет ни одной?
Барон не отвечал.
— А эта миленькая девчонка? — продолжал Ришелье. — Она тут недавно вертелась… Хорошенькая, изящная, клянусь честью.
— Да, но…
— Что, барон?
— Ее-то я как раз и не могу послать в Трианон.
— Почему же? Мне, напротив, кажется, что она отлично подойдет; она будет прекрасной субреткой.
— Ты, верно, не видел ее лица, герцог?
— Я-то? Именно на него я и смотрел.
— Раз ты ее видел, ты должен был заметить странное сходство!..
— С кем?
— С… Угадай, попробуй!.. Подите сюда, Николь.
Николь явилась на зов. Как истинная служанка, она подслушивала под дверью.
Герцог взял ее за руки и притянул к себе, зажав между ног ее колени, однако бесцеремонный взгляд знатного сеньора и распутника нисколько ее не смутил, она ни на секунду не потеряла самообладания.
— Да, — сказал он, — да, она в самом деле похожа, это верно.
— Ты знаешь, на кого, и, значит, понимаешь, что нельзя рисковать благополучием нашей семьи из-за неблагоприятного стечения обстоятельств. Разве приятно будет самой прославленной даме Франции убедиться в том, что она похожа на мадемуазель Николь-Дырявый-Чулок?
— Да точно ли этот Дырявый-Чулок похож на самую прославленную даму? — ядовито заговорила Николь, освобождаясь из рук герцога, чтобы возразить барону де Таверне. — Неужели у прославленной дамы такие же округлые плечики, живой взгляд, полненькие ножки и пухлые ручки, как у Дырявого-Чулка? В любом случае, господин барон, — возмущенно закончила она, — я не могу поверить, что вы меня до такой степени низко цените.
Николь раскраснелась от гнева, и это ее очень красило.
Герцог снова схватил ее за руки, опять зажал ее колени меж ног и посмотрел на нее ласково и многообещающе.
— Барон! — заговорил он. — Николь, разумеется, нет равных при дворе: так я, во всяком случае, думаю. Ну а что касается блестящей дамы, с которой, признаюсь, у нее есть обманчивое сходство, тут мы свое самолюбие спрячем… У вас светлые волосы восхитительного оттенка, мадемуазель Николь. У вас царственные очертания бровей и носа. Ну что же, достаточно вам будет провести перед зеркалом четверть часа, и от недостатков, какие находит господин барон, не останется и следа. Николь, дитя мое, хотите отправиться в Трианон?
— О! — вскричала Николь; вся ее мечта выплеснулась в этом восклицании.
— Итак, вы поедете в Трианон, дорогая, и составите там свое счастье, не омрачая счастья других. Барон! Еще одно слово.
— Пожалуйста, дорогой герцог!
— Иди, прелестное дитя, оставь нас на минутку, — приказал Ришелье.
Николь вышла. Герцог приблизился к барону.
— Я потому так тороплю вас с отправкой служанки для вашей дочери, — сказал он, — что это доставит удовольствие королю. Его величество не любит бедности; напротив, ему приятно будет увидеть хорошенькое личико. Я так все это понимаю.
— Пусть Николь едет в Трианон, если ты думаешь, что это может доставить королю удовольствие, — отвечал барон, загадочно улыбаясь.
— Ну, раз ты мне позволяешь, я беру ее с собой: она доедет в моей карете.
— Однако сходство с дофиной… Надо бы что-нибудь придумать, герцог.
— Я уже придумал. Это сходство исчезнет под руками Рафте в четверть часа. За это я тебе ручаюсь… Напиши записочку дочери, барон, объясни важность, которую ты придаешь тому, чтобы при ней была служанка и чтобы ее звали Николь.
— Ты полагаешь, что это непременно должна быть Николь?
— Да, я так думаю.
— И что кто-то другой…
— … не сможет ее заменить на этом месте — почетном, как мне представляется.
— Я сию минуту напишу.
Барон написал письмо и вручил его Ришелье.
— А указания, герцог?
— Я дам их Николь. Она сообразительна?
Барон улыбнулся.
— Ну, так ты мне ее доверяешь?.. — спросил Ришелье.
— Еще бы! Это твое дело, герцог. Ты у меня ее попросил, я ее тебе вручаю. Делай с ней что пожелаешь.
— Мадемуазель, следуйте за мной, — поднимаясь, предложил герцог, — и поскорее.
Николь не заставила повторять приказание дважды. Не спросив согласия барона, она в пять минут собрала свои пожитки в небольшой узелок и, легко ступая, точно на крыльях устремилась к карете, вспорхнула на козлы и уселась рядом с кучером его светлости.
Ришелье попрощался с другом, еще раз выслушав слова благодарности за услугу, оказанную им Филиппу де Таверне.
И ни слова об Андре: говорить о ней было излишне.
XCIV
МЕТАМОРФОЗЫ
Николь никогда еще не была так довольна. Для нее даже отъезд из Таверне в Париж не был таким триумфом, как путешествие из Парижа в Трианон.
Она была так любезна с кучером г-на де Ришелье, что на следующее же утро о новой служанке только и было разговору во всех каретных сараях и мало-мальски аристократических передних Версаля и Парижа.
Когда карета прибыла в особняк Ганновер, г-н де Ришелье взял служанку за руку и повел во второй этаж, где его ожидал Рафте, аккуратно отвечавший от имени маршала на корреспонденцию.
Среди всех занятий маршала война играла важнейшую роль, и Рафте стал, по крайней мере, в теории, таким знатоком военного искусства, что, живи Полибий и шевалье де Фолар в наши дни, они были бы счастливы получить одну из тех памятных записок по фортификации или тактике, которые выходили из-под пера Рафте каждую неделю.
Рафте был занят составлением плана кампании против англичан в Средиземном море, когда вошел маршал и сказал:
— Рафте, взгляни-ка на эту девочку!
Рафте посмотрел на Николь.
— Очень мила, монсеньер, — многозначительно подмигнул он.
— Да, но ее сходство?.. Рафте, я имею в виду ее сходство!
— Э-э, верно. Ах, черт возьми!
— Ты заметил?
— Невероятно! Вот что ее погубит или, напротив, составит счастье.
— Сначала погубит, но мы наведем в этом деле порядок. Как видите, Рафте, у нее белокурые волосы. Да ведь это не беда, правда?
— Нужно только перекрасить их в черный цвет, монсеньер, — подхватил Рафте, взявший в привычку заканчивать мысли своего хозяина, а часто и думать за него.
— Ступай в мою туалетную комнату, малышка, — приказал маршал. — Этот господин очень ловок; он сейчас сделает из тебя самую красивую и самую неузнаваемую субретку Франции.
В самом деле, десять минут спустя при помощи состава, которым каждую неделю пользовался маршал, чтобы чернить свои седые волосы — это кокетство, какое герцог позволял себе, как он утверждал, еще довольно часто, отправляясь в знакомые ему закоулки Парижа, — Рафте выкрасил прекрасные пепельные волосы Николь в черный цвет. Затем он провел по ее густым светлым бровям булавочной головкой, перед тем подержав ее над пламенем свечи. Благодаря этому он придал ее жизнерадостному лицу фантастическое выражение, ее живым и светлым глазам сообщил страстный, а временами — мрачный взгляд. Можно было подумать, что Николь — фея, вышедшая по приказу повелителя из волшебной шкатулки, где до сих пор находилась по воле чародея.
— А теперь, красавица, — предложил Ришелье, протянув зеркало пораженной Николь, — взгляните, как вы обворожительны, а самое главное — как мало похожи на прежнюю Николь. Вам нечего больше опасаться гибели, теперь вы будете иметь успех.
— О, монсеньер! — воскликнула девушка.
— А для этого нам осталось только условиться.
Николь покраснела и опустила глаза; плутовка ожидала, без сомнения, речей, на которые г-н де Ришелье был большой мастер.
Герцог понял и, чтобы покончить с недоразумением, обратился к Николь:
— Сядьте вот в это кресло, милое дитя, рядом с господином Рафте. Слушайте меня внимательно… Господин Рафте нам не помешает, не беспокойтесь. Напротив, он выскажет нам свое мнение. Вы расположены меня слушать?
— Да, монсеньер, — пролепетала устыженная Николь, введенная в заблуждение своим тщеславием.
Беседа г-на де Ришелье с Рафте и Николь длилась добрый час. Потом герцог отослал девушку спать к служанкам особняка.
Рафте вернулся к своей памятной записке по военным делам, а г-н де Ришелье лег в постель, просмотрев прежде письма, предупреждавшие его о происках провинциальных парламентов против г-на д’Эгильона и шайки Дюбарри.
На следущее утро одна из его карет без гербов отвезла Николь в Трианон и, оставив ее с маленьким узелком возле решетки, укатила.
Высоко подняв голову, с надеждой во взоре, Николь спросила дорогу и подошла к дверям служб.
Было шесть часов утра. Андре уже встала и оделась. Она писала отцу о происшедшем накануне счастливом событии, о чем барона де Таверне уже известил, как мы говорили, г-н де Ришелье.
Должно быть, наши читатели не забыли о каменном крыльце, что ведет со стороны сада в часовню Малого Трианона. С паперти часовни лестница идет направо во второй этаж, то есть в комнаты дежурных фрейлин. Вдоль этих комнат тянулся длинный, как аллея, коридор, куда свет проникал со стороны сада.
Комната Андре в этом коридоре была первой налево. Она была довольно просторна, хорошо освещалась благодаря окну, выходившему на большой конюшенный двор; ее отделяла от коридора маленькая передняя, из которой влево и вправо уходили две туалетные комнаты.
Комната эта, слишком скромная, если принять во внимание образ жизни особ, находившихся на службе при блестящем дворе, была, впрочем, уютной, очень удобной для жилья кельей, веселым убежищем и местом отдохновения от дворцовой суеты. Здесь могла укрыться честолюбивая душа, переживая выпавшие на ее долю в этот день оскорбления или разочарования. Здесь также могла отдохнуть в тишине и одиночестве, укрывшись от великих мира сего, возвышенная и печальная душа.
В самом деле, здесь не существовало ни превосходства положения, ни замечаний — стоило лишь переступить порог и подняться по лестнице часовни. Тишина, как в монастыре, и такое же освобождение плоти, как в тюрьме. Кто был рабом во дворце, тот становился хозяином в помещении служб.
Андре, с ее нежной и гордой душой, умела находить радость во всех этих мелочах. И не потому, что ей необходимо было искать утешения для раненого честолюбия или пищи для ненасытной фантазии; просто Андре казалось, что она свободнее в четырех стенах своей комнаты, нежели в дорогих гостиных Трианона, по которым она проходила робко, а иногда и со страхом.
Здесь, в своем углу, где Андре чувствовала себя как дома, она без всякого смущения вспоминала великих мира сего, ослеплявших ее на протяжении всего дня. Находясь в окружении цветов, сидя за клавесином или погрузившись в немецкие книги, верные спутники тех, кто пропускает прочитанное через сердце, Андре не боялась, что судьба пошлет ей огорчение или отнимет радость.
«Здесь у меня есть почти все, что нужно до самой смерти, — думала она по вечерам, когда возвращалась, исполнив все свои обязанности, и, надев пеньюар в широкую складку, отдыхала душой и телом. — Может быть, мне суждено когда-нибудь разбогатеть, но я не стану беднее, чем теперь: со мной навсегда останутся цветы, музыка и хорошая книга, что поддержит в одиночестве».
Андре добилась позволения завтракать у себя в комнате, когда ей заблагорассудится. Она очень дорожила этой милостью, потому что могла теперь оставаться у себя до полудня, если ее высочество не вызывала ее для чтения или участия в утренней прогулке. В хорошую погоду она по утрам шла с книгой в лес, раскинувшийся от Трианона до Версаля. Проведя два часа на свежем воздухе в размышлениях и мечтах, она возвращалась к завтраку, не встретив порой ни одной души — ни господина, ни слуги.
Если было слишком жарко и солнце припекало даже сквозь густую листву, Андре всегда могла укрыться в прохладе своей комнаты, которую можно было быстро проветрить, открыв и окно и выходившую в коридор дверь. Небольшая софа, крытая индийским ситцем, четыре одинаковых стула, девичья кровать под круглым пологом с занавесками из той же ткани, что и обивка на мебели, две китайские вазы на камине, квадратный стол на медных ножках — таков был мир, в котором были заключены все надежды Андре, все ее желания.
Итак, мы сказали, что девушка сидела у себя в комнате и писала к отцу, когда робкий стук в дверь коридора привлек ее внимание.
Она подняла голову и, увидев, что дверь отворяется, тихонько вскрикнула от удивления, когда в дверях показалось улыбающееся лицо Николь.
XCV
КАК РАДОСТЬ ОДНИХ ПРИВОДИТ В ОТЧАЯНИЕ ДРУГИХ
— Здравствуйте, мадемуазель! Это я! — присев в реверансе, весело представилась Николь; зная нрав хозяйки, она, должно быть, испытывала некоторое беспокойство.
— Как вы здесь оказались? — спросила Андре, откладывая перо и готовясь к серьезному разговору.
— Мадемуазель совсем обо мне забыла, а я вот приехала!
— Если я о вас и забыла, мадемуазель, это означает лишь то, что у меня были для этого причины. Кто вам позволил явиться?
— Господин барон, разумеется, мадемуазель! — отвечала Николь, недовольно сдвинув красивые черные брови, которыми она была обязана благосклонным усилиям Рафте.
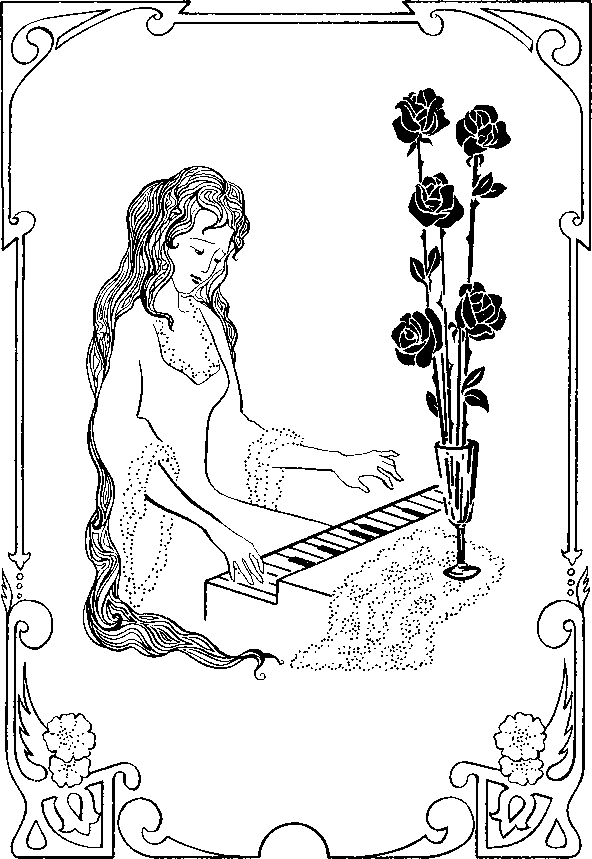
— Вы нужны моему отцу в Париже, мне же, напротив, нет в вас здесь ни малейшей надобности… Можете возвращаться, дитя мое.
— Ах, неужели мадемуазель совсем меня на любит? А я-то думала, что доставлю вам удовольствие!.. Стоит ли после этого любить, если вас ждет такая награда!.. — глубокомысленно заметила Николь.
Она изо всех сил выдавила из своих красивых глазок слезу.
И все же в ее упреке было достаточно искренности, чувствительности, и это пробудило в Андре сочувствие.
— Дитя мое, — заговорила она, — здесь есть кому прислужить мне; я же не могу себе позволить навязывать ее высочеству лишний рот.
— Как будто этот рот такой уж большой! — с непринужденной улыбкой возразила Николь.
— Это неважно, Николь. Твое присутствие здесь невозможно.
— Из-за сходства? — спросила девушка. — Разве вы ничего не замечаете, мадемуазель?
— Да, мне кажется, ты действительно изменилась.
— Еще бы! Добрый сеньор, который помог господину Филиппу получить чин, приехал к нам вчера вечером; увидав господина барона расстроенным тем, что оставил вас здесь без служанки, он сказал, что нет ничего проще, как превратить блондинку в брюнетку. Он взял меня с собой, перекрасил, как видите, и вот я здесь.
Андре улыбнулась:
— Должно быть, ты очень меня любишь, если любой ценой хочешь попасть в Трианон, где я почти пленница.
Николь окинула комнату беглым и вместе с тем проницательным взглядом.
— Невеселая комнатка, — заметила она. — Но ведь вы не все время проводите здесь?
— Нет, — ответила Андре. — А ты?
— Что я?
— Тебе не бывать в гостиной рядом с дофиной; у тебя не будет ни игр, ни прогулок, ни общества, ты всегда будешь здесь, ты рискуешь умереть от скуки.
— Да ведь есть же окошко, — возразила Николь, — из него я смогу увидеть хоть бы краешек этого мира; или, на худой конец, погляжу хоть через дверь… А если мне можно увидеть что-то, то и меня кто-нибудь сможет заметить. Вот и все, что мне нужно, не беспокойтесь обо мне.
— Повторяю, Николь: я не могу тебя оставить без позволения.
— Какого позволения?
— От батюшки.
— Это ваше последнее слово?
— Да, это мое последнее слово.
Николь вынула запрятанное на груди письмо барона де Таверне.
— Раз мои мольбы и моя преданность на вас не действуют, посмотрим, что вы скажете, ознакомившись с родительским наставлением.
Андре прочла письмо:
«Я знаю сам, и это стали замечать посторонние, дорогая Андре, что Вы живете в Трианоне не так, как того настоятельно требует занимаемое Вами положение. Вам следовало бы иметь двух служанок и выездного лакея, а мне — тысяч двадцать ливров годового дохода. Но я довольствуюсь только одной тысячей. Поступайте как я и возьмите Николь: она одна заменит всю необходимую Вам прислугу.
Николь — ловкая, умная и преданная Вам девушка, Она скоро усвоит тон и манеры, принятые при дворе. Вам придется не подгонять, а усмирять ее. Оставьте ее при себе и не думайте, что это жертва с моей стороны. Если такая мысль придет Вам в голову, вспомните, что его величество добр и при виде Вас подумал обо всем нашем семействе. Однако он обратил внимание на то — это передал мне по секрету один мой добрый друг, — что Вы не уделяете должного внимания своим туалетам и своему виду. Подумайте об этом, это очень важно.
Любящий Вас отец».
Это письмо привело Андре в печальное недоумение. Неужели даже при теперешней удаче ее так и будет преследовать по пятам бедность? Она-то не считает ее недостатком, а вот все прочие так и будут относиться к Андре как к прокаженной.
Она была готова сломать перо, разорвать начатое письмо и ответить барону какой-нибудь полной философского бескорыстия убедительной тирадой, под которой Филипп подписался бы обеими руками.
Однако, едва она представила себе, как насмешливо улыбнется барон, когда прочтет этот шедевр, вся ее решимость улетучилась. Она ограничилась тем, что ответила на письмо барона пересказом светских новостей Трианона, а в конце приписала:
«Дорогой отец! Только что приехала Николь, и я оставляю ее, подчиняясь Вашей воле. Но то, что Вы написали по этому поводу, привело меня в отчаяние. Разве я не буду выглядеть среди пышных придворных еще нелепее у чем тогда, когда я была одна, если возьму себе в горничные деревенскую простушку? И Николь будет неприятно видеть мое унижение. Она будет мною недовольна, потому что лакеи гордятся богатством или, напротив, стыдятся бедности своих господ. Это касается замечания его величества, дорогой отец, Позвольте с Вами не согласиться: король слишком умен, чтобы сердиться на меня за невозможность казаться богатой дамой. Кроме того, его величество слишком добр, он не станет обращать внимания на мою бедность или осуждать меня: разумнее было бы, не вызывая толков, положить этой бедности конец, чего вполне заслуживают Ваше имя и оказанные Вами в прошлом услуги».
Вот что написала в ответ юная особа, и надо признать, что ее простодушие, ее благородная гордость были выше лукавства и развращенности ее искусителей.
Андре не стала больше спорить с отцом из-за Николь. Возликовавшая служанка немедленно приготовила себе небольшую постель в правой туалетной комнате, выходившей в переднюю, и стала совсем незаметной, воздушной, нежной, чтобы никоим образом не стеснить хозяйку своим присутствием в скромном жилище. Казалось, она хотела быть похожей на лепесток розы, который персидские мудрецы уронили на поверхность наполненного водой бокала, чтобы доказать: можно еще кое-что в него добавить так, чтобы содержимое не перелилось через край.
Андре ушла в Трианон около часа. Никогда еще ее не одевали так быстро и с таким изяществом. Услужливая, внимательная, предупредительная, Николь превзошла себя: она показала все, на что была способна.
Когда мадемуазель де Таверне ушла, Николь почувствовала себя хозяйкой и произвела тщательный осмотр. Ничто от нее не ускользнуло: она просмотрела все, начиная от писем до последней мелочи туалета; она обследовала все — от камина до потайного уголка туалетной комнаты.
Затем она выглянула в окно, чтобы, как говорится, подышать местным воздухом.
Внизу, на большом дворе, конюхи чистили и скребли великолепных лошадей ее высочества. Конюхи — фи! Николь отвернулась.
Справа был ряд окон на одном уровне с окном Андре. В них показались служанки и полотеры. Николь презрительно отвела от них взгляд.
Напротив нее в просторном зале учителя музыки репетировали с хористами и музыкантами, готовясь к мессе в честь Людовика Святого.
Николь, вытирая пыль, напевала так громко, что отвлекала регента, и хористы стали немилосердно фальшивить.
Однако такое времяпровождение не могло долго занимать честолюбивую мадемуазель Николь; после того как из-за нее учителя перессорились с учениками, перевравшими все ноты, эта молодая особа перешла к осмотру верхнего этажа.
Все окна здесь были заперты; кстати сказать, все это были мансарды.
Николь снова принялась вытирать пыль. Спустя мгновение одно из окон верхнего этажа отворилось, хотя было совершенно непонятно, каким образом, потому что никто не появлялся.
Но ведь кто-то должен был его отворить! Этот кто-то увидел Николь и не стал на нее смотреть? Что за наглец?
Так, вероятно, думала Николь. Чтобы не упустить случая и изучить лицо этого наглеца — а Николь старалась изучать все, — она, занимаясь своими делами, при малейшей возможности возвращалась к окну и смотрела на мансарду — иными словами, в этот раскрытый глаз, оказавший ей неуважение тем, что за неимением зрачка не желал на нее смотреть. Однажды ей почудилось, что кто-то спрятался, когда она подходила… Это было невероятно, и она в это не поверила.
В другой раз она в этом почти уверилась, потому что успела увидеть спину беглеца, захваченного врасплох чересчур скорым ее возвращением, которого он не ожидал.
Николь решила пойти на хитрость: она спряталась за занавеской, оставив окно широко распахнутым, чтобы не вызывать подозрений.
Ей пришлось ждать довольно долго. Наконец показались темные волосы, потом дрожащие руки, на которые опиралась боязливо согнувшаяся человеческая фигура. Затем, когда этот человек приподнялся, стало отчетливо видно его лицо. Николь едва не упала навзничь, разорвав занавеску.
Это был Жильбер, смотревший в ее сторону с высоты мансарды.
Увидав, что занавеска затрепетала, Жильбер разгадал хитрость Николь и более не появлялся.
Вскоре и окно мансарды захлопнулось.
Не оставалось никаких сомнений, что Жильбер видел Николь; он был поражен. Он хотел убедиться, что в Трианоне появился его злейший враг, и, когда понял, что его самого узнали, бежал в смущении и гневе.
Так, по крайней мере, объяснила себе эту сцену Николь и была совершенно права: именно так и следовало ее объяснить.
Жильбер предпочел бы увидеть дьявола, нежели встретить здесь Николь. Он представлял себе разные ужасы, связанные с появлением этой надзирательницы. У него еще сохранились остатки былой ревности; она знала его тайную вылазку в сад на улице Кок-Эрон.
Жильбер скрылся в смущении, но не только в смущении, айв гневе, кусая от бешенства кулаки.
«Какое теперь значение имеет мое дурацкое открытие, чем я так гордился?.. — говорил он себе. — Ну и что из того, что у Николь был там любовник. Зло свершилось, и теперь ее не выгонят. Зато если она расскажет, что я делал на улице Кок-Эрон, меня могут лишить места в Трианоне… Теперь не Николь у меня в руках, а я у нее… Проклятье!»
Самолюбие Жильбера подогревало злобу, кровь клокотала в нем с неслыханной силой.
Ему казалось, что, вступив в комнату Андре, Николь своей дьявольской улыбкой изгнала оттуда все прекрасные мечты, которые он обращал к мадемуазель де Таверне вместе со своей горячей любовью, мольбами и посылаемыми ей цветами. До сих пор голова Жильбера была занята совсем другими мыслями. А может, он нарочно старался не думать о Николь, чтобы не испытывать ужаса, который она ему внушала? Вот чего мы не сможем сказать. Зато мы можем утверждать, что видеть Николь ему было очень неприятно.
Он предощущал, что рано или поздно между ним и Николь вспыхнет война. Но он вел себя осторожно и дипломатично, он не хотел, чтобы война началась раньше, чем будет в состоянии вести ее мужественно и успешно.
И он решил затаиться до тех пор, пока не представится случай снова выйти на свет или пока Николь, по слабости или из необходимости, не рискнет на новом месте на поступок, который приведет к потере всех ее преимуществ.
Вот почему, неусыпно и по-прежнему осторожно следя за Андре, Жильбер продолжал быть свидетелем всего происходящего в первой по коридору комнате, устроившись так, что Николь ни разу не встретила его в саду.
К несчастью для Николь, она не была святой. Даже если бы она стала вести себя безупречно, в ее прошлом все же оставался камень преткновения и она неизбежно должна была споткнуться.
Это и произошло неделю спустя. Выслеживая ее по вечерам и по ночам, Жильбер в конце концов через решетку заметил плюмаж, показавшийся ему знакомым. Этот плюмаж неизменно развлекал Николь: он принадлежал г-ну Босиру, переехавшему из Парижа в Трианон.
Николь долгое время была беспощадной; она заставляла г-на Босира дрожать от холода или жариться на солнце, и это ее добродетельное поведение приводило Жильбера в отчаяние. Но настал вечер, когда Босир достиг такого совершенства в языке жестов, что сумел убедить Николь; она воспользовалась минутой, когда Андре обедала в павильоне вместе с герцогиней де Ноай, и последовала за Босиром, помогавшим своему другу, смотрителю конюшни, объезжать ирландскую лошадку.
Со двора они прошли в сад, а из сада — на тенистую аллею, ведущую в Версаль.
Жильбер отправился вслед за влюбленной парой, испытывая жестокую радость идущего по следу тигра. Он сосчитал все их шаги, вздохи, наизусть запомнил долетевшие до него слова; можно себе представить его удовлетворение, если на следующий день он бесстрашно показался, напевая, в окне своей мансарды, и не только не опасался, что его увидит Николь, а, напротив, словно искал ее взгляда.
Николь штопала расшитую шелковую митенку своей хозяйки; при звуке песни она подняла голову и увидела Жильбера.
Она посмотрела на него с презрительным выражением, от которого портится настроение и веет чем-то враждебным… Жильбер выдержал ее взгляд и ее мину с такой странной улыбкой, а в его поведении и его пении было столько вызова, что Николь опустила глаза и покраснела.
«Она поняла, — подумал Жильбер, — это все, что мне было нужно».
С тех пор он начал вести прежний образ жизни, зато теперь трепетала Николь. Она дошла до того, что стала искать встречи с Жильбером, стремясь успокоить сердце, встревоженное насмешливыми взглядами юного садовника.
Жильбер заметил, что она его ищет. Он не мог ошибиться, слыша под окном сухое покашливание Николь в те минуты, когда она наверное знала, что он находится в своей мансарде; он угадывал в коридоре шаги девушки, подстерегавшей его, когда он собирался выйти, или, напротив, подняться к себе.
Некоторое время он торжествовал, приписывая победу своей силе воли и расчетливости. Николь так старательно его выслеживала, что один раз даже увидела, как он поднимается по лестнице к себе в мансарду; она окликнула его, но он не ответил.
Девушка пошла еще дальше в своем любопытстве или в своих опасениях; в один прекрасный вечер она сняла свои туфельки на каблучках, подаренные ей Андре, и, дрожа от страха, устремилась к пристройке, в глубине которой виднелась дверь Жильбера.
Было еще довольно светло, и Жильбер, заслышав шаги Николь, мог отчетливо разглядеть ее в щель между досками.
Она толкнулась в дверь, хорошо зная, что он у себя.
Жильбер не отвечал.
Для него это было опасным искушением. Он мог вволю унижать ту, которая таким образом хотела испросить прощение. Он был одинок, горяч; каждую ночь, когда он приникал глазом к двери, с жадностью пожирая взглядом чарующую красоту этой сладострастницы, его охватывала дрожь при воспоминании о Таверне. Раздразнив свое сластолюбие, он уже поднял руку, чтобы отодвинуть засов, на который он, со свойственной ему подозрительностью, запер дверь, не желая быть захваченным врасплох.
«Нет, — сказал он себе. — У нее есть какой-то расчет. Она пришла ко мне по необходимости или имея какой-нибудь интерес. Она надеется извлечь из этого выгоду. Кто знает, что суждено потерять мне?»
Поразмыслив, он опустил руку. Постучав несколько раз в дверь, Николь удалилась.
Итак, Жильбер сохранил все свои преимущества. Тогда Николь умножила уловки, чтобы не лишиться окончательно своих завоеваний. И наконец ее ответная хитрость привела к тому, что воюющие стороны встретились однажды под вечер около часовни.
— Смотри-ка! Добрый вечер, господин Жильбер! Так вы здесь?
— A-а, здравствуйте, мадемуазель Николь! Вы в Трианоне?
— Как видите: я служанка мадемуазель.
— А я помощник садовника.
Затем Николь присела в изящном реверансе; Жильбер поклонился как настоящий придворный, и они расстались.
Жильбер сделал вид, что поднимается к себе.
Николь вышла из дому. Жильбер бесшумно спустился и пошел за Николь, полагая, что она направляется на свидание к г-ну Босиру.
В тенистой аллее ее действительно ожидал мужчина. Николь подошла к нему. Было уже слишком темно, и Жильбер не мог разглядеть его лица, однако отсутствие плюмажа так его заинтересовало, что он не пошел вслед за Николь обратно к дому, а последовал за мужчиной до самой решетки Трианона.
Это был не Босир, а господин в годах, по виду — знатный сеньор; несмотря на солидный возраст, у него была довольно быстрая походка. Жильбер подошел совсем близко и, забыв осторожность, прошел почти перед его носом; он узнал г-на герцога де Ришелье.
«Вот чертовка! — подумал он. — После капрала-гвардейца — маршал Франции! Мадемуазель Николь повысилась в чине!»
Назад: Александр Дюма Джузеппе Бальзамо (Записки врача)
Дальше: XCVI ПАРЛАМЕНТЫ