Книга: Дюма. Том 44. Волчицы из Машкуля
Назад: VIII БАРОНЕССА ДЕ ЛА ЛОЖЕРИ
Дальше: XVI ДИПЛОМАТИЯ КУРТЕНА
XII
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ
Когда врач вошел в комнату к больному, Берта снова заняла свое место у изголовья кровати.
Вначале доктора Роже изумила эта очаровательная фигура, напоминавшая ангелов германских сказаний, склонявшихся над умирающими, чтобы принять их души.
Но в тот же миг он узнал девушку: заходя в бедную крестьянскую хижину, он редко не встречал там Берту или ее сестру, вставших между умирающим и смертью.
— О доктор! — сказала она. — Идите, идите скорее! У бедного Тенги начался бред.
В самом деле, больной впал в сильнейшее возбуждение.
Доктор подошел к кровати.
— Полно, друг мой, — сказал он, — успокойтесь!
— Оставьте меня, оставьте! — ответил больной. — Мне надо вставать, меня ждут в Монтегю.
— Нет, дорогой Тенги, — возразила Берта, — пока еще нет…
— Ждут, мадемуазель, ждут! Это должно было случиться сегодня ночью. Если я останусь здесь, кто же передаст сообщение из замка в замок?
— Молчите, Тенги, молчите! — воскликнула Берта. — Подумайте, ведь вы больны и у вашей постели находится доктор Роже.
— Доктор Роже из наших, мадемуазель, при нем можно говорить все. Он знает, что меня ждут, он знает, что мне без промедления надо встать, он знает, что я должен идти в Монтегю.
Доктор Роже и Берта обменялись быстрыми взглядами.
— Масса, — сказал доктор.
— Марсель, — ответила Берта.
И оба в одно мгновение порывистым движением протянули друг другу руки и пожали их.
Берта вновь повернулась к больному.
— Да, верно, — сказала она ему на ухо, — доктор Роже один из наших, но здесь есть и посторонние…
Она понизила голос до шепота, чтобы ее мог слышать один лишь Тенги.
— И этот посторонний, — добавила она, — молодой барон де ла Ложери.
— А! Правда ваша, — ответил больной, — он-то посторонний. Не говорите ему ничего! Куртен — предатель. Но если я не пойду в Монтегю, кто же туда пойдет?
— Жан Уллье! Не беспокойтесь, Тенги.
— О! Если пойдет Жан Уллье, — сказал больной, — если пойдет Жан Уллье, мне туда ходить нет надобности! На ногах он стоит твердо, глаз у него острый, а ружье бьет без промаха!
И он расхохотался.
Но этот взрыв смеха, казалось, исчерпал его силы, и он снова упал на кровать.
До молодого барона донесся этот разговор; впрочем, расслышав его далеко не полностью, он ничего в нем не понял.
Однако он разобрал слова: «Куртен — предатель!» — и, поймав на себе взгляд девушки, говорившей с больным, догадался о том, что речь шла о нем.
Он подошел ближе, сердце у него сжалось; он почувствовал, что от него что-то скрывают.
— Мадемуазель, — обратился он к Берте, — если я вас стесняю или если я вам просто больше не нужен, вам только надо намекнуть — и я исчезну.
В этих скупых словах прозвучала такая печаль, что Берта растрогалась.
— Нет, — сказала она, — нет, останьтесь. Напротив, мы еще нуждаемся в вас, вы поможете Розине выполнить предписания доктора Роже, пока я буду говорить с ним о лечении нашего больного.
Затем она обратилась к врачу.
— Доктор, — произнесла она едва слышно, — займите их; позже вы скажете мне то, что знаете вы, а я вам — то, что знаю я.
Затем она обернулась к Мишелю.
— Не правда ли, друг мой, — произнесла она так ласково, как только могла, — не правда ли, что вы хотите помочь Розине?
— Я сделаю все, что вы мне скажете, мадемуазель, — ответил молодой человек, — приказывайте, и я все исполню.
— Вот видите, доктор, — заметила Берта, — у вас два преданных помощника.
Доктор поспешил к своей двуколке и принес оттуда бутылку сельтерской воды и мешочек сухой горчицы.
— Возьмите это, — сказал он молодому человеку, протягивая ему бутылку, — откупорьте и давайте больному по полстакана через каждые десять минут.
Затем он передал мешочек с горчицей Розине.
— Разведи это в кипятке, — приказал он, — мы будем делать твоему отцу примочки к ногам.
Больной снова впал в состояние полной безучастности, когда Берте удалось успокоить его, лишь пообещав послать вместо него Жана Уллье.
Доктор взглянул на Тенги и, сделав вывод, что больного по его состоянию можно было оставить на попечение молодого барона, быстро подошел к Берте.
— Послушайте, мадемуазель де Суде, — сказал он ей, — раз мы поняли, что мы единомышленники, то скажите же мне, что вам известно.
— Мне известно, что Мадам села на корабль в Массе двадцать первого апреля и должна была прибыть в Марсель двадцать девятого или тридцатого апреля. Сегодня шестое мая; значит, Мадам должна была уже высадиться и Юг должен быть уже охвачен восстанием.
— Это все, что вам известно? — спросил доктор.
— Да, все, — ответила Берта.
— Вы не читали вечерних газет за третье число?
Берта улыбнулась.
— Мы в замке Суде не получаем газет, — ответила она.
— Ну так знайте, — сказал доктор, — все пропало!
— Как все пропало?
— Мадам потерпела неудачу.
— О Боже, что вы сказали!
— Чистую правду. После благополучной переправы на «Карло Альберто» Мадам высадилась на берег в нескольких льё от Марселя. Ожидавший там проводник отвел ее в уединенный дом, окруженный лесом и скалами. Мадам сопровождали всего шесть человек.
— Я слушаю, слушаю.
— Одного из них она тотчас послала в Марсель сообщить руководителю заговора о том, что она высадилась и теперь ждет исполнения обещаний, которые ей дали, прежде чем она решила отправиться во Францию.
— А потом?
— Посланец вернулся вечером с запиской: принцессу поздравляли с благополучным прибытием и извещали, что Марсель завтра восстанет.
— И что же?
— На следующий день действительно началось вооруженное восстание, но Марсель не принял в нем никакого участия, и дело кончилось разгромом.
— А Мадам?
— Никто не знает, где она сейчас. Есть надежда, что она снова взошла на борт «Карло Альберто».
— Трусы! — прошептала Берта. — О! Я всего лишь женщина, но если бы Мадам прибыла в Вандею, то, клянусь Богом, я бы могла показать пример некоторым мужчинам! Прощайте, доктор, и спасибо вам!
— Вы нас покидаете?
— Необходимо, чтобы о том, что вы рассказали, узнал мой отец. Сегодня вечером состоялось собрание в замке Монтегю. Я возвращаюсь в Суде. Моего бедного больного можно поручить вам, не правда ли? Оставьте здесь письменные распоряжения. Если не произойдет ничего неожиданного, я или моя сестра завтра ночью будем ухаживать за ним.
— Хотите поехать в моей двуколке? Я вернусь пешком, а экипаж вы мне пришлете завтра с Жаном Уллье или с кем-нибудь другим.
— Благодарю вас, но я не знаю, где будет завтра Жан Уллье. К тому же, мне лучше пройтись. Здесь немного душно, прогулка только пойдет мне на пользу.
Берта крепко, по-мужски пожала руку доктору, набросила на плечи накидку и вышла.
Но за порогом она встретилась с Мишелем: он не слышал ее беседы с доктором, однако ни на секунду не терял девушку из виду и, поняв, что она собирается выйти, опередил ее и ожидал у двери.
— Ах, мадемуазель, — сказал Мишель. — Что же такое происходит и что вы узнали?
— Ничего, — ответила Берта.
— О! Ничего!.. Если бы вы ничего не узнали, вы не ушли бы вот так, не вспомнив обо мне, не простившись со мной, не кивнув мне на прощание.
— А зачем мне с вами прощаться, если вы меня проводите домой? Мы успеем проститься у ворот замка Суде…
— Как! Вы разрешаете?..
— Что? Проводить меня? Но, сударь, после всего, что вы сделали ради меня этой ночью, это ваше право… если только вы не слишком устали, разумеется.
— Я слишком устал, чтобы проводить вас, мадемуазель? Но с вами или с мадемуазель Мари я пошел бы на край света! Слишком устал? О! Никогда в жизни!
Берта улыбнулась. Затем, искоса взглянув на молодого человека, прошептала:
— Как жаль, что он не из наших!
Но, улыбнувшись, добавила про себя:
«Ба! Из человека с таким характером можно вылепить кого угодно».
— Мне кажется, вы разговариваете со мной, — сказал Мишель, — однако я не слышу, что вы мне говорите.
— Это оттого, что я разговариваю с вами тихо-тихо.
— Почему же вы разговариваете со мной тихо-тихо?
— А вот почему: то, что я вам говорю, нельзя произносить во весь голос, по крайней мере сейчас.
— А позже? — спросил молодой человек.
— О! Позже, может быть.
Губы молодого человека шевельнулись, но он не издал ни единого звука.
— Можно узнать, что означает ваша пантомима? — спросила Берта.
— Что я тоже говорю с вами тихо-тихо. Но, в отличие от вас, я бы произнес это во весь голос и прямо сейчас, если б только посмел…
— Я не такая, как другие женщины, — сказала Берта с почти пренебрежительной улыбкой, — то, что при мне говорят тихо, можно произносить и во весь голос.
— Ну так вот: я тихо-тихо говорил вам, что испытываю глубокое сожаление, наблюдая, как вы, не глядя, идете навстречу несомненной опасности… столько же несомненной, сколько и ненужной.
— Какую опасность вы имеете в виду, дорогой сосед? — чуть насмешливым тоном спросила Берта.
— Ту, о которой вам только что сообщил доктор Роже. В Вандее скоро будет восстание.
— Неужели?
— Надеюсь, вы не станете это отрицать?
— Я? А зачем мне отрицать это?
— Ваш отец и вы будете в нем участвовать.
— Вы забываете о моей сестре, — смеясь, сказала Берта.
— О нет! Я ни о ком не забываю, — со вздохом возразил Мишель.
— Так что же из этого?
— Так позвольте мне, как близкому, преданному другу, сказать вам… что вы совершаете ошибку.
— Почему же я совершаю ошибку, мой близкий, преданный друг? — спросила Берта с легкой насмешливостью в голосе, от которой она не могла полностью избавиться.
— Потому что сейчас, в тысяча восемьсот тридцать втором году, Вандея уже не та, что была в тысяча семьсот девяносто третьем, или, вернее, потому что Вандеи больше мет.
— Тем хуже для Вандеи! Но, к счастью, здесь еще существует благородное сословие, господин Мишель; и есть одна истина, которая пока еще вам неведома, но через пять или шесть поколений она станет очевидна вашим потомкам: положение обязывает.
Молодой человек встрепенулся.
— А теперь, — сказала Берта, — прошу вас, переменим чему нашего разговора: на такие вопросы я больше отвечать не буду, поскольку, как сказал бедный Тенги, вы не из наших, господин Мишель.
— Но о чем же мне тогда говорить с вами? — спросил молодой человек; он совсем пал духом, видя, как сурова с ним Берта.
— О чем вам говорить со мной? Да обо всем на свете! Сегодня такая дивная ночь — говорите о ночи; ярко светит луна — говорите о луне; в небе сверкают звезды — говорите о звездах; небо безоблачно — говорите о небе.
И девушка, подняв голову, устремила неотрывный взгляд на прозрачный небосвод.
Мишель глубоко вздохнул и, не проронив ни слова, зашагал рядом с нею. Что мог сказать ей он, городской, книжный человек перед лицом величественной природы, которая была ее стихией? Разве был он, подобно Берте, с самого детства приобщен ко всем чудесам Творения? Разве видел, подобно ей, все оттенки разгоравшейся зари и заходившего солнца? Мог ли он, подобно ей, распознавать таинственные звуки ночи? Когда жаворонок возвещал о пробуждении природы, разве понимал он, о чем говорит жаворонок? Когда в сумерках разливалась трель соловья, наполняя весь мир гармонией, разве понимал он, о чем говорит соловей? Нет, он знал ученые премудрости, о чем не ведала Берта; но девушке были известны премудрости природы, чего не знал Мишель.
О! Если бы девушка заговорила, с каким благоговением он бы ее слушал!
Но, на его беду, Берта молчала; ее переполняли мысли, которые исходят из сердца и находят выход не в звуках и словах, а во взглядах и вздохах.
А молодой человек погрузился в мечты.
Ему представилось, что он шел вдвоем не с суровой и резкой Бертой, а прогуливался с нежной Мари; вместо этого одиночества, в котором Берта черпала силу, рядом шла Мари, и, постепенно слабея, опиралась на его руку…
О! Вот когда бы слова у него полились потоком! Вот когда бы он мог столько всего сказать о ночи, о луне, о звездах и о небе!
С Мари он был бы наставником и повелителем.
С Бертой он был учеником и рабом.
Около четверти часа молодые люди шли молча, как вдруг Берта остановилась и знаком приказала Мишелю последовать ее примеру.
Молодой человек выполнил ее приказ: с Бертой его уделом было повиновение.
— Слышите? — спросила Берта.
— Нет, — произнес Мишель, покачав головой.
— А я слышу, — насторожившись, с загоревшимся взором прошептала девушка.
И она снова внимательно прислушалась.
— Но что же вы слышите?
— Это скачет моя лошадь и лошадь Мари; меня кто-то ищет. Есть какие-то новости.
Она вновь напрягла слух:
— Это Мари меня ищет.
— Как вы это определили? — спросил молодой человек.
— По бегу лошадей. Прошу вас, ускорим шаг.
Стук копыт быстро приближался, и минут через пять в темноте они различили какие-то фигуры.
Это были две лошади и женщина: сидя верхом на одной лошади, женщина держала другую за уздечку.
— Я же говорила вам, что это моя сестра, — произнесла Берта.
В самом деле, молодой человек узнал Мари не столько по фигуре девушки, появившейся из темноты, сколько по частым ударам своего сердца.
Мари тоже узнала Мишеля — об этом нетрудно было догадаться по удивлению, написанному на ее лице.
Было очевидно, что она рассчитывала застать сестру одну или с Розиной, но никак не в обществе молодого барона.
Мишель заметил, что девушка никак не ожидала его увидеть здесь, и сделал шаг вперед.
— Мадемуазель, — обратился он к Мари, — я встретил вашу сестру, когда она направлялась к больному Тенги, и, чтобы ей не ходить одной, проводил ее.
— И отлично сделали, сударь, — ответила Мари.
— Нет, ты не понимаешь, — со смехом возразила Берта, — ему кажется, что он должен извиниться за меня или, быть может, за себя. Придется простить бедного мальчика. Он получит изрядную нахлобучку от матери!
Затем она оперлась на седло Мари.
— В чем дело, блондинка? — спросила она.
— Дело в том, что марсельский мятеж провалился.
— Я знаю. Мадам уплыла на корабле.
— А вот и неправда!
— Как? Неправда?
— Мадам заявила, что раз уж она приехала во Францию, то больше ее не покинет.
— Ты не ошибаешься?
— Нет; сейчас она направляется в Вандею, если уже не прибыла туда.
— Откуда вам это стало известно?
— Из письма, доставленного в замок Монтегю сегодня вечером во время собрания, когда все уже предавались отчаянию.
— Храбрая душа! — восторженно воскликнула Берта.
— Поэтому отец понесся оттуда во весь опор, а вернувшись и узнав, где ты, приказал мне взять лошадей и поехать за тобой.
— Вот и я! — воскликнула Берта.
И она вставила ногу в стремя.
— Ты что же, не простишься со своим бедным рыцарем? — спросила Мари.
— Напротив.
И Берта протянула руку молодому человеку, а он медленно с грустным видом приблизился к ней.
— Ах, мадемуазель Берта, — едва слышно произнес он, пожимая ей руку, — как я несчастен!
— Отчего вы несчастны?
— Оттого, что я не один из ваших, как вы только что выразились.
— А кто вам мешает стать им? — спросила Мари, в свою очередь протягивая ему руку.
Молодой человек схватил эту руку и поцеловал ее с двойным жаром: любви и признательности.
— О да, да, да! — сказал он тихо, чтобы его могла расслышать только Мари. — Ради вас и вместе с вами!
Но рука Мари вырвалась из рук молодого человека из-за резкого движения лошади.
Берта, пришпорив своего коня каблуком, хлестнула прутом по крупу лошади своей сестры.
Всадницы взяли с места галопом и, словно тени, исчезли в темноте.
Молодой человек остался одиноко стоять посреди дороги.
— Прощайте! — крикнула Берта.
— До свидания! — крикнула Мари.
— О да, да! — ответил он, протягивая руки к двум уносящимся силуэтам. — До свидании, до свидания!
Девушки продолжали путь, не произнося ни слова.
И только когда они уже были у ворот замка, Берта сказала:
— Мари, ты будешь смеяться надо мной.
— Отчего же? — спросила Мари, невольно вздрогнув.
— Я люблю его, — сказала Берта.
Из груди Мари едва не вырвался горестный крик.
Но у нее хватило сил сдержать его.
«А я крикнула ему „До свидания“, — подумала она. — Дай Бог, чтобы мы больше не свиделись».
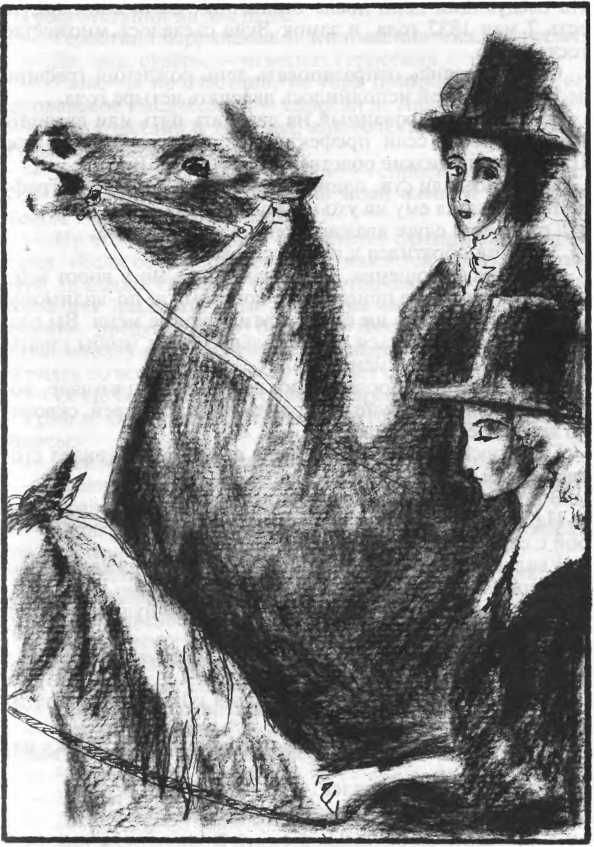
XIII
КУЗИНА, ЖИВУЩАЯ ЗА ПЯТЬДЕСЯТ ЛЬЁ
На следующий день после описанных нами событий, то есть 7 мая 1832 года, в замок Вуйе съехалось множество гостей.
Они собрались отпраздновать день рождения графини де Вуйе, которой исполнилось двадцать четыре года.
За стол, сервированный на двадцать пять или двадцать шесть персон, сели префект департамента Вьенна, мэр Шательро и близкие родственники г-жи де Вуйе.
Когда доедали суп, один из слуг, наклонившись к графу де Вуйе, сказал ему на ухо несколько слов.
Граф велел слуге дважды повторить сказанное.
Затем он обратился к присутствовавшим.
— Прошу прощения, — сказал он, — но у ворот ждет какая-то дама, она приехала на почтовых и, по-видимому, не желает говорить ни с кем другим, кроме меня. Вы разрешите мне отлучиться на несколько минут, чтобы узнать, что же она хочет от меня?
Возражений не последовало; вот только во взгляде, которым графиня де Вуйе проводила мужа до дверей, сквозило легкое беспокойство.
Граф поспешил к воротам и, в самом деле, увидел стоявший там экипаж.
В нем находились двое: мужчина и женщина.
На козлах рядом с кучером сидел лакей в небесно-голубой с серебряными галунами ливрее.
Увидев графа де Вуйе, которого он, по-видимому, ждал с нетерпением, лакей легко соскочил на землю.
— Да шевелись же ты, тихоход! — крикнул он, считая, что граф может его слышать.
Граф де Вуйе замер в недоумении, и даже больше чем в недоумении, — в изумлении.
Какой-то лакей посмел обратиться к нему так непочтительно?
Он подошел поближе, чтобы устроить головомойку нахалу.
И вдруг он расхохотался.
— Как, это ты, де Люссак? — спросил он.
— Разумеется, это я.
— Что означает этот маскарад?
Мнимый лакей открыл дверцу кареты и подал руку сидевшей в ней даме, чтобы помочь ей выйти.
— Дорогой граф, — сказал он, — имею честь представить тебе ее высочество герцогиню Беррийскую.
Затем, обратившись к герцогине, он произнес:
— Герцогиня, имею честь представить вам одного из моих лучших друзей и одного из самых верных ваших слуг, графа де Вуйе.
Граф отступил на два шага.
— Герцогиня Беррийская! — в изумлении воскликнул он.
— Да, она, сударь, — ответила герцогиня.
— Разве ты не счастлив, не горд принимать у себя ее королевское высочество? — спросил де Люссак.
— Так счастлив и так горд, как только может быть настоящий роялист, но…
— Как это? Есть какое-то «но»? — спросила герцогиня.
— Но сегодня день рождения моей жены и у меня за столом — двадцать пять человек!
— Ну что ж, сударь, раз существует французская поговорка: «Если есть место для двух, найдется место и третьему», то дадим ей более широкое толкование: «Если есть место для двадцати пяти, найдется место для двадцати восьми»; предупреждаю, барон де Люссак, хотя в настоящую минуту и выполняет роль лакея, рассчитывает поужинать со всеми, поскольку умирает с голоду.
— О! Не беспокойся, я сниму ливрею, — вставил барон.
Граф де Вуйе схватился за голову, готовый рвать на себе волосы.
— Как же быть? Как же быть? — восклицал он.
— Полноте, — сказала герцогиня, — давайте рассуждать здраво.
— О да, рассудим здраво, — ответил граф. — Ваше предложение как нельзя кстати! Я схожу с ума.
— И похоже, не от радости, — заметила герцогиня.
— От ужаса, мадам!
— О! Вы преувеличиваете трудность положения.
— Но поймите же, мадам, у меня за столом префект Вьенна и мэр Шательро!
— Что ж, представьте меня им.
— В качестве кого, Боже милостивый?
— В качестве вашей кузины. Есть же у вас кузина, живущая в пятидесяти льё отсюда?
— Что за мысль, мадам!
— Ну же, ну!
— Да, в Тулузе у меня есть кузина — госпожа де ла Мир.
— Вот и отлично! Я буду госпожой де ла Мир.
Затем она обернулась и подала руку старику лет шестидесяти — шестидесяти шести; ожидая окончания их разговора, он не выходил из кареты.
— Сюда, господин де ла Мир, сюда! — сказала она. — Мы устроили сюрприз нашему кузену: прибыли как раз ко дню рождения его жены. Идемте же, кузен, — добавила герцогиня, спускаясь с коляски.
И она весело взяла графа де Вуйе под руку.
— Идемте, — ответил г-н де Вуйе, решив участвовать в отчаянном предприятии, которому герцогиня положила такое веселое начало. — Идемте!
— А как же я? — крикнул барон де Люссак (он влез в коляску, превращенную им в гардеробную, и снимал там небесно-голубую ливрею, облачаясь в черный редингот). — Про меня, случайно, не забыли?
— Но ты-то кем у нас будешь? — спросил г-н де Вуйе.
— Черт возьми! Я буду бароном де Люссаком и, если мадам не возражает, кузеном твоей кузины.
— Полегче, полегче, господин барон! — заметил старик, сопровождавший герцогиню. — Мне кажется, что вы позволяете себе слишком много вольностей.
— Ба! Мы тут среди полей, — сказала герцогиня.
— В полевых условиях, вы хотели сказать! — подхватил де Люссак.
И, закончив переодевание, в свою очередь, он воскликнул:
— Идемте!
Граф де Вуйе, выйдя вперед, храбро направился в столовую.
Необъяснимо долгое отсутствие графа удивило гостей и встревожило хозяйку.
Поэтому, когда дверь столовой вновь открылась, все взгляды обратились на вошедших.
Но сколь ни трудна была роль, какую им предстояло сыграть, актеры ничуть не растерялись.
— Дорогая, — обратился граф к жене, — я рассказывал тебе об одной моей кузине, живущей в окрестности Тулузы.
— Госпоже де ла Мир? — быстро подхватила графиня.
— Вот именно, госпоже де ла Мир. Так вот, направляясь в Нант, она не могла проехать мимо нашего замка, не познакомившись с тобой: по воле случая она прибыла в день твоего рождения; надеюсь, что это принесет ей счастье.
— Дорогая кузина! — воскликнула герцогиня, раскрывая объятия графине де Вуйе.
Женщины поцеловались.
Представляя мужчин, граф ограничился тем, что громко произнес:
— Господин де ла Мир… Господин де Люссак.
Гости поклонились.
— А теперь, — сказал г-н де Вуйе, — надо найти вновь прибывшим место за столом. Они не скрыли от меня, что умирают с голода.
Среди собравшихся началось движение; стол был велик, сидеть за ним было просторно, и найти три свободных места не составляло труда.
— Вы, кажется, говорили мне, дорогой кузен, что у вас обедает префект Вьенна? — спросила герцогиня.
— Совершенно верно, сударыня: это вон тот почтенный гражданин в очках, белом галстуке и с ленточкой офицера ордена Почетного легиона в петлице, который сидит справа от графини.
— О! Тогда представьте меня ему.
Граф де Вуйе, ввязавшись в рискованное предприятие, решил идти до конца.
Он подошел к префекту, сидевшему в величественной позе, откинувшись на спинку стула.
— Господин префект, — сказал он, — моя кузина, с присущим ей уважением к власти, полагает, что общего представления недостаточно, и желает быть вам представленной особо.
— И вообще, и особо, и официально, — ответил галантный сановник, — я говорю сударыне: добро пожаловать!
— Принимаю ваше пожелание, сударь, — произнесла герцогиня.
— Стало быть, сударыня едет в Нант? — спросил префект, чтобы сказать что-нибудь.
— Да, сударь, а оттуда — в Париж, по крайней мере так я рассчитываю.
— Сударыня не впервые собирается посетить столицу?
— Нет, сударь, не впервые: я прожила там двенадцать лет.
— И сударыня покинула этот город?..
— О! Не по своей воле, уверяю вас.
— И давно?
— В июле будет два года.
— Понятно, когда поживешь в Париже…
— … то хочется вновь туда вернуться! Как приятно, что вы это понимаете.
— О, Париж, Париж! — вздохнул префект.
— Вы правы: это земной рай, — ответила герцогиня.
И она порывисто отвернулась, чувствуя, что из глаз ее вот-вот брызнут слезы.
— К столу, к столу! — воскликнул граф де Вуйе.
— О дорогой кузен, — сказала герцогиня, взглянув на приготовленное ей место, — позвольте мне остаться возле господина префекта; он так прочувствованно пожелал мне успеха в деле, которое для меня важнее всего на свете, что сразу же вошел в число моих друзей.
Префект, очарованный этим комплиментом, живо подвинул стул, и герцогиню усадили слева от него, к огорчению особы, которой было предназначено это почетное место.
Мужчины без возражений заняли указанные им места, и вскоре они — в особенности барон де Люссак, — как и собирались, воздали должное обеду.
Примеру г-на де Люссака последовали все присутствовавшие, и за столом на несколько минут наступила та торжественная тишина, какая бывает в начале ожидаемого с нетерпением обеда.
Первой нарушила молчание Мадам: ее дерзновенный ум, словно морская птица, находил отраду в бурях.
— Господа, — сказала она, — мне кажется, что наше появление прервало общий разговор. Нет ничего печальнее застолья, проходящего в тишине, и предупреждаю вас, дорогой граф, я ненавижу такие обеды, они напоминают парадные приемы в Тюильри, где, как рассказывают, можно было заговорить только после того, как король вымолвил слово. Вы ведь вели беседу до нашего появления; о чем вы говорили?
— Дорогая кузина, — ответил граф де Вуйе, — господин префект любезно сообщил нам официальные подробности стычки в Марселе.
— Стычки? — переспросила герцогиня.
— Такое слово он употребил.
— И в данном случае это самое подходящее слово, — сказал чиновник. — Представьте, насколько слабо было обеспечено подобное предприятие, если достаточно было младшему лейтенанту тринадцатого пехотного полка арестовать вожака смутьянов — и весь мятеж провалился!
— Ах! Боже мой, господин префект, — с грустью сказала герцогиня, — во время великих событий всегда наступает роковая минута, когда судьба государей и империй колеблется, словно лист на ветру! Вот, скажем, если бы в Ла-Мюре, когда Наполеон направился навстречу посланным против него солдатам, его схватил бы за шиворот какой-нибудь младший лейтенант, возвращение с острова Эльбы тоже осталось бы всего лишь стычкой.
Мадам говорила с такой страстной убежденностью, что за столом наступила тишина.
Она первая нарушила молчание:
— А куда подевалась среди этой сумятицы герцогиня Беррийская?
— Она вернулась на борт «Карло Альберто» и вновь вышла в море.
— А!
— Мне кажется, что это единственный разумный поступок с ее стороны, — добавил префект.
— Вы правы, сударь, — сказал старик, сопровождавший Мадам и до сих пор не вымолвивший ни слова. — Если бы я тогда находился рядом с ее высочеством и она бы прислушивалась к моему мнению, я бы от всего сердца дал ей этот совет.
— Я же не к вам обращаюсь, любезный супруг, — произнесла герцогиня, — а говорю с господином префектом и спрашиваю, точно ли ему известно, что герцогиня снова села на корабль?
— Сударыня, — заявил префект с жестом, не допускающим возражений, — правительство разослало об этом официальное уведомление.
— А! — отозвалась герцогиня. — Если правительство рассылает официальное уведомление, значит, так и было. Однако, — сказала она, пробуя ступить на более скользкий путь, чем тот, по которому она шла до сих пор, — мне говорили другое.
— Сударыня! — с мягким укором произнес старик.
— Что же вам говорили, кузина? — спросил граф де Вуйе, в свою очередь начинавший входить в азарт.
— Да, что же вам говорили, сударыня? — настаивал префект.
— О! Видите ли, господин чиновник, — сказала герцогиня, — ничего официального я вам сообщить не могу: речь пойдет о слухах, а они могут оказаться сущим вздором.
— Госпожа де л а Мир! — воскликнул старик.
— Ах, господин де ла Мир… — отозвалась герцогиня.
— Знаете, сударыня, — вкрадчиво произнес префект, — ваш муж кажется мне ужасно несговорчивым! Держу пари, это он не дает вам вернуться в Париж?
— Вы угадали! Но я надеюсь попасть туда наперекор ему. Чего хочет женщина, того хочет Бог.
— О женщины, женщины! — воскликнул чиновник.
— Что вы хотите сказать? — спросила герцогиня.
— Ничего, — ответил префект. — Я жду, сударыня, когда вам угодно будет рассказать нам об этих самых слухах.
— Ах, Боже мой, это совсем просто. Мне говорили — заметьте, речь идет лишь о слухах, — мне говорили, будто герцогиня Беррийская, несмотря на уговоры друзей, решительно отказалась вернуться на борт «Карло Альберто».
— Предположим, но где она сейчас, в таком случае? — поинтересовался префект.
— Во Франции.
— Во Франции! А что ей делать во Франции?
4-564
— Бог ты мой, — сказала герцогиня, — вам ведь известно, господин префект, что главная цель ее королевского высочества — Вандея.
— Весьма вероятно, однако, раз она потерпела поражение на Юге…
— Это еще одна причина, чтобы попытаться преуспеть на Западе.
Префект пренебрежительно улыбнулся.
— Итак, вы полагаете, что Мадам уплыла на корабле? — спросила герцогиня.
— Могу с уверенностью уведомить, — заявил префект, — что сейчас она находится во владениях сардинского короля, у которого Франция потребует объяснений.
— Бедный сардинский король! Он даст очень простое объяснение.
— Какое же?
— «Я знал, что Мадам сумасбродка, но не до такой степени».
— Сударыня, сударыня! — вмешался старик.
— Послушайте! — воскликнула герцогиня. — Хотелось бы надеяться, господин де ла Мир, что вы, ограничивая меня в желаниях, согласитесь хотя бы уважать мое мнение, тем более что его несомненно разделяет господин префект. Не правда ли, господин префект?
— Дело в том, — смеясь, ответил чиновник, — что ее королевское высочество действовала, по-моему, во всей этой истории чрезвычайно легкомысленно.
— Вот видите! А что же будет, если эти слухи подтвердятся и Мадам прибудет в Вандею?
— Но как она туда попадет?
— Ну, скажем, через соседнюю префектуру или через вашу… Говорят, что ее видели и узнали в Тулузе, когда она меняла лошадей и сидела перед почтовой станцией в открытой коляске.
— Ну уж извините! — сказал префект. — Это было бы слишком.
— Настолько слишком, — заметил граф, — что господин префект не поверил ни слову из того, что вы сказали.
— Ни одному слову, — произнес префект, делая ударение на каждом из слогов, которые он произнес.
В это мгновение дверь отворилась и графский лакей доложил, что курьер из префектуры просит разрешения вручить главе департамента телеграмму, только что полученную из Парижа.
— Вы разрешите ему войти? — спросил префект у графа де Вуйе.
— Разумеется! — ответил тот.
Курьер вошел и подал запечатанную депешу префекту; тот, поклонившись, извинился перед гостями, так же как только что извинился перед хозяином дома.
Наступила глубокая тишина; все взоры были прикованы к префекту.
Мадам переглянулась с графом де Вуйе (он тихо посмеивался), с бароном де Люссаком (этот смеялся громко) и со своим мнимым мужем, сохранявшим невозмутимую серьезность.
— Ах! — в изумлении воскликнул вдруг глава департамента.
— Что случилось? — осведомился граф де Вуйе.
— А то, — воскликнул префект, — что госпожа де ла Мир сказала нам правду, говоря о том, что ее королевское высочество не покинула Францию и направляется в Вандею через Тулузу, Либурн и Пуатье.
С этими словами префект поднялся с места.
— Но куда же вы, господин префект? — спросила герцогиня.
— Исполнять свой долг, сударыня, каким бы тяжким он 11 и был, и отдать приказ об аресте ее королевского высочества в том случае, если она, как сказано в депеше из Парижа, неосмотрительно последует через мой департамент.
— Исполняйте, господин префект, ваш долг, — сказала Мадам. — Я могу лишь восхищаться вашим усердием и обещать при случае вспомнить об этом.
И она протянула префекту руку, и тот галантно поцеловал ее, после того как вопросительно взглянул на г-на де ла Мира и получил от него разрешение.
XIV
МАЛЫШ ПЬЕР
Вернемся в хижину папаши Тенги, которую мы покинули, чтобы заглянуть ненадолго в замок Вуйе.
Прошло двое суток.
Мы снова видим Берту и Мишеля у постели больного. Хотя регулярные визиты доктора Роже сделали совершенно излишним присутствие девушки в этом доме, очаге заразы, Берта, несмотря на уговоры Мари, продолжала ухаживать за вандейцем.
Быть может, ее влекло в жилище фермера не только христианское милосердие.
Как бы то ни было, но в результате вполне понятного совпадения Мишель, забыв о своих страхах, опередил мадемуазель де Суде и уже был в хижине, когда туда пришла Берта.
Рассчитывал ли Мишель увидеть именно Берту? Мы не осмелились бы ответить на этот вопрос. Возможно, он думал, что сестры дежурят у постели больного по очереди.
Возможно, он смутно надеялся, что Мари не упустит случая встретиться с ним, и сердце неистово заколотилось у него в груди, когда в открытых дверях хижины возник силуэт; пока еще трудно было различить его в темноте, однако по изяществу линий он мог принадлежать лишь одной из дочерей маркиза де Суде.
Узнав Берту, Мишель испытал легкое разочарование; но мог ли молодой человек, в силу своей любви питавший безграничную нежность к маркизу де Суде, с симпатией относившийся к грубому Жану Уллье и даже расположенный к их собакам, — мог ли он не любить сестру Мари?
Разве доброжелательность этой девушки не должна была приблизить его к той, другой? Разве не счастлив он будет вести разговор о той, что не была рядом с ним?
И потому он проявлял предупредительность и внимание по отношению к Берте, а девушка не считала нужным скрывать, что это радует ее.
К несчастью для Мишеля, им было трудно заняться чем-нибудь другим, кроме ухода за больным.
Тенги с каждым часом становилось все хуже.
Он впал в состояние оцепенения (врачи называют его «комой»), которое при воспалениях характерно для периода, предшествующего смерти.
Он уже не видел того, что происходило вокруг, уже не отвечал, когда с ним заговаривали; его расширенные зрачки смотрели в одну точку. Он был почти все время неподвижен, только его руки иногда пытались натянуть одеяло на лицо или взять какие-то воображаемые предметы: ему казалось, что они находились возле кровати.
Берте, несмотря на ее молодость, приходилось неоднократно видеть предсмертную агонию, и она не могла строить иллюзии, зная, какой печальный конец ждет несчастного крестьянина. Она решила избавить Розину от тяжкого зрелища предсмертных мук ее отца — они могли начаться с минуты на минуту — и потому велела девушке сходить за доктором Роже.
— Мадемуазель, — сказал Мишель, — если хотите, за доктором мог бы сходить я. Я бегаю быстрее девушки, и к тому же отпускать ее ночью одну небезопасно.
— Нет, господин Мишель, с Розиной ничего не случится, а у меня есть свои причины просить вас остаться со мной. Вам это будет неприятно?
— О! Что вы, мадемуазель, не думайте так! Я до того рад быть вам полезным, что никогда не упустил бы такую возможность.
— Успокойтесь, быть может, вскоре мне не раз придется испытать вашу преданность.
Не прошло и десяти минут после ухода Розины, как больной, казалось, почувствовал явное и почти невероятное облегчение: взгляд стал осмысленным, дышать ему стало легче, сведенные судорогой пальцы разжались, и он несколько раз провел ими по лбу, чтобы вытереть обильный пот.
— Как вы себя чувствуете, папаша Тенги? — спросила Берта.
— Лучше, — слабым голосом ответил он. — Может статься, Господу не угодно, чтобы я дезертировал перед сражением? — добавил он, силясь улыбнуться.
— Наверное! Ведь вы будете сражаться и за него тоже.
Крестьянин грустно покачал головой и глубоко вздохнул.
— Господин Мишель, — произнесла Берта, отведя его и угол, чтобы больной их не слышал. — Господин Мишель, бегите к кюре, попросите его прийти и разбудите соседей.
— Разве ему не лучше, мадемуазель? Он только что сказал вам об этом.
— Какой же вы ребенок! Неужели вы никогда не видели, как гаснет лампа? Последнее пламя всегда самое яркое: нот гак же бывает и с нашим бедным телом. Бегите скорее! Дюнии не будет: лихорадка истощила все силы этого несчастного и его душа отлетит без борьбы, без усилия, без надрыва.
И вы останетесь с ним одна?
— Бегите скорее и не беспокойтесь обо мне.
Мишель вышел, а Берта подошла к постели Тенги, подавшему ей руку.
Спасибо вам, смелая девушка, — сказал крестьянин.
За что спасибо, папаша Тенги?
Прежде всего, спасибо за вашу заботу… и еще за то, но надумали позвать кюре.
Вы слышали?
На этот раз Тенги сумел улыбнуться по-настоящему.
Да, — ответил он, — хотя вы и говорили чуть слышно.
Но присутствие кюре не должно наводить вас на мысль, что вам предстоит умереть, милый мой Тенги: не бойтесь!
— Бояться! — вскричал крестьянин, пытаясь приподняться и сесть в постели. — Бояться! Почему? Я почитал стариков и заботился о детках, страдал без ропота, трудился без жалоб, славил Бога, когда град опустошал мое маленькое поле, и благословлял его, когда созревал добрый урожай; ни разу не прогнал я нищего, посланного святой Анной к моему бедному очагу; я выполнял заповеди Господа и наставления Церкви; когда наши священники сказали: «Вставайте и беритесь за оружие», я сражался с врагами моей веры и моего короля и был смиренным после победы и верящим в успех после поражения; я все еще готов отдать жизнь за святое дело — так мне ли бояться? О нет, мадемуазель! Для нас, бедных христиан, это светлый день, когда мы умираем. Хоть я и невежда, но я это понимаю. Этот день уравнивает нас со всеми великими, со всеми счастливцами на земле; и если этот день настал для меня, если Господь призывает меня к себе, то я готов и предстану перед его судом, полный надежд на его милосердие.
Лицо Тенги озарилось, когда он произносил эти слова; но благочестивый порыв исчерпал последние силы бедного крестьянина.
Он тяжело упал на кровать, бормоча что-то невнятное: можно было разобрать лишь слова «синие», «приход», имена Бога и Пресвятой Девы.
В это мгновение вошел кюре. Берта указала ему на больного, и священник, сразу поняв, чего от него ждут, начал обряд соборования.
Мишель умолял Берту уйти, девушка согласилась, и оба, помолившись последний раз у изголовья Тенги, вышли из хижины.
Один за другим входили соседи; каждый преклонял колено и повторял за священником слова молитвы.
Две тоненькие свечки желтого воска, поставленные по сторонам медного распятия, освещали эту скорбную сцену.
Внезапно в ту минуту, когда священник и все присутствующие читали про себя «Аве Мария», недалеко от хижины раздался крик лесной совы.
Крестьяне вздрогнули.
Услышав этот звук, умирающий, хотя глаза его уже несколько мгновений как затуманились, а дыхание стало свистящим, приподнял голову.
— Я здесь! — крикнул он. — Я здесь!.. Я поведу вас!
И он попытался повторить крик совы в ответ на услышанный.
Это ему не удалось: при его слабеющем дыхании получился лишь какой-то всхлип; голова больного откинулась назад, глаза широко раскрылись. Он был мертв.
И тут на пороге хижины появился незнакомец.
Это был молодой бретонский крестьянин в широкополой шляпе, красном жилете с посеребренными пуговицами, в синей куртке с красной вышивкой и высоких кожаных гетрах; в руке он держал окованную железом палку, какие сельские жители берут с собой, отправляясь в дорогу.
Вероятно, он удивился зрелищу, представшему его взору, но никого ни о чем не спросил.
Он преклонил колено и произнес молитву; затем, подойдя к кровати, пристально вгляделся в бледное, бескровное лицо несчастного Тенги; две крупные слезы скатились по его щекам; он вытер их, а затем вышел из хижины молча, как и вошел.
Крестьяне, никогда не проходившие мимо жилища усопшего, не помолившись за упокой его души и не поклонившись его телу, не удивились появлению незнакомца и не обратили внимания на его уход.
А незнакомец, отойдя на несколько шагов, встретил другого крестьянина, поменьше ростом и помоложе, который казался его братом. Этот крестьянин сидел верхом на лошади, оседланной по-местному.
— Итак, Золотая Ветка, — спросил невысокий крестьянин, — что там происходит?
— Там происходит… то, что в этом доме нам уже места пет: туда явилась гостья, занявшая его целиком.
— Что за гостья?
— Смерть.
— Кто умер?
— Тот человек, у кого мы хотели остановиться. Я бы вам предложил использовать эту смерть в качестве прикрытия и спрятаться под саваном, который никто даже не подумает поднять, но я слышал, что Тенги умер от тифозной горячки, и, хотя врачи считают эту болезнь незаразной, я не могу подвергать вас опасности заболеть.
— Вы не боитесь, что вас увидели и узнали?
— Это невозможно! Там было восемь или десять мужчин и женщин, молившихся у кровати. Я вошел, стал на колени, помолился вместе со всеми. Так поступает в подобном случае всякий бретонский или вандейский крестьянин.
— И что же нам теперь делать? — спросил младший из крестьян.
Как я уже говорил, нам предстояло сделать выбор 103 между замком моего старого друга и хижиной того бедного крестьянина, что должен был стать нашим проводником, между роскошью и удобством жизни в богатых апартаментах, но не в полной безопасности, и тесным домишком, скверной кроватью, гречишным хлебом, но в несомненной безопасности. Господь Бог за нас решил этот вопрос, нам больше не из чего выбирать: придется удовольствоваться комфортом.
— Но вы сказали, что в замке небезопасно?
— Замок принадлежит моему другу детства, чей отец при Реставрации стал бароном. Отец умер; в замке сейчас живут его вдова и сын. Если б там был один только сын, я был бы спокоен: он хоть и слабохарактерный, но честный малый, а вот его мать мне кажется эгоистичной и тщеславной женщиной, и это меня определенно беспокоит.
— Ба! На одну ночь! Вам недостает отваги, Золотая Ветка!
— У меня ее достаточно, когда дело касается только меня, но я отвечаю перед Францией или, по крайней мере, перед моей партией, за жизнь Мад…
— Малыша Пьера, вы хотите сказать… Ах! Золотая Ветка, за те два часа, что мы в пути, вы должны мне уже десятый фант.
— И последний, мад… Малыш Пьер, хотел я сказать; отныне вы мой брат, и поэтому я называю вас только этим именем и своим братом.
— Поедем, поедем в замок! Я чувствую такую усталость, что попросил бы приюта в замке у людоедки из сказки.
— Мы поедем напрямик и будем на месте через десять минут, — сказал молодой человек. — Устройтесь поудобнее в седле; я же пойду пешком, а вам надо ехать за мной, иначе мы собьемся с пути, ведь тропинку почти не видно.
— Постойте! — воскликнул Малыш Пьер.
И он соскользнул на землю.
— Куда вы? — с беспокойством спросил Золотая Ветка.
— Вы помолились у постели бедного крестьянина, теперь мой черед.
— Вы так думаете?
— У него было храброе, верное сердце, — настаивал Малыш Пьер, — если б он остался жив, то рискнул бы жизнью ради нас. Я должен сотворить у его тела хотя бы скромную молитву.
Золотая Ветка снял шляпу и сделал шаг в сторону, чтобы дать пройти своему молодому спутнику.
Как сделал до этого Золотая Ветка, маленький крестьянин вошел в хижину, взял веточку букса, обмакнул в святую воду и встряхнул над телом усопшего; затем он преклонил колено, помолился у кровати и вышел так же незаметно, как и его спутник.
Затем Малыш Пьер подошел к Золотой Ветке, как пятью минутами ранее Золотая Ветка присоединился к нему.
Молодой человек помог Малышу Пьеру снова взобраться в седло; затем оба они — тот, кто помоложе, верхом, а другой пешком — молча двинулись через поля по едва различимой тропинке (как мы уже говорили, это была самая короткая дорога в замок Ла-Ложери).
Но не успели они сделать и пять сотен шагов, как Золотая Ветка остановился и придержал лошадь Малыша Пьера.
— Что там еще? — спросил тот.
— Я слышу шаги, — ответил молодой человек. — Скройтесь в кустах, а я спрячусь вон за тем деревом. Тот, кто нам встретится, пройдет мимо, не заметив нас.
Путники быстро проделали этот стратегический маневр, и хорошо поступили, ибо тот, чьи шаги они слышали, приближался так быстро, что, несмотря на темноту, они его увидели в то самое мгновение, когда спрятались за своим укрытием: Малыш Пьер — в кустах, Золотая Ветка — за деревом.
Незнакомец, которому они уступили дорожку, вскоре был шагах в тридцати от Золотой Ветки, чьи уже привыкшие к темноте глаза различили молодого человека лет двадцати, не шедшего, а скорее бежавшего в том же направлении, что и они.
Шляпа была у него в руке, ветер развевал его волосы, открывая лицо, которое легко было узнать.
У Золотой Ветки вырвался возглас удивления; однако он, словно еще сомневаясь и медля выполнить свое желание, дал молодому человеку пройти мимо и только тогда, когда тот повернулся к нему спиной, воскликнул:
— Мишель!
Молодой человек, не ожидавший услышать свое имя в I см ноте и в этом безлюдном месте, отпрянул в сторону и спросил дрожащим от волнения голосом:
— Кто меня зовет?
— Я, — ответил Золотая Ветка, снимая шляпу и отбросив к подножию дерева парик; затем он двинулся навстречу своему другу, оставаясь, однако, в одежде бретонца, нисколько, впрочем, не менявшей его облик.
— Анри де Бонвиль! — воскликнул Мишель, вне себя от изумления.
— Он самый. Но не произноси мое имя так громко: здесь кусты, овраги и деревья разделяют со стенами привилегию иметь уши.
— Ах, верно! — сказал Мишель. — И потом…
— Да, и потом… — отозвался Бонвиль.
— Так, значит, ты здесь, чтобы участвовать в восстании, о котором все говорят?
— Именно! А теперь скажи: с кем ты?
— Я?
— Да, ты.
— Дружище, — отвечал молодой барон, — я еще не пришел к определенному мнению, однако признаюсь тебе по секрету…
— По большому секрету, если хочешь, но только признавайся поскорее!
— Ладно, скажу тебе по секрету: я склоняюсь на сторону Генриха Пятого.
— Что ж, дорогой мой Мишель, — весело сказал граф де Бонвиль, — если ты встанешь на сторону Генриха Пятого, то именно это мне и нужно!
— Позволь… Вообще-то говоря, я еще не вполне решился.
— Тем лучше! Я буду иметь удовольствие завершить твое обращение, а для успеха этого предприятия ты немедленно предложишь переночевать в твоем замке мне и одному из моих друзей, что сопровождает меня.
— Где же этот твой друг?
— Я здесь, — произнес Малыш Пьер, подойдя к ним и поклонившись молодому человеку с ловкостью и изяществом, какую нельзя было ожидать от человека в его одежде.
Мишель несколько секунд разглядывал маленького крестьянина, затем, подойдя поближе к Золотой Ветке, вернее к графу де Бонвилю, спросил:
— Анри, как зовут твоего друга?
— Мишель, ты нарушаешь древние традиции гостеприимства; ты забыл «Одиссею», дорогой мой, и тем самым меня огорчил! Какая тебе разница, как зовут моего друга? Разве не достаточно тебе знать, что это очень знатный юноша?
— А ты уверен, что это юноша?
Граф и Малыш Пьер расхохотались.
— Как видно, бедняга Мишель, ты непременно желаешь знать, кого будешь принимать у себя?
— Дело не во мне, дорогой Анри, клянусь тебе. Но в замке Ла-Ложери…
— Ну, что там, в замке Ла-Ложери?
— Я не хозяин.
— Да, там хозяйкой баронесса Мишель, и я предупреждал об этом моего друга, Малыша Пьера. Но мы не собираемся задержаться в замке, мы только переночуем. Ты отведешь нас на свою половину, я загляну в погреб и в чулан — все это осталось на прежнем месте, — мой юный спутник с грехом пополам выспится на твоей кровати, а завтра с рассветом я отправлюсь на поиски убежища, и, как только найду его, что не составит, надеюсь, особого труда, мы избавим тебя от нашего присутствия.
— Это невозможно, Анри! Не думай, что я боюсь за себя; но привести тебя в замок означало бы поставить под угрозу твою безопасность.
— Как это?
— Я уверен, что моя мать еще не легла: она ждет, когда я вернусь, и увидит всех нас. Твое переодевание еще можно как-то понять; но как объяснить странный наряд твоего спутника, не обманувший даже меня?
— Он прав, — заметил Малыш Пьер.
— Ну и что нам теперь делать?
— Речь идет не только о моей матери, — продолжил Мишель.
— А о ком же еще?
— Постой! — воскликнул молодой человек, беспокойно оглядываясь по сторонам. — Отойдем подальше от этой изгороди и кустов.
— Черт возьми!
— Речь идет о Куртене.
— О Куртене? Это еще кто такой?
— Ты не помнишь арендатора Куртена?
— Как же, помню! Славный малый, всегда принимавший твою сторону против кого угодно, даже против твоей матери.
— Правильно! Так вот, Куртен теперь мэр нашей деревни и ярый сторонник Филиппа! Если он увидит тебя ночью и ноле, да еще в этом костюме, он без лишних церемоний арестует тебя.
— Вот это заслуживает внимания, — заметил Анри, сразу став более серьезным. — Что думает об этом Малыш Пьер?
— Я ничего не думаю, приятель Золотая Ветка, я предоставляю вам это сделать за меня.
— Короче говоря, ты закрываешь перед нами двери своего дома? — спросил Бонвиль барона Мишеля.
— Что за важность, — ответил он, и в глазах его блеснули искры надежды, — что за важность, если я открою вам двери другого дома, и притом более безопасного, чем замок Ла-Ложери?
— Как что за важность? Напротив, нам это очень даже важно! Что скажет мой юный спутник?
— Я скажу так: пусть откроется хотя бы какая-нибудь дверь — это все, что мне нужно. Должен признаться, я падаю с ног от усталости.
— Тогда следуйте за мной, — сказал барон.
— Подожди-ка… Это далеко отсюда?
— Примерно час пути… Вам придется пройти самое большее льё с четвертью.
— Малыш Пьер чувствует себя в силах проделать этот путь? — осведомился Анри.
— Малыш Пьер найдет в себе силы, — смеясь, ответил молодой крестьянин. — Итак, вперед за бароном Мишелем!
— Вперед за бароном Мишелем, — повторил Бонвиль, — В путь, барон!
И маленькая группа, ведомая бароном, после десятиминутной остановки снова пустилась в путь.
Но не успел Мишель сделать и полусотни шагов, как его друг положил ему руку на плечо.
— Куда ты нас ведешь? — спросил он.
— Не беспокойся.
— Я последую за тобой, если ты пообещаешь, что для Малыша Пьера — он, видишь ли, существо изнеженное — найдутся приличный ужин и мягкая кровать.
— Он получит все то, что я предложил бы ему у себя: лучшее блюдо, какое найдется в кладовой, лучшее вино из погреба и лучшую кровать в замке.
Трое путников снова двинулись по тропинке.
— Я побегу вперед, чтобы там успели подготовиться, — заявил вдруг Мишель.
— Постой минутку, — сказал Анри, — куда это ты побежишь?
— В замок Суде.
— Как в замок Суде?
— Да, ты же знаешь замок Суде с его островерхими, крытыми шифером башенками, слева от дороги, напротив Машкульского леса.
— Замок Волчиц?
— Замок Волчиц, если тебе угодно.
— И ты туда ведешь нас?
— Именно так.
— Ты хорошо все обдумал, Мишель?
— Я отвечаю за вас.
И, считая, что его друг получил исчерпывающие разъяснения, молодой барон помчался в направлении замка Суде с такой же поразительной быстротой, с какой он бежал в тот день или, вернее, в ту ночь в Паллюо за врачом для умирающего Тенги.
— Итак, что будем делать? — спросил Малыш Пьер.
— Поскольку выбора у нас нет, последуем за ним.
— В замок Волчиц?
— В замок Волчиц.
— Хорошо, пусть будет так; но, чтобы скоротать время в дороге, вы мне расскажете, Золотая Ветка, что это за волчицы, — произнес молодой крестьянин.
— По крайней мере, вы узнаете о том, что я о них знаю.
— Большего я от вас требовать не могу.
И тогда, держась за луку седла, граф де Бонвиль поведал Малышу Пьеру то, о чем злословили в Нижней Луаре и в соседних департаментах: об отличавшихся диким нравом наследницах маркиза де Суде, об их охотах днем, об их прогулках по лесу ночью, об их бешеной скачке на конях с оглушительно лающей сворой в погоне за волками и кабанами.
Граф дошел до самого волнующего момента в своем фантастическом повествовании, когда заметил впереди башенки замка Суде и, оборвав рассказ, объявил своему спутнику, что они близки к цели своего путешествия.
Малыш Пьер, уверенный в том, что ему предстоит увидеть каких-то ведьм из «Макбета», приближаясь к этому ужасному замку, призвал себе на помощь все свое мужество; за поворотом дороги он вдруг очутился перед открытой дверью и увидел на пороге застывшие в ожидании две белые фигуры, освещенные пламенем факела, который держал стоявший позади человек с суровым лицом и в одежде крестьянина.
Малыш Пьер бросил боязливый взгляд на Берту и Мари — это были они, предупрежденные бароном Мишелем и вышедшие навстречу путникам.
Он увидел двух очаровательных девушек: блондинку с голубыми глазами и ангельским личиком и черноглазую брюнетку с гордым, решительным взором, с открытым лицом. Обе они улыбались.
Юный спутник Золотой Ветки спешился, и они вместе подошли к девушкам.
— Мой друг барон Мишель позволил мне надеяться, милые дамы, что ваш отец, маркиз де Суде, соблаговолит оказать нам гостеприимство, — сказал Берте и Мари граф де Бонвиль.
— Моего отца, сударь, сейчас нет дома, — ответила Берта, — он будет жалеть о том, что упустил возможность проявить добродетель, какую редко встретишь в наши дни.
— Но я не знаю, мадемуазель, сообщил ли вам Мишель о том, что это гостеприимство может оказаться небезопасным для вас. Я и мой юный спутник почти что вне закона: за предоставленный нам приют вы можете навлечь на себя неприятности.
— Вы служите тому же делу, что и мы, сударь. Будь вы чужими, мы все равно приняли бы вас, но, раз вы роялисты и вне закона, то вы желанные гости, пусть даже смерть и разорение войдут с вами в наше бедное жилище. Если бы отец был здесь, он сказал бы вам то же самое.
— Барон Мишель, наверно, назвал вам мое имя, остается только сказать, как зовут моего юного спутника.
— Мы вас не спрашиваем об этом; ваше положение значит для нас больше, чем ваше имя, каково бы оно ни было; вы роялисты, вас преследуют из-за дела, за которое мы обе, хотя и женщины, были бы рады отдать жизнь! Войдите в дом; пусть в нем и нет ни богатства, ни роскоши, но вы, по крайней мере, найдете в нем людей, верных долгу и умеющих молчать.
И жестом, полным неизъяснимого величия, Берта пригласила молодых людей войти внутрь.
— Слава святому Юлиану! — прошептал на ухо графу Малыш Пьер. — Вы предлагали мне на выбор дворец или хижину, так вот вам и то и другое под одной крышей. До чего же они мне нравятся, ваши Волчицы!
И он вошел в узкую боковую дверь, поблагодарив девушек изящным кивком.
За ним вошел граф де Бонвиль.
На прощание Мари и Берта дружески кивнули Мишелю, а Берта даже протянула ему руку.
Но Жан Уллье захлопнул дверь с такой силой, что бедный молодой человек не успел пожать протянутую ему руку.
Несколько мгновений он смотрел на башенки замка, черневшие на темном фоне неба, на окна, освещавшиеся одно за другим, затем направился в сторону своего дома.
Как только он скрылся из виду, кусты напротив замка раздвинулись, и из них вышел человек, присутствовавший при этой сцене совсем с другими целями, чем остальные ее участники.
Это был Куртен; оглядевшись и убедившись в том, что вокруг никого нет, он зашагал по той же дороге, по которой его молодой хозяин возвращался в Ла-Ложери.
XV
НЕУРОЧНЫЙ ЧАС
Было около двух часов ночи, когда молодой барон Мишель вышел на широкую аллею, ведущую к замку Ла-Ложери.
Воздух был неподвижен; величавая тишина ночи, нарушаемая лишь шелестом осин, погрузила его в глубокое раздумье.
Разумеется, все мысли его были о сестрах Суде, особенно о той из них, за кем барон уносился в мечтах с таким же благоговением и любовью, с какими в Библии юный Товия следовал за архангелом, — о Мари.
Но когда в пятистах шагах за темным строем деревьев — он шел под их зеленым сводом — стали видны поблескивавшие в лунных лучах окна замка, его чарующие грезы развеялись, и мысли сразу приняли более прозаическое направление.
Вместо двух прелестных девичьих лиц, до сих пор сопровождавших его в пути, воображению его представился строгий и грозный профиль матери.
Мы знаем, какой непреодолимый страх испытывал перед баронессой ее сын.
Молодой человек остановился.
Охвативший его страх был столь велик, что, знай он в окрестностях какой-нибудь дом или даже постоялый двор, I де бы его могли приютить на ночь, он вернулся бы в замок только на следующий день. Впервые в жизни он не то что не ночевал дома, но возвращался в столь поздний час, и сейчас инстинктивно чувствовал, что его отсутствие было замечено и что мать не спит.
Что ему ответить на страшный вопрос: «Где вы были?»
Только Куртен мог его приютить; но, попросив убежища v Куртена, надо было все ему рассказать, а молодой барон понимал, как опасно довериться такому человеку.
Поэтому он решил мужественно встретить материнский гнев и продолжал путь, как идет на эшафот приговоренный к казни, у которого нет другого выхода.
По чем ближе он подходил к замку, тем менее твердым становилось его решение.
Когда он дошел до конца аллеи, когда надо было идти отныне по лужайкам, без прикрытия деревьев, когда он увидел окно материнской спальни, выделявшееся на темном фасаде, единственное освещенное окно в замке, от его смелости не осталось и следа.
Значит, предчувствия его не обманули: баронесса ждала но (вращения сына.
Как мы уже сказали, мужество покинуло молодого человека окончательно, и воображение, подстегнутое страхом, подсказало ему хитрость, которая могла если не отвратить материнский гнев, то хотя бы отсрочить его вспышку.
Он побежал налево вдоль грабовой аллеи и скрылся в ее тени, затем перелез через стену в огород и, открыв калитку, вышел из огорода в парк.
В парке под сенью деревьев можно было незаметно подобраться к окнам замка.
До сих пор все шло удачно, но самое трудное или, вернее, самое рискованное было впереди: нужно было найти окно, которое забыл закрыть один из слуг, и таким образом попасть внутрь здания и добраться до своих комнат.
Замок Ла-Ложери представлял собой большое квадратное строение с одинаковыми башенками по углам.
Кухни и служебные помещения находились в подвале; парадные апартаменты располагались на первом этаже, покои баронессы — на втором, комнаты ее сына — на третьем.
Мишель осмотрел замок с трех сторон, осторожно, но настойчиво пытаясь отворить двери и окна, прижимаясь к стенам, неслышно ступая и затаив дыхание.
Но двери и окна не поддавались.
Оставалось обследовать главный фасад.
Это было чрезвычайно опасным делом; как мы уже сказали, на эту сторону, единственную, где не росли ни кусты, ни деревья, выходили окна баронессы, и одно из них, окно спальни, было открыто.
И все же Мишель, рассудив, что ему все равно, где получать строгий выговор — внутри или снаружи замка, решил попытать счастья.
Он осторожно высунул голову из-за башенки, которую намеревался обойти, как вдруг заметил, что по лужайке крадется какая-то тень.
А раз была тень, должно было существовать и тело, что отбрасывало её.
Мишель замер и стал напряженно вглядываться в темноту.
Он разглядел, что это был мужчина, шедший той же дорогой, что и он, если бы решил вернуться в замок не таясь.
Молодой барон сделал несколько шагов назад и притаился в тени башенки.
А незнакомец все приближался.
Когда до замка ему оставалось не более пятидесяти шагов, Мишель услышал, как из окна раздался суровый голос матери.
Он порадовался, что не пошел по лужайке, по которой двигался незнакомец.
— Это, наконец, вы, Мишель? — спросила баронесса.
— Нет, госпожа баронесса, нет, — ответил ей голос, и Мишель с удивлением и страхом узнал голос арендатора, — слишком много чести бедному Куртену быть принятым за молодого барона.
— Великий Боже! — воскликнула баронесса. — Что привело вас сюда в такой поздний час?
— Ах, вы догадались, нечто важное, не правда ли, госпожа баронесса?
— С моим сыном случилось несчастье?
В голосе матери прозвучала такая смертельная тревога, что молодой человек, растрогавшись, чуть было не бросился успокаивать ее.
Но услышанный им тут же ответ Куртена помешал осуществиться этому благому намерению.
И Мишель снова вошел в тень башенки, служившей ему укрытием.
— О нет, госпожа баронесса, ничего особенного, — ответил арендатор, — парень, если мне дозволено будет так выразиться о господине бароне, жив и целехонек, по крайней мере пока.
— Пока! — подхватила баронесса. — Значит, его подстерегает какая-то опасность?
— Э! — сказал Куртен. — Ясное дело! С ним может случиться недоброе, если и дальше его будут завлекать окаянные чертовки, чтоб им сгинуть в преисподней! А я хочу не допустить этого несчастья, потому и позволил себе прийти к вам посреди ночи, — впрочем, я догадался, что вы заметили отсутствие господина барона и еще не ложились спать.
— И правильно сделали, Куртен. Но где же он, этот несчастный ребенок? Вы знаете, где он?
Куртен огляделся вокруг.
— Право же, странно, что он еще не вернулся. Я ведь нарочно свернул на проселочную дорогу, чтобы не встретиться с ним на тропинке, а тропинка покороче проселочной дороги на добрую четверть льё.
— Но все-таки скажите, откуда он возвращается? Где был? Что делал? Почему бегает по полям ночью, в третьем часу, не думая о том, что я беспокоюсь, не заботясь ни о моем, ни о своем здоровье?
— Госпожа баронесса, — сказал Куртен, — не слишком ли много вопросов, чтобы отвечать на них под открытым небом?
И он продолжил, понизив голос:
— То, что я должен рассказать госпоже баронессе, так важно, что не было бы излишней предосторожностью выслушать меня в вашей комнате… не говоря уж о том, что, если молодого хозяина пока еще нет в замке, он может появиться с минуты на минуту, — и он снова опасливо огляделся вокруг, — а ему не надо знать, что я за ним слежу, хотя и делается это для его же блага, и, главное, чтобы оказать услугу вам.
— Тогда входите! — воскликнула баронесса. — Вы правы, входите скорее!
— Прошу прощения, госпожа баронесса, подскажите, как мне войти?
— В самом деле, — заметила баронесса, — дверь закрыта.
— Если бы госпожа баронесса изволила бросить мне ключ.
— Он в двери, но с внутренней стороны.
— Ах, незадача какая…
— Я хотела скрыть от слуг поступок моего сына и отослала их спать; но подождите, я сейчас позвоню горничной.
— Нет! Не надо, госпожа баронесса, не звоните! — сказал Куртен. — Не стоит посвящать посторонних в наши тайны! И притом, сдается мне, дело тут слишком серьезное, чтобы соблюдать правила этикета. Само собой разумеется, что не пристало госпоже баронессе самой открывать дверь бедному арендатору вроде меня, но один раз не в счет. Если в замке все спят — что ж, тем лучше! По крайней мере, нас не потревожат любопытные.
— Право же, Куртен, вы меня пугаете! — произнесла баронесса, сдерживая ребяческую гордость, что не ускользнуло от арендатора. — Я решилась.
Баронесса отошла от окна, и через несколько мгновений Мишель услышал, как заскрипела задвижка и повернулся ключ в скважине входной двери. Он с тревогой вслушивался в эти звуки, но затем сообразил, что его мать и Куртен, поглощенные своими заботами, с таким трудом открыв дверь, забыли запереть ее за собой.
Молодой человек выждал несколько секунд, чтобы дать им возможность подняться наверх; затем, прижимаясь к стене, взбежал по ступенькам, толкнул дверь, бесшумно повернувшуюся на петлях, и вошел в вестибюль.
Раньше он собирался пройти к себе в спальню, притвориться спящим и ждать, что будет. В этом случае нельзя было бы точно определить, когда именно он вернулся, и у него бы еще оставалась возможность выйти из затруднительного положения с помощью какой-нибудь дерзкой лжи.
Но, с тех пор как он принял это решение, многое изменилось.
Куртен выследил его, Куртен его видел, Куртен, очевидно, знал, в чьем доме укрылись граф де Бонвиль и его спутник; на мгновение Мишель забыл о себе самом; беспокоясь только о судьбе друга, которому арендатор, чьи убеждения были хорошо известны Мишелю, мог сильно навредить.
Вместо того чтобы подняться на третий этаж, молодой человек остался на втором; вместо того чтобы идти к себе в комнату, он прокрался в коридор.
Остановившись у двери в спальню баронессы, Мишель прислушался.
— Итак, Куртен, вы полагаете, — спросила баронесса, — вы всерьез полагаете, что мой сын клюнул на приманку одной из этих несчастных?
— О госпожа баронесса, у меня нет никаких сомнений, и притом он так сильно запутался в ее любовных сетях, что вам, боюсь, нелегко будет его выпутать.
— У этих особ в кармане ни су!
— Зато они принадлежат к самому древнему роду в этих краях, госпожа баронесса, — заметил Куртен, желавший прощупать почву, — а для вас, аристократов, это, кажется, кое-что значит.
— Фу! — сказала баронесса. — Побочные дочери!
— Зато красивые: одна похожа на ангела, другая на демона!
— Если бы Мишелю захотелось с ними немного поразвлечься, как делали, говорят, многие другие в здешних краях, это еще можно понять, но у меня просто не укладывается в голове, что он задумал жениться на одной из них; притом он слишком хорошо меня знает, чтобы вообразить, что я когда-нибудь соглашусь на подобный брак.
— При всем почтении к молодому хозяину, госпожа баронесса, скажу так: ваш сын, по-моему, еще не обдумал все до конца и, быть может, сам не дает себе отчета в том, какое чувство он испытывает к этим девицам; но я точно знаю, что ему сейчас грозит более серьезная опасность в другом, более важном деле.
— Что вы хотите этим сказать, Куртен?
— Эх, госпожа баронесса, — отозвался Куртен, — а знаете ли вы, как тяжело будет мне, кто любит и уважает вас, арестовывать моего молодого хозяина?
Мишель за дверью вздрогнул; баронесса была потрясена до глубин души.
— Арестовать Мишеля! — воскликнула она, встрепенувшись. — Мне кажется, вы забываетесь, милейший Куртен.
— Нет, госпожа баронесса, нисколько.
— Однако…
— Я ваш арендатор, это верно, — продолжил Куртен, жестом призывая надменную даму успокоиться, — мое дело — представить вам без утайки отчет об урожае, половина которого по праву принадлежит вам, и оплатить в установленный день и час аренду, что я и стараюсь делать по мере сил, хотя времена теперь нелегкие; но я не только ваш арендатор, прежде всего я гражданин, и более того, я мэр и в этом моем качестве, госпожа баронесса, тоже имею обязанности, каковые и призван исполнять, как бы это ни надрывало мое бедное сердце.
— Что за чушь вы несете, милейший, и что общего может быть между моим сыном и вашим долгом гражданина и мэра?
— А вот что общего, госпожа баронесса: сынок-то ваш спутался с врагами государства.
— Я знаю, что господин маркиз де Суде придерживается крайних взглядов, — сказала баронесса, — однако, мне кажется, если Мишель завел интрижку с одной или с другой его дочерью, то это вовсе не значит, что он совершил преступление.
— Эта интрижка заведет господина Мишеля гораздо дальше, чем вы думаете, госпожа баронесса, я знаю, что говорю. Конечно, он еще не совсем увяз в болоте, куда его заманивают, но уже плохо различает дорогу назад.
— Ладно, Куртен, хватит метафор.
— Извольте, госпожа баронесса, вот вам полное объяснение. Сегодня вечером, побывав у смертного ложа этого старого шуана Тенги с риском занести в замок лихорадку, проводив до дома ту из Волчиц, что повыше, господин барон согласился стать проводником двум крестьянам — они такие же крестьяне, как я дворянин, — и отвел их в замок Суде.
— Кто вам это сказал, Куртен?
— Я это видел собственными глазами, госпожа баронесса; они меня не подводят, и я им доверяю.
— И кто же, по-вашему, были эти двое крестьян?
— Эти двое крестьян?
— Да.
— Один — голову даю на отсечение — был граф де Бонвиль, отъявленный шуан! Тут нет сомнений, он довольно долго жил в наших краях, и я узнал его. А что касается другого…
— Ну-ну, договаривайте…
— Что касается другого, то, если я не ошибаюсь, это фигура поважнее.
— Кто же он?.. Ах, Куртен, назовите его имя.
— Хватит, госпожа баронесса; если появится необходимость, я назову его имя кому следует.
— Кому следует! Так вы что, собираетесь донести на моего сына? — вскричала баронесса, изумленная ответом своего арендатора, обычно такого почтительного и покорного с ней.
— Безусловно, госпожа баронесса, — нагло ответил Куртен.
— Ну нет, Куртен, вы не решитесь на это!
— Уже решился, госпожа баронесса, и так твердо, что был бы уже на пути в Монтегю или в Нант, если бы не хотел непременно предупредить вас заранее, чтобы вы успели спрятать господина Мишеля в безопасном месте.
— Однако, если даже предположить, что Мишель не замешан в этом деле, — волнуясь, произнесла баронесса, — вы опорочите меня перед соседями и, кто знает, быть может, навлечете на Ла-Ложери ужасные преследования.
— Что же, в таком случае мы будем защищать Ла-Ложери, госпожа баронесса.
— Куртен…
— Я помню ту большую войну, госпожа баронесса. Я был тогда несмышленышем, но воспоминания о ней не выветрились из моей памяти: даю вам честное слово, мне не хотелось бы увидеть ее опять. Мне меньше всего хочется, чтобы мои двадцать арпанов земли стали полем битвы для враждующих сторон, чтобы мой урожай одни съели, а другие сожгли, и я совсем не хочу видеть, как приберут к рукам национальные имущества, что непременно случится, если белые возьмут верх. Из моих двадцати арпанов пять принадлежали эмигрантам, я их честно купил и заплатил сколько положено; это четверть моего имения. И потом правительство рассчитывает на меня, и я хочу оправдать его доверие.
— Но, Куртен, — заметила баронесса, готовая снизойти до просьбы, — уверяю вас, все не так страшно, как вы уверяете.
— Э! Черта с два! Не скажите, госпожа баронесса, это очень страшно. Хоть я и простой крестьянин, однако знаю не меньше других, потому что привык прислушиваться, а ухо у меня чуткое. Во всей округе Реца неспокойно, все бурлит, как вода в котелке, один выстрел — и кипяток перельется через край.
— Вы ошибаетесь, Куртен.
— Да нет же, госпожа баронесса, не ошибаюсь. Уж я-то знаю, что знаю, Бог ты мой! Дворяне собирались уже три раза, вот как! Один раз у маркиза де Суде, другой раз у того, кого они называют Луи Рено, и третий раз — у графа де Сент-Амана. От всех этих сборищ прямо так и разит порохом, госпожа баронесса; кстати, о порохе: у монберского кюре его заготовлено два квинтала, да еще несколько мешков пуль. И наконец — и это самое главное — раз уж надо вам это сказать, ожидается приезд герцогини Беррийской, а после того, что я видел, кажется, ждать осталось недолго.
— Почему?
— Потому что, сдается мне, она уже здесь.
— Где, Боже милостивый?
— В замке Суде, где же еще.
— В замке Суде?
— Именно туда господин Мишель проводил ее сегодня вечером.
— Мишель? Ах, несчастный ребенок! Но вы будете молчать, Куртен, не правда ли? Я так хочу, я приказываю вам. Впрочем, правительство приняло свои меры, и если бы герцогиня попыталась вернуться в Вандею, она была бы арестована.
— А если, тем не менее, она находится здесь, госпожа баронесса?
— Вот вам еще одна причина, почему вы должны молчать.
— Ну да! И упустить такую добычу, а вместе с ней — славу и выгоду; не говоря уж о том, что, если герцогиню арестует кто-то другой, кроме меня, весь наш край будет предан огню и мечу… Нет, госпожа баронесса, нет, такое невозможно.
— Господи, но что же делать? Что делать?
— Послушайте, госпожа баронесса, — сказал Куртен, — сделать надо вот что.
— Говорите, Куртен, говорите.
— Поскольку, будучи честным гражданином, я в то же время хочу остаться вашим преданным и усердным слугой; поскольку надеюсь, что в благодарность за услугу мне продлят аренду на приемлемых условиях, я не назову имени господина Мишеля. Позаботьтесь только о том, чтобы впредь он не совал носа в это осиное гнездо; сейчас-то он гуда его уже просунул, но на сей раз еще можно успеть его вытащить.
— Будьте покойны, Куртен.
— Однако, госпожа баронесса, хорошо бы… — начал арендатор и запнулся.
— Ну что еще?
— Право же, я не осмеливаюсь давать советы госпоже баронессе: не мое это дело.
— Говорите, Куртен, говорите.
— Так вот, чтобы держать господина Мишеля подальше от этого осиного гнезда, вам, по-моему, следовало бы любыми средствами, будь то уговоры или угрозы, склонить его покинуть Ла-Ложери и уехать в Париж.
— Да, Куртен, вы правы.
— Вот только я думаю, что он не согласится.
— Он будет вынужден согласиться, Куртен, раз я так решила.
— Через одиннадцать месяцев ему исполнится двадцать один год: осталось совсем недолго до совершеннолетия.
— А я говорю вам, Куртен, что он уедет. Но что это с вами?
В самом деле, Куртен, повернувшись к двери, напряженно прислушивался.
— Мне кажется, в коридоре кто-то прошел, — сказал он.
— Посмотрите.
Куртен взял свечу и поспешно вышел в коридор.
— Никого нет, — сказал он, вернувшись, — и все же мне показалось, что я слышал шаги.
— Но скажите, где, по-вашему, в такой поздний час может быть этот несчастный ребенок?
— Право, не знаю, — ответил Куртен, — возможно, пришел ко мне домой и дожидается меня. Молодой барон доверяет мне, и не в первый раз он придет, чтобы поведать мне о своих маленьких огорчениях.
— Вы правы, Куртен, это возможно. Идите домой, а главное, не забудьте о своем обещании.
— А вы — о вашем, госпожа баронесса. Когда он вернется, заприте его. Не давайте ему снова увидеться с Вол — чипами, ведь, если он встретится с ними еще раз…
— Что тогда?
— Тогда я не удивлюсь, если узнаю, что в один из ближайших дней он подстрелил кого-то в зарослях дрока.
— О! Из-за него я умру от горя! Что за несчастная мысль пришла моему мужу — вернуться в эти проклятые края!
— Да, госпожа баронесса, мысль была действительно несчастная, в особенности для него.
Когда Куртен удалился, предварительно оглядевшись вокруг и убедившись, что никто не увидит, как он выходит из замка Ла-Ложери, баронесса грустно поникла головой, удрученная воспоминаниями, которые вызвали в ней слова арендатора.
Назад: VIII БАРОНЕССА ДЕ ЛА ЛОЖЕРИ
Дальше: XVI ДИПЛОМАТИЯ КУРТЕНА

