VIII
БАРОНЕССА ДЕ ЛА ЛОЖЕРИ
Метр Куртен почтительно поднимал перед молодым хозяином поперечину, закрывавшую вход на его поле, когда из-за живой изгороди послышался женский голос, позвавший Мишеля по имени.
При звуке этого голоса молодой человек вздрогнул и застыл на месте.
В то же мгновение особа, которой принадлежал этот голос, показалась у изгороди, отделявшей поле метра Куртена от соседнего.
Это была дама лет сорока — сорока пяти. Попробуем о п и с а т ь ее нашим читателям.
Лицо у нее было самое заурядное и не выделялось ничем, кроме жеманно-высокомерного выражения, составлявшего разительный контраст с ее вульгарными манерами. Ростом она была невелика, к тому же пухленькая. На ней было шелковое платье, слишком роскошное для того, чтобы гулять по полям; голову ее прикрывала шляпа с широкой развевающейся батистовой оборкой, падавшей ей на лицо и на шею. В остальном туалет ее был столь изыскан, что можно было подумать, будто она недавно побывала с визитом на улице Шоссе-д’Антен или в предместье Сент-Оноре.
Это и была та самая особа, чьих упреков так страшился бедный молодой человек.
— Что такое? — воскликнула она. — Вы здесь, Мишель? Право же, друг мой, в вас очень мало благоразумия и вы недостаточно почтительны к вашей матери! Вот уже больше часа, как колокол звал вас к обеду; вы знаете, что я не люблю ждать и что самое главное для меня, чтобы обед начинался вовремя, — и вот я нахожу вас здесь за мирным разговором с этим мужланом!
Вначале Мишель пробормотал какие-то извинения, но его мать тотчас заметила то, чего не заметил Куртен — или, быть может, предпочел обойти вниманием, чтобы не задавать лишних вопросов, — а именно: голова молодого человека была обвязана платком, с пятнами крови, и их не могли скрыть даже очень широкие поля соломенной шляпы.
— Боже мой! — воскликнула она, повышая свой и без того достаточно пронзительный голос. — Вы ранены! Что с вами случилось? Говорите, несчастный! Вы же видите, что я умираю от беспокойства.
Тут мать молодого человека перелезла через изгородь с таким проворством и, главное, с такой легкостью, какую никто бы не мог ожидать от особы ее возраста и телосложения, и, очутившись рядом с Мишелем, сняла с него шляпу и платок, прежде чем он успел помешать ей.
Рана, с которой была сорвана повязка, снова начала кровоточить.
Господин Мишель, как называл его Куртен, не предполагавший, что мать столь быстро узнает о его приключении, чего он ожидал с таким страхом, совершенно растерялся и не знал, что ответить.
Метр Куртен пришел к нему на помощь.
По замешательству своего молодого хозяина хитрый крестьянин догадался, что тот, не желая сознаваться матери в своем проступке, в то же время не решается на обман; у него, Куртена, не было таких нравственных устоев, как у молодого человека, и он с готовностью взял на себя грех, который Мишель в своем простодушии не решался совершить.
— О, госпоже баронессе не стоит беспокоиться! Это пустяк, — сказал он, — совершенный пустяк.
— Но все-таки, что же с ним такое произошло? Отвечайте за него, Куртен, раз уж этот господин так упорно хранит молчание.
И в самом деле, молодой человек не произнес ни слова.
— Сейчас узнаете, госпожа баронесса, — ответил Куртен. — Надо вам сказать, что у меня здесь лежали обрезанные ветки; они были чересчур тяжелы, и одному бы мне не унести их на плечах; господин Мишель по доброте своей помог мне, и какой-то сук из этой проклятущей охапки, как видите, оцарапал ему лоб.
— Но это не просто царапина! Вы могли выколоть ему глаз! В другой раз, метр Куртен, поищите себе ровню, чтобы поднимать ваши ветки, понятно? Не говоря уже о том, что вы чуть не искалечили этого ребенка, ваш поступок сам по себе совершенно недопустим!
Метр Куртен смиренно опустил голову, как бы сознавая всю тяжесть содеянного; однако это не помешало ему заметить все еще лежавшую на траве охотничью сумку и ловко рассчитанным пинком отправить зайца под ту же изгородь, где уже было спрятано ружье.
— Идемте же, господин Мишель, — сказала баронесса, чье настроение нисколько не улучшилось от покорности крестьянина, — идемте же, мы покажем вашу рану врачу.
Пройдя несколько шагов, она обернулась.
— Между прочим, метр Куртен, я еще не получила денег, что вы должны были мне выплатить ко дню святого Иоанна, а срок аренды у вас истекает на Пасху. Имейте в виду, я твердо решила не возобновлять договор с теми арендаторами, кто неаккуратно выполняет свои обязательства.
Физиономия метра Куртена стала еще более жалкой, чем была всего за несколько минут до этого; вскоре, однако, он повеселел: пока мать перелезала через изгородь, притом не так проворно, как в первый раз, сын едва слышно произнес два слова:
— До завтра!
И поэтому, несмотря на только что прозвучавшую угрозу, он бодро взялся за рукояти плуга и снова повел его по борозде, в то время как его господа возвращались в замок, и потом весь вечер подбадривал лошадей, напевая им «Парижанку», весьма модный в те годы патриотический гимн.
Пока метр Куртен на радость своим лошадям распевает этот гимн, скажем несколько слов о семействе Мишель.
Вы уже видели сына, любезные читатели, вы видели и мать.
Мать была вдовой одного из военных интендантов, который, следуя за императорской армией, за счет государства сумел в короткий срок нажить значительное состояние и которому солдаты дали меткую кличку Рис-хлеб-соль.
Звали интенданта Мишель; он был уроженец департамента Майен, сын простого крестьянина и племянник сельского учителя; добавив к бесплатным урокам чтения и письма некоторые наставления в арифметике, дядюшка определил будущее своего племянника.
Взятый в армию по первому призыву в 1791 году, Мишель начал службу в 22-й полубригаде без всякого воодушевления; этот человек, которому впоследствии суждено было стать непревзойденным счетоводом, уже успел взвесить шансы «за» и «против» быть убитым или произведенным в генералы. И поскольку результаты этих подсчетов оказались не слишком утешительными, он благодаря своему красивому почерку ухитрился получить место в штабной канцелярии. Эта удача доставила ему такое же удовлетворение, какое другой получил бы при продвижении по службе.
Словом, военные кампании 1792 и 1793 годов Мишель-старший провел в надежном укрытии.
Летом 1793 года генерал Россиньоль, посланный успокоить или истребить Вандею, случайно разговорился в штабе с писарем Мишелем; узнав от него, что он родом из восставшего края и что все его друзья сражались на стороне вандейцев, он решил воспользоваться этой ниспосланной Провидением возможностью. Он выхлопотал Мишелю бессрочный отпуск и отправил его домой с единственным условием: вступить в войско шуанов и время от времени оказывать генералу те же услуги, какие г-н де Морепа оказывал его величеству Людовику XV, то есть сообщать свежие новости. Мишель, найдя в этом задании большие материальные выгоды, выполнял его с большим рвением и постоянством не только для генерала Россиньоля, но и для его преемников.
Переписка Мишеля с республиканскими генералами была в самом разгаре, когда в Вандею прибыл очередной командующий по имени Траво.
Результаты боевых действий армии во главе с генералом Траво широко известны, мы говорили о них в одной из первых глав нашей книги; впрочем, вот основные из них: вандейская армия разбита, Жолли убит, де Куэтю погиб в засаде, устроенной неизвестным предателем, наконец, Шаретт взят в плен в Шаботьерском лесу и расстрелян на площади Виарм в Нанте.
Какую роль сыграл Мишель в ходе событий ужасной вандейской драмы? Быть может, у нас еще будет возможность узнать об этом; во всяком случае, после этих кровавых событий Мишель, неизменно получавший поощрения за превосходный почерк и большие способности к счету, поступил приказчиком в контору одного из крупнейших армейских интендантов.
Там ему удалось быстро выдвинуться; в 1805 году он добился подряда на поставку обмундирования армии, отправлявшейся в Германию.
В 1806 году его обувь и гетры приняли активное участие в героической Прусской кампании.
В 1809 году он получил подряд на снабжение продовольствием армии, вступившей в Испанию.
А в 1810 году он женился на единственной дочери одного из своих коллег и таким образом удвоил свое состояние.
Кроме того, он облагородил свое имя, удлинив его: в те годы это было заветным желанием людей^ чьи имена казались им чересчур короткими.
Вот как это произошло.
Тестем г-на Мишеля был Батист Дюран, родом из деревушки Ла-Ложери, и, чтобы его не спутали с другим Дюраном, с которым ему часто приходилось сталкиваться по службе, стал называть себя Дюран де ла Ложери.
По крайней мере, таков был предлог.
Он отдал свою дочь в один из лучших парижских пансионов, где при поступлении ее записали как Стефани Дюран де ла Ложери.
Женившись на дочери своего коллеги, поставщик провианта и фуража Мишель решил, что имя жены неплохо бы присоединить к его собственному, и стал называть себя Мишелем де ла Ложери.
Наконец, при Реставрации, выложив наличными круглую сумму за титул барона Священной империи, он занял подобающее место как среди финансовой, так и среди земельной аристократии.
Через несколько лет после возвращения Бурбонов, а точнее, году в 1819 или 1820-м, барон Мишель де ла Ложери лишился своего тестя, достопочтенного Батиста Дюрана де ла Ложери.
Тот оставил дочери, а следовательно, и зятю, свое поместье Ла-Ложери, находившееся, как уже можно было догадаться по некоторым подробностям в предыдущих главах, в пяти-шести льё от Машкульского леса.
Барон Мишель де ла Ложери, как настоящий сеньор, решил прибыть в Ла-Ложери, вступить во владение поместьем и предстать перед своими вассалами. Он был человек умный и мечтал заседать в Палате депутатов, но для этого ему надлежало победить на выборах, а результаты голосования зависели от его популярности в департаменте Нижняя Луара.
Родившемуся крестьянином и прожившему до двадцати пяти лет среди крестьян, за исключением двух или трех лет, когда он работал в канцеляриях, ему было доподлинно известно, как следовало вести себя с сельскими жителями.
Правда, чтобы добиться заветной цели, ему надлежало сделать так, чтобы люди забыли о его неслыханной удаче.
Он постарался сойти, что называется, за славного малого; отыскал нескольких товарищей по давним вандейским войнам, и, держа их за руку, со слезами на глазах вспоминал гибель бедного г-на Жолли, бесценного г-на де Куэтю п незабвенного г-на Шаретта. Наведя справки и узнав о нуждах незнакомой ему сельской общины, он построил мост, позволивший установить транспортное сообщение между важнейшими городами департамента Нижняя Луара и департамента Вандея, привел в порядок три проселочные дороги, заново отстроил разрушенную церковь, сделал щедрые пожертвования сиротскому приюту и богадельне, и, услышав в ответ благодарности, нашел роль благодетеля столь приятной, что изъявил желание полгода проводить в столице, а остальное время жить в своем замке Ла-Ложери.
Наконец, уступая настойчивым просьбам жены, которая, оставшись в Париже, не разделяла охватившей его непреодолимой страсти к деревенской жизни и слала ему письмо за письмом, уговаривая побыстрее вернуться в столицу, барон Мишель назначил отъезд на понедельник, а накануне, в воскресенье, должна была состояться большая облава на волков в Повриерском лесу и в лесу Гран-Ланд, где этих хищников водилось очень много.
Это было еще одно богоугодное дело, совершаемое бароном де ла Ложери.
На этой охоте барон Мишель продолжал играть роль радушного хозяина; он позаботился о напитках: за загонщиками ехали две тележки с двумя бочонками вина, и каждый, кто хотел, мог пить из них; к возвращению охотников он велел приготовить настоящий пир Камачо, на который были приглашены жители двух или трех деревень. Отказавшись от лучшего места во время облавы, барон пожелал тянуть жребий как простой загонщик и, когда ему досталось крайнее место в цепи, воспринял неудачу с благодушием, от чего все присутствовавшие пришли в восторг.
Охота была просто великолепной. Из загонов выбегали звери, и по ним раздавались такие мощные залпы, что казалось, будто шла небольшая война. На тележки, где стояли бочонки с вином, кучей сваливали волков и кабанов, не говоря уж о запретной дичи, вроде зайцев и косуль: их отстреливали на этой облаве, так же как на всякой другой охоте, под видом вредных зверей и прятали в надежном месте, чтобы вернуться за ними с наступлением темноты.
Охотники были так опьянены успехом, что забыли о герое дня; и только когда прогремели последние выстрелы, они пришли к единодушному мнению, что не видели барона Мишеля с самого утра. Охотники в один голос утверждали, что, после того как барон участвовал в загоне, где по жребию ему выпало занять крайнее место в цепи, они его не видели. Кто-то предположил, что барону наскучила охота или что он, чересчур увлекшись ролью радушного хозяина, вернулся в городок Леже, чтобы проверить, все ли готово к приему гостей.
Приехав в Леже, охотники не обнаружили там барона. Самые беспечные среди них сели за стол без хозяина. Однако человек пять или шесть, охваченные мрачными предчувствиями, вернулись в Повриерский лес и, прихватив фонари и факелы, отправились на поиски.
После двух часов бесплодного блуждания по лесу барона нашли во рву у второго загона.
Он был мертв: пуля попала ему прямо в сердце.
Смерть барона наделала много шума. Прокуратура Нанта завела уголовное дело, был арестован стрелок, оказавшийся во время облавы рядом с барьером. Но он заявил, что находился на расстоянии ста пятидесяти шагов от убитого и вдобавок между ними еще был участок леса, поэтому он ничего не видел и не слышал. Кроме того, было установлено, что из ружья этого крестьянина за весь день не было сделано ни одного выстрела. Наконец, с того места, где расположился стрелок, можно было попасть в жертву только справа, а барону Мишелю пуля угодила в сердце с левой стороны.
Таким образом, следствие зашло в тупик. Оставалось только приписать все несчастному случаю; по-видимому, как это часто бывает на облавах, бывшего армейского поставщика сразила шальная пуля, безо всякого злого умысла выпущенная из чьего-то ружья.
Однако по округе поползли слухи о свершившемся возмездии. Говорили, хотя и шепотом, словно из-под каждого куста дрока все еще могло выглянуть дуло шуанского ружья, что какой-то старый солдат Жолли, Куэтю и Шаретта заставил несчастного поставщика заплатить жизнью за предательство и гибель трех прославленных вождей восстания; но слишком многие желали бы сохранить все это в тайне, а потому обвинение в убийстве не будет выдвинуто никогда.
Итак, баронесса Мишель де ла Ложери осталась вдовой с единственным сыном на руках.
Баронесса представляла собой весьма распространенный тип женщины, чьи достоинства заключались в отсутствии недостатков. Пороки госпоже баронессе были совершенно чужды, страсти неведомы. Попав семнадцатилетней девушкой под супружеское ярмо, она следовала за своим мужем, не сворачивая ни вправо, ни влево и даже не задавая себе вопроса, существует ли другая дорога; ни разу не пришло ей в голову, что женщина может противиться стрекалу. Лишившись ярма, она испугалась обретенной свободы и ощутила безотчетную потребность в новых цепях. Эти новые цепи дала ей религия, и, подобно всем ограниченным умам, она погрузилась в фальшивое благочестие, казавшееся чрезмерным, но при этом вполне подвластным разуму.
Госпожа баронесса всерьез считала себя святой; она не пропускала ни одной мессы, соблюдала посты, неукоснительно выполняла все наставления Церкви и страшно удивилась бы, скажи ей кто-нибудь, что она грешит семь раз в день. А между тем это была чистая правда; если говорить, например, о христианском смирении, то баронессу де ла Ложери можно было бы чуть ли не ежеминутно уличать в нарушении заветов Спасителя, ибо ее аристократическая гордость, как бы мало она ни была оправдана, граничила с умопомешательством.
Мы видели, как наш деревенский хитрец метр Куртен, называвший молодого хозяина просто господином Мишель, ни разу не забыл назвать его матушку баронессой.
Разумеется, г-жа де ла Ложери питала глубочайшее отвращение к тому миру и к тому времени, в которые ей довелось жить. Она не могла прочесть в газете отчет уголовной полиции, чтобы не обвинить и то и другое (и мир и время) в самой чудовищной безнравственности; послушать ее, так железный век начался в 1800 году. И потому главной ее заботой было уберечь сына от тлетворного влияния современных идей, воспитав его вдали от общества и связанных с ним опасностей. Она и слышать не хотела о том, чтобы отдать его в школу; даже учебные заведения иезуитов не внушали ей должного доверия, поскольку преподобные отцы слишком легко мирились со светскими занятиями своих юных воспитанников. И если наследник баронского титула взял несколько уроков у посторонних людей, к чьим услугам все же пришлось прибегнуть, чтобы научиться тому, что должен знать и уметь молодой человек, занятия эти проходили не иначе как в присутствии матери и по одобренной ею программе, ибо только она сама должна была руководить обучением сына как в практическом, так и теоретическом плане, обращая при этом особое внимание на воспитание необходимых моральных качеств.
Только незаурядный ум, каким, на свое счастье, обладал юный барон, мог вынести эту десятилетнюю пытку и остаться целым и невредимым.
Однако, как мы видели, она сделала сына слабым и бесхарактерным человеком, полностью лишенным той силы и упорства, какими должен обладать настоящий мужчина, воплощающий в себе твердость, решимость и здравомыслие.
IX
ПОЗУМЕНТ И АЛЛЕГРО
Как и предполагал Мишель и чего он в особенности опасался, мать сильно отругала его.
Рассказ метра Куртена ее не убедил: рана на лбу ее сына новее не походила на царапины, оставленные какой-то колючкой.
Не зная, почему ее сын вдруг решил скрыть истинную причину происшествия, но чувствуя, что никакими расспросами ей не удастся добиться правды, она удовольствовалась тем, что время от времени устремляла пристальный взор на загадочную рану, покачивая головой, вздыхая и морща строгое материнское чело.
Во время ужина молодому человеку было не по себе, он сидел, не поднимая глаз, и едва прикоснулся к еде; однако следует признать, что его смущал не только испытующий взгляд матери.
Между его опущенными ресницами и материнским взглядом словно бы непрестанно витали две тени.
Этими двумя тенями были Берта и Мари.
Надо признаться, о Берте Мишель думал с некоторым раздражением, не зная на чем остановиться, к какому выводу прийти. Кто же была та амазонка, которая управлялась с ружьем как заправский охотник, умела перевязать рану не хуже хирурга, а если пациент сопротивлялся, удерживала его запястья своими белыми ручками точно так же, как бы это сделал своими мозолистыми ручищами Жан Уллье?
Но зато как прелестна была Мари с ее длинными белокурыми волосами и большими голубыми глазами! Как нежен был ее голос, как убедительно он звучал! С какой легкостью она прикасалась к ране, смывала кровь, накладывала повязку!
По правде говоря, Мишель вовсе не жалел, что поранился: если бы не эта рана, рассуждал он, у двух девушек не было бы причины заговорить с ним и позаботиться о нем.
Гораздо неприятнее самой раны были дурное настроение его матери и подозрения, которые не могли у нее не появиться. Но гнев баронессы де л а Ложери со временем пройдет, а след в его сердце, оставленный недолгими мгновениями, пережитыми им, когда он держал в своей руке ладонь Мари, не изгладится никогда.
Как всякое сердце, начинающее любить, но еще не уверенное в том, что любит, сердце молодого человека сейчас больше всего жаждало одиночества.
А потому, сразу же после ужина, улучив минуту, когда мать разговаривала с одним из слуг, он удалился, не слушая, что сказала мать, или, вернее, не вникая в смысл обращенных к нему слов.
А между тем к словам этим все же стоило прислушаться.
Госпожа де ла Ложери запретила сыну всякие прогулки или поездки в сторону Сен-Кристоф-дю-Линьерон, где, как сказал ей слуга, свирепствовала лихорадка.
Она также приказала выставить вокруг Ла-Ложери санитарный кордон, чтобы ни один житель зараженной деревни не мог проникнуть в замок.
Этот приказ следовало сразу же исполнить и по отношению к молодой девушке, которая пришла просить у баронессы де ла Ложери помощи заболевшему отцу, охваченному первым приступом горячки.
Если бы Мишель не был так поглощен собственными мыслями, он, несомненно, прислушался бы к словам матери, ибо этот несчастный был муж его кормилицы, арендатор Тенги, а фермерша, пришедшая просить о помощи, — его молочная сестра Розина, к которой он сохранил нежную привязанность.
Но в это мгновение взор юноши был обращен к замку Суде, и та, о ком он думал, была очаровательная Волчица по имени Мари.
Вскоре он забрел в самый дальний и самый глухой уголок парка.
Он взял с собой книгу как предлог для уединения и, пока не дошел до аллеи с высокими тенистыми деревьями, делал вид, будто прилежно читает; но тот, кто вздумал бы спросить у него название книги, привел бы его в большое замешательство.
Он уселся на скамью и погрузился в размышления.
О чем думал Мишель?
Ответ напрашивался сам собой.
Как ему снова увидеть Мари и ее сестру?
Встретиться с ними впервые ему помог случай, но произошел он лишь через полгода после его возвращения в родные края.
Выходит, ожидать случая пришлось долго.
А если он снова увидится с соседками только через шесть месяцев, это будет нестерпимо долго, учитывая состояние его души!
С другой стороны, завязать отношения с обитателями замка Суде было отнюдь не простым делом.
Маркиз де Суде, эмигрант 1790 года, и барон Мишель де ла Ложери, дворянин Империи, не испытывали друг к другу особенно теплых чувств.
К тому же, по тем немногим словам, что Жан Уллье успел сказать молодому человеку, незаметно было, чтобы он испытывал сильное желание продолжить с ним знакомство.
Оставались только обе девушки, проявившие к нему участие: грубоватое у Берты, ласковое у Мари; но как добраться до девушек, которые, правда, охотятся два-три раза в неделю, но никогда не выезжают из замка без отца и Жана Уллье?
Мишель намеревался прочесть один за другим все романы, какие только были в библиотеке замка, надеясь обнаружить в каком-нибудь из них простое и остроумное решение этой задачи: он опасался, что собственного ума для этого ему будет недостаточно.
Неожиданно Мишель почувствовал, как кто-то осторожно тронул его за плечо; он вздрогнул и обернулся.
Это был метр Куртен.
Лицо достойного фермера излучало удовлетворение, и он даже не пытался скрыть его.
— Прошу прощения, господин Мишель, — сказал арендатор, — увидев, как вы сидите тут неподвижно, словно пень, я решил, что это не вы, а ваша статуя.
— Теперь, Куртен, ты видишь, что это я.
— И очень тому рад, господин Мишель. Я беспокоился и хотел узнать, чем для вас закончился разговор с госпожой баронессой.
— Она немножко поругала меня.
— О! Надо думать. А вы сказали ей про зайца?
— Нет, я поостерегся!
— А о Волчицах?
— О каких волчицах? — переспросил молодой человек, который был не прочь перевести разговор на эту тему.
— О Волчицах из Машкуля… Я вроде говорил вам, что гак называют девушек из Суде.
— Сам понимаешь, Куртен, если я умолчал о зайце, так уж о них — тем более! Полагаю, что собаки из Суде и Ла-Ложери, как говорится, не охотятся вместе.
— Так или эдак, — продолжил Куртен с тем насмешливым видом, какой, несмотря на все его усилия, ему не всегда удавалось скрыть, — но если ваши и их собаки не охотятся вместе, то вы сами можете поохотиться с их собаками.
— Что ты имеешь в виду?
— Вот, поглядите, — сказал Куртен, потянув за поводок и, можно сказать, выведя на сцену двух гончих.
— Что это? — спросил молодой барон.
— Что это? Позумент и Аллегро, что же еще!
— Но я не знаю, что такое Позумент и Аллегро.
— Собаки этого разбойника Жана Уллье.
— Зачем ты увел его собак?
— Я их у него не уводил, я их просто задержал.
— А по какому праву?
— По двум сразу: во-первых, по праву землевладельца, во-вторых, по праву мэра.
Куртен был мэром деревни Ла-Ложери, насчитывавшей два десятка домов, и чрезвычайно гордился этим.
— Может быть, ты объяснишь мне, в чем твои права, Куртен?
— Значит, так, господин Мишель: во-первых, я как мэр конфискую их потому, что они охотились в неположенное время.
— Я не знал, что бывает такое время, когда не положено охотиться на волков, а тем более маркизу де Суде, ведь он начальник волчьей охоты…
— Вот и славно! Коли он начальник волчьей охоты, пускай травит своих волков в Машкульском лесу, а не в поле. Впрочем, вы же сами видели, — продолжал метр Куртен со своей лукавой улыбкой, — вы же сами видели, то была не волчья охота, раз они гнались за зайцем, да вдобавок одна из Волчиц подстрелила этого зайца.
У молодого человека чуть не сорвалось с языка, что ему неприятно слышать, как мадемуазель Суде называют этим прозвищем, и что он просил бы никогда впредь его не повторять, однако он не осмелился выразить свою просьбу так откровенно.
— Застрелила его действительно мадемуазель Берта, Куртен, но сначала я ранил его своим выстрелом. Выходит, виноват я.
— Ну и ну! Как прикажете понимать ваши слова? Разве вам пришлось бы в него стрелять, если бы собаки не выгнали его на вас? Нет. Стало быть, это собаки виноваты в том, что вы стреляли в зайца, а мадемуазель Берта прикончила его. И потому я как мэр наказываю этих собак за то, что они под предлогом травли волков охотились за зайцем в неположенное время. Но это еще не все; уже наказав их как мэр, я наказываю их снова как землевладелец. Разве я дозволял собакам маркиза охотиться на моих землях?
— На твоих землях, Куртен? — смеясь спросил Мишель. — По-моему, ты ошибаешься: они охотились на моих землях, а точнее, на землях моей матери.
— А это все едино, господин барон, поскольку эти земли арендую у вас я. Теперь, знаете ли, не тысяча семьсот восемьдесят девятый год, когда сеньорам было дозволено носиться с гончими по крестьянским полям и валить спелые хлеба, ничего не платя за это. Нет, нет и нет! У нас сейчас тысяча восемьсот тридцать второй год, господин Мишель, каждый хозяин на своем поле, и дичь принадлежит тому, у кого она кормится. И выходит, что заяц, которого травили собаки маркиза, принадлежит мне, поскольку он питался пшеницей, посеянной мной на землях госпожи Мишель, и мне положено съесть этого зайца, подстреленного вами и добитого Волчицей.
Мишель вздрогнул, и Куртен краем глаза подметил это; однако молодой человек не решился открыто выразить свое недовольство.
— Не могу понять одного, — сказал Мишель. — Как эти собаки, которые так натягивают поводок и, судя по всему, идут за тобой так неохотно, позволили тебе увести их?
— Э! — ответил Куртен. — Мне это было совсем нетрудно. Вернувшись после того, как я поднял поперечину изгороди перед вами и госпожой баронессой, я застал эту парочку за столом.
— За столом?
— Да, столом им служила изгородь, куда я спрятал зайца. Они нашли его и поужинали. Похоже, их не очень-то сытно кормят в замке Суде и охотятся они для самих себя. Поглядите, что они сделали с моим зайцем.
Сказав это, Куртен вытащил из обширного кармана куртки заднюю часть зайца в качестве вещественного доказательства.
Голова и вся передняя часть исчезли бесследно.
— Подумать только, — добавил Куртен, — они успели провернуть это дельце, пока я провожал вас. У! Придется этим голубчикам загнать нам не одного зайца, чтобы заставить меня забыть этого!
— Куртен, можно тебе кое-что сказать? — спросил молодой барон.
— Говорите, господин Мишель, не стесняйтесь.
— Видишь ли, будучи мэром, ты должен особенно строго соблюдать законы.
— Законы я знаю наизусть. Свобода! Общественный порядок! Разве вы не заметили, что эти слова написаны над входом в мэрию, господин Мишель?
— Что же, с тем большим основанием я могу сказать тебе, что твой поступок противозаконен и наносит ущерб свободе и общественному порядку.
— Как это? — спросил Куртен. — Разве собаки Волчиц не нарушают общественный порядок, охотясь на моих землях в неположенное время, и я не вправе их задержать?
— Они не нарушают общественный порядок, Куртен; они задевают интересы частного лица, и ты вправе не задерживать их, а составить по этому поводу протокол.
— О! Это слишком долгая история; коли позволять собакам охотиться где попало и ограничиваться тем, что составлять на них протокол, то выйдет, что свобода у нас для собак, а не для людей.
— Куртен, — сказал молодой человек с некоторой напыщенностью, в большей или меньшей степени присущей всем людям, перелиставшим Кодекс, — ты совершаешь весьма распространенную ошибку, путая свободу с независимостью: независимость, есть свобода людей, которые сами по себе несвободны, друг мой.
— Но что же такое тогда свобода, господин Мишель?
— Свобода, милейший Куртен, есть отказ каждого человека от собственной независимости во имя общего блага. Весь народ, как и отдельный гражданин, черпает свободу из общего источника независимости; мы обладаем свободой, Куртен, но лишены независимости.
— Эх! Я в этом не разбираюсь, — отвечал Куртен. — Я мэр и землевладелец, у меня две лучшие гончие маркиза, Позумент и Аллегро, и я их не отпущу. Пускай, если ему угодно, он придет за ними, а я тогда у него спрошу, что он будет делать на сборищах в Торфу и в Монтегю.
— Что ты хочешь этим сказать?
— О! Мне все ясно.
— Может быть, но мне-то неясно.
— А вам без надобности, вы же не мэр.
— Да, но ведь я здешний житель, и мне хочется знать, что происходит вокруг.
— Что тут происходит, заметить нетрудно. Господа опять что-то замышляют, вот что происходит.
— Господа?
— Ну да, дворяне! То есть те, что… Ладно, умолкаю, хотя вы-то не из этих дворян.
Молодой человек вспыхнул до корней волос.
— Так ты говоришь, Куртен, дворяне что-то замышляют?
— А зачем бы им иначе устраивать сборища по ночам? Собирались бы они, бездельники, днем, чтобы поесть и выпить, — так на здоровье, это разрешается, и власти ничего не имеют против; но если люди собираются по ночам, у них явно недобрые намерения. Так или эдак, но пусть ведут себя смирно! Я с них глаз не спущу. Я здешний мэр, и если это не дает мне права задерживать собак, то зато позволяет отправлять людей за решетку. Я знаю, так написано в Кодексе.
— Говоришь, маркиз де Суде посещает эти собрания?
— Ясное дело, как же ему их не посещать, этому старому шуану, бывшему адъютанту Шаретта! Пусть только явится сюда и потребует обратно своих собак, да, пусть только явится, я пошлю его в Нант вместе с его Волчицами! Пускай девицы там объяснят, с чего это у них появилась привычка носиться по лесу ночью.
— Но, Куртен, — сказал Мишель с живостью, причину которой нетрудно было угадать, — ты же сам говорил: если они ночью носятся по лесу, то только затем, чтобы оказывать помощь бедным больным.
Куртен отступил на шаг и со свойственным ему смешком указал пальцем на молодого хозяина:
— Эге! Вот я и поймал вас!
— Поймал меня? — покраснев, вымолвил молодой человек. — На чем же ты меня поймал?
— Вы к ним неравнодушны.
— Я?
— Да, да, да… О! Я вас за это не осуждаю, совсем напротив: они хотя и барышни, однако, спору нет, прехорошенькие. Полноте, не краснейте. Вы же не в семинарии учились, вы не священник, не дьякон, не викарий, вы красивый двадцатилетний юноша. Приступайте к делу, господин Мишель; если вы придетесь им не по вкусу, в то время как они сами пришлись по вкусу вам, значит, вкус у них чересчур пресыщенный.
— Но, мой дорогой Куртен, — ответил Мишель, — если даже предположить, что ты сказал правду — а это не так, — то разве я знаком с ними? Разве я знаком с маркизом? Разве можно просто встретиться с двумя девушками, сидящими верхом на лошадях, а потом вдруг явиться к ним в гости?
— Ах, да, понимаю, — с ухмылкой заметил Куртен. — У них ведь в кармане ни су, а замашки большие. Тут нужен какой-нибудь случай, повод, предлог. Думайте, господин Мишель, думайте; вы человек ученый, говорите по-латыни и по-гречески, изучали Кодекс — вы должны найти выход.
Мишель покачал головой.
— Так! — сказал Куртен. — Вы думали и не придумали.
— Я этого не говорил, — живо отозвался молодой барон.
— Верно! Вы не говорили, зато я скажу… В сорок лет человек еще не так стар, чтобы не помнить время, когда ему было двадцать…
Мишель стоял молча, опустив голову: он чувствовал на себе сверлящий взгляд крестьянина.
— Ну что, так и не придумали никакого повода?.. А я вот придумал.
3-564
— Ты?.. — воскликнул молодой человек, встрепенувшись.
Но тут же спохватился, что выдал свои самые сокровенные помыслы.
— С чего это, черт возьми, ты взял, будто мне хочется в замок? — спросил он, пожав плечами.
— А повод, — продолжал Куртен, словно его хозяин не попытался только что все отрицать, — а повод вот какой…
Мишель сделал равнодушное и рассеянное лицо, однако весь ушел в слух.
— Вы говорите папаше Куртену: «Папаша Куртен, вы заблуждаетесь насчет ваших прав, вы не вправе задерживать собак маркиза де Суде ни как мэр, ни как землевладелец; вы имеете право на возмещение убытков, но об этом возмещении можно договориться полюбовно». А на это папаша Куртен вам отвечает: «О! Когда имеешь дело с вами, господин Мишель, всякие подсчеты ни к чему, все мы знаем вашу щедрость». А вы на это говорите: «Куртен, собак ты отдашь мне, а остальное уж мое дело». Я отвечаю: «Вот вам собаки, господин Мишель. Что до возмещения убытков, то тут, ей-Богу, дело можно уладить одним-двумя золотыми, никто не требует смерти грешника». И тогда, знаете ли, вы пишете записочку маркизу. Вы нашли собак и отсылаете маркизу, думая, что он о них беспокоится; по вашему приказу Рыжик или Ласка отведут их в замок. Тут уж ему нельзя будет не поблагодарить вас и не пригласить к себе… А может, даже для верности вам бы надо отвести их самолично.
— Хорошо, хорошо, Куртен, — сказал молодой барон, — отдай мне собак, я отошлю их маркизу, но не затем, чтобы он пригласил меня в замок. — Ты не прав в своих предположениях, — а потому, что с соседями надо жить в дружбе.
— Ну, тогда будем считать, что я ничего не говорил… Но все равно, барышни Суде — прехорошенькие девушки! А что касается возмещения убытков…
— Ах, верно, — улыбаясь, сказал молодой барон, — это более чем справедливо, вот тебе за ущерб, причиненный собаками, которые забежали на мою землю и съели половину зайца, убитого Бертой.
И он отдал арендатору все, что было у него в кошельке, то есть три или четыре луидора.
Его счастье, что там было так мало: окрыленный надеждой проникнуть в замок Суде, он отдал бы Куртену вдесятеро больше, окажись у него в кармане больше денег.
Куртен бросил оценивающий взгляд на несколько луидоров, полученных в возмещение убытков, и, передав поводок молодому человеку, удалился.
Но, отойдя на несколько шагов, он повернул назад.
— А все же, господин Мишель, — сказал он, снова приблизившись к хозяину, — не надо вам водить дружбу с этими людьми. Запомните, что я вам рассказал о господах из Торфу и Монтегю: и двух недель не пройдет, как поднимется большой шум, господин Мишель, это я вам говорю.
И на этот раз Куртен удалился окончательно, напевая «Парижанку» — к словам и мелодии ее он питал особое расположение.
Молодой человек остался один с двумя собаками.
X
ВСЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ НЕ СОВСЕМ ТАК,
КАК МЕЧТАЛ БАРОН МИШЕЛЬ
Сначала наш влюбленный собирался последовать первому совету Куртена, то есть отправить собак маркизу с Рыжиком или Лаской — слугами, работавшими на ферме и в замке; своими прозвищами, под которыми Куртен представил их нашим читателям, первый их них был обязан слишком яркому цвету шевелюры, а второй — сходством лица с мордочкой зверька, героя одной из самых очаровательных басен Лафонтена.
Однако поразмыслив, молодой человек решил, что в этом случае маркиз де Суде может ограничиться письменным изъявлением благодарности без всякого приглашения.
Если бы, на его несчастье, маркиз поступил именно так, возможность попасть в замок была бы упущена; пришлось бы ждать другого случая, а он выпадает не каждый день.
Если же, напротив, молодой человек отвел бы собак сам, п о непременно пригласили бы: коль скоро ваш сосед был настолько любезен, что прошагал шесть или семь километров и лично сам доставил вам собак, которых вы считали пропавшими и которыми вы дорожите, его нельзя отлупить просто так, не пригласив передохнуть или даже, если время позднее, переночевать а замке.
Мишель достал часы: они показывали начало седьмого.
Мы уже говорили, кажется, что г-жа баронесса Мишель сохранила, а точнее, приобрела привычку обедать в четыре часа пополудни. В доме ее отца обедали в полдень.
Таким образом, у молодого барона было достаточно времени, чтобы сходить в замок, если бы он решился на это.
Но пойти в замок — значило принять трудное решение, а смелостью, как мы уже сообщали читателю, Мишель на обладал.
Четверть часа ушло на мучительные колебания. К счастью, в начале мая солнце заходит только в восемь часов вечера — следовательно, до наступления темноты оставалось еще полтора часа.
Впрочем, приличия позволяли явиться в замок и в девятом часу.
Но девушки ведь целый день были на охоте, устали, вдруг они рано лягут спать?
А молодой человек желал повидаться вовсе не с маркизом де Суде. Ради одного маркиза он бы не прошел шесть километров, тогда как для того, чтобы увидеться с Мари, мог бы, кажется, прошагать сотню льё!
Он решил не мешкая отправиться в путь.
Но тут молодой человек заметил, что он без шляпы.
Однако если бы он зашел домой за шляпой, то мог там натолкнуться на мать; начались бы расспросы: куда он идет, чьи это собаки?
Шляпа была ему ни к чему, отсутствие шляпы легко объяснить поспешностью: скажем, ее унесло ветром или же зацепило веткой, и она покатилась в овраг, а он из-за собак не смог ее подобрать.
Отсутствие шляпы грозило куда меньшими затруднениями, чем возможное объяснение с баронессой.
Поэтому молодой человек ушел без шляпы, ведя на поводке собак.
Не успел он пройти нескольких шагов, как стало ясно: чтобы добраться до замка Суде, ему не понадобится, как он рассчитывал, час с четвертью.
Как только собаки узнали дорогу, на которую свернул их вожатый, ему пришлось уже не тянуть их за собой, а удерживать.
Они учуяли псарню и натягивали веревку изо всех сил; если бы их впрягли в легкий экипаж, они домчали бы барона Мишеля за каких-нибудь полчаса.
Следуя за ними, молодой человек мог одолеть это расстояние за три четверти часа — надо было только бежать.
Поскольку нетерпеливое желание собак добраться до дома совпадало с его собственным, он не удерживал их.
Пробежав минут двадцать, они оказались в Машкульском лесу, через который вела самая короткая дорога, надо было только срезать угол на треть ширины леса.
В лес можно было войти, поднявшись на довольно крутой пригорок.
Молодой барон легко взбежал на него, однако, оказавшись на вершине, почувствовал, что ему надо отдышаться.
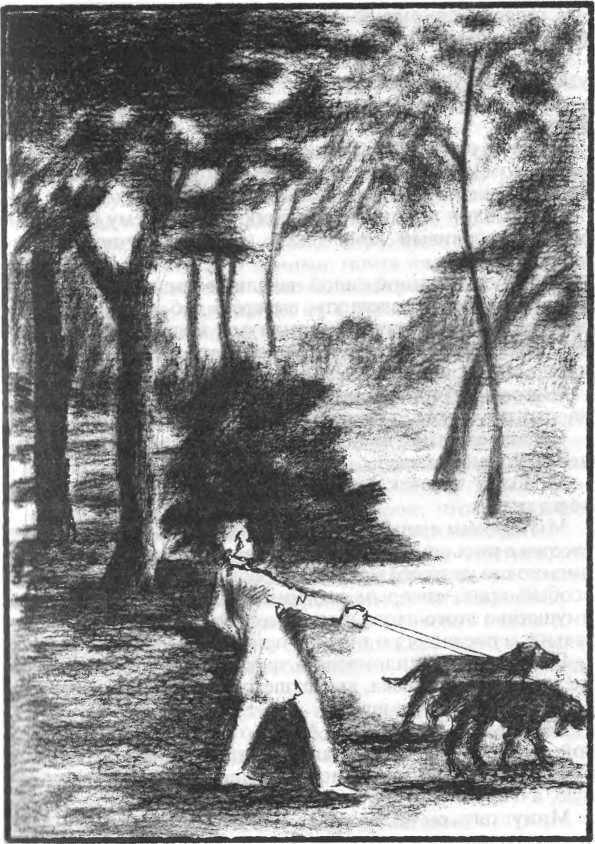
Собаки же такой потребности не ощущали.
Они не скрывали желания продолжить путь.
Барон воспротивился этому желанию, выгнувшись всем телом назад, в то время как они тянули его вперед.
Согласно одному из основных законов механики, две равные силы уравновешивают друг друга.
Молодой человек обладал недюжинной силой, и ему удалось сдержать собак.
Воспользовавшись остановкой, он достал платок и вытер лоб.
Пока он вытирал лоб и наслаждался прохладой, которую навевало ему дыхание вечера, ему показалось, что ветер донес издалека чей-то призывный крик.
Не он один услышал этот крик: ответом ему послужил долгий тоскливый вой, какой издают обычно потерявшиеся собаки.
И они с удвоенной силой начали рваться вперед.
Барон успел передохнуть, вытереть лоб, и теперь у него больше не было причин противиться желанию Позумента и Аллегро продолжить путь. Вместо того чтобы откинуться назад, он наклонился вперед и побежал.
Шагов через триста снова послышался призывный крик, на этот раз ближе, а следовательно, отчетливее первого.
Собаки ответили на него более долгим лаем и еще яростнее рванулись вперед.
Молодой человек догадался, что кто-то ищет собак и горлает их.
Мы просим наших читателей извинить нас за то, что вводим в письменную речь столь неакадемическое слово; но именно его употребляют наши крестьяне, чтобы издать тот особый крик, которым охотник зовет своих собак. Преимущество этого слова в том, что оно достаточно выразительно, а последняя и главная причина: я не знаю другого.
Еще через полкилометра в третий раз послышались те же звуки: зов человека, вышедшего на поиски, и ответ животных, которых он искал.
На этот раз Позумент и Аллегро рванулись с такой силой, что их вожатый, пытаясь угнаться за ними, был вынужден убыстрить шаг, с мелкой рыси он перешел на крупную, а с крупной — на галоп.
Минут пять он выдерживал этот бег, как вдруг на опушке леса показался какой-то человек, одним прыжком перепрыгнул через канаву и сразу очутился посреди дороги, преградив путь молодому барону.
Это был Жан Уллье.
— Вот те на! — сказал он. — Стало быть, господин любезник, вы не только отвлекаете моих собак от волка, на которого я охочусь, и пускаете их по следу зайца, на которого охотитесь сами, вы еще даете себе труд вести их на поводке.
— Сударь, — произнес молодой человек, еле переводя дух, — сударь, если я веду этих собак на поводке, то для того лишь, чтобы иметь честь лично отдать их господину маркизу де Суде.
— Ага! Вот так, без шляпы, без лишних церемоний? Не трудитесь! Теперь, когда мы с вами встретились, я могу отвести их сам.
И, прежде чем г-н Мишель успел помешать ему или даже разгадать его намерения, Жан Уллье вырвал у него из рук веревку и набросил ее собакам на шею, как набрасывают повод на шею лошади.
Почувствовав свободу, собаки опрометью понеслись по направлению к замку, а за ними, почти не отставая, побежал Жан Уллье, щелкая хлыстом и покрикивая:
— На псарню, негодники, на псарню!
Все это произошло так быстро, что собаки и Жан Уллье были уже в километре от барона, а барон не успел еще прийти в себя.
Убитый горем, он так и остался стоять посреди дороги.
Минут десять он простоял, раскрыв рот и не сводя глаз с поворота, куда скрылись Жан Уллье и собаки, как вдруг н двух шагах от него раздался нежный и ласковый девичий юл ос:
— Боже праведный! Господин барон, что вы делаете здесь, на дороге, в такой час, с непокрытой головой?
Молодой человек весьма затруднился бы ответить, что он делал: он мысленно провожал свои надежды, улетавшие к замку Суде, но не осмеливался последовать за ними.
Он обернулся, чтобы увидеть, кто заговорил с ним.
И узнал свою молочную сестру, дочь арендатора Тенги.
— Ах, это ты, Розина, — сказал он. — А сама ты сейчас откуда?
— Увы, господин барон, — ответила девушка, едва сдерживая слезы, — я иду из замка Ла-Ложери, где госпожа баронесса приняла меня очень плохо.
— Как это так, Розина? Ты же знаешь, матушка тебя любит и оказывает тебе покровительство.
— В обычные времена — да, но не сегодня.
— Что значит «не сегодня»?
— Истинная правда! Всего час назад, никак не больше, она велела выставить меня за дверь.
— Почему же ты не попросилась ко мне?
— Я попросилась, господин барон, а мне ответили, что нас нет.
— Как?! Меня не было в замке? Да я только что оттуда, дитя мое! Как бы ты быстро ни бежала, тебе не опередить меня, за это уж я ручаюсь!
— Ах! Быть может, так оно и есть, господин барон: видите ли, когда ваша досточтимая матушка прогнала меня, мне пришло в голову пойти к Волчицам, но я решилась на это не сразу.
— А что ты собираешься просить у Волчиц?
Произнести это слово Мишелю стоило немалых усилий.
— То же самое, за чем приходила к госпоже баронессе: помощи моему бедному отцу, он очень болен.
— Болен чем?
— Лихорадкой — он схватил ее на болотах.
— Лихорадкой? — переспросил Мишель. — Какой, злокачественной, перемежающейся или тифозной?
— Не знаю, господин барон.
— А что сказал доктор?
— Эх, господин Мишель, доктор живет в Паллюо; меньше чем за сто су он и с места не сдвинется, а мы не так богаты, чтобы платить сто су за визит доктора.
— И моя мать не дала тебе денег?
— Говорю вам, она даже видеть меня не пожелала! «Лихорадка! — воскликнула она. — Ее отец болен лихорадкой, а она пришла в замок? Гоните ее прочь!»
— Этого не может быть.
— Я сама слышала, господин барон, уж очень громко она кричала; и потом, меня ведь действительно выгнали.
— Постой, постой, — заволновался молодой человек, — сейчас я дам тебе денег.
И он сунул руку в карман.
Но, как мы помним, все, что у него было, он отдал Куртену.
— Боже! — воскликнул он. — Бедное мое дитя, у меня нет ни су! Вернемся вместе в замок, Розина, я дам тебе сколько нужно.
— О нет! — ответила девушка. — Туда я не вернусь ни за что на свете. Нет! Тем хуже, раз уж я решилась, пойду к Волчицам. Они сочувствуют чужому горю, они не выгонят бедную девушку, у которой отец при смерти и которая просит помощи.
— Но… — нерешительно возразил молодой человек. — Но ведь они, говорят, небогаты.
— Кто?
— Барышни Суде.
— О! Я не денег пойду у них просить… Они не милостыню подают: Господь свидетель, то, что они делают, гораздо лучше.
— Что же они делают?
— Они приходят туда, где люди болеют, и, если не могут вылечить больного, поддерживают умирающего и плачут вместе с теми, кто остался в живых.
— Да, — ответил молодой человек, — так они поступают при обычной болезни, но если это злокачественная лихорадка?..
— А разве они на это посмотрят? Разве добрые сердца разбирают, заразная эта хворь или нет? Видите, я сейчас иду к ним, верно?
— Да.
— Ну так вот, подождите здесь, через десять минут я вернусь с одной из сестер: она будет ухаживать за моим отцом. До встречи, господин Мишель. Ах! Никак не ожидала такого отношения от госпожи баронессы: выгнать точно воровку дочь вашей кормилицы!
И девушка удалилась, а молодой человек не нашелся, что ей ответить.
Но кое-что из сказанного девушки запало ему в душу.
Она сказала: «Подождите здесь, через десять минут я вернусь с одной из сестер».
Мишель твердо решил ждать; упустив один случай, он хотел воспользоваться другим.
А вдруг случится так, что вместе с Розиной придет Мари?
Но можно ли себе вообразить, чтобы восемнадцатилетняя девушка, дочь маркиза де Суде, вышла из дому в восемь часов вечера и отправилась за полтора льё ухаживать за бедным крестьянином, больным злокачественной лихорадкой?
Это было не то что неправдоподобно, это было просто немыслимо.
Розина наделяла сестер достоинствами, которых у них не было, подобно тому, как другие наделяли их пороками, которых у них не было.
Да и можно ли поверить, чтобы набожная баронесса Мишель, приписывавшая себе все добродетели, какие только были на свете, повела себя в таких обстоятельствах прямо противоположно тому, как поступили две девушки, осуждаемые всей округой?
А если все произойдет так, как предсказывала Розина, не будет ли это означать, что именно сестры Суде и есть подлинные христианки?
Но, разумеется, ни одна из них не придет.
Молодой человек уже повторил себе это в десятый раз за десять минут, когда из-за поворота дороги, за которым исчезла Розина, показались две женские фигуры.
В одной из них, несмотря на сгущавшиеся сумерки, он узнал Розину; но сопровождавшая ее особа была неузнаваема под длинной накидкой.
Барон Мишель был в таком смятении, а сердце так трепетало, что у него подкосились ноги, он не смог и шагу сделать навстречу двум девушкам и ждал, когда они подойдут ближе.
— Ну, господин барон, — гордо сказала Розина, — что я вам говорила?
— А что ты ему говорила? — спросила девушка в накидке.
У Мишеля вырвался вздох: этот твердый и решительный голос принадлежал Берте.
— Я говорила ему, — ответила Розина, — что у вас со мной не поступят так, как в замке Ла-Ложери, и не прогонят.
— Но ты, наверное, не сказала мадемуазель де Суде, чем болен твой отец? — спросил Мишель.
— По всем признакам, — ответила Берта, — болезнь походит на тифозную горячку. Поэтому нельзя терять ни минуты: это как раз та болезнь, какую надо начать лечить вовремя. Пойдете с нами, господин Мишель?
— Но, мадемуазель, — сказал молодой человек, — ведь тифозная горячка — заразная болезнь.
— Одни это утверждают, другие отрицают, — невозмутимо ответила Берта.
— Но тифозная горячка смертельна! — не унимался Мишель.
— Да, во многих случаях. Но бывает, что больные выздоравливают.
Молодой человек притянул Берту к себе.
— И вы хотите подвергнуться такой опасности? — спросил он.
— Разумеется.
— Ради какого-то неизвестного, чужого вам человека?
— Пусть нам он чужой, — с подкупающей мягкостью ответила Берта, — но кому-то он приходится отцом, братом, мужем. В этом мире нет чужих, господин Мишель, и разве судьба этого несчастного вам безразлична?
— Это муж моей кормилицы, — пробормотал Мишель.
— Вот видите, — заметила Берта, — вы были не правы, назвав его чужим.
— Но ведь я предлагал Розине вернуться вместе со мной в замок, хотел дать ей денег, чтобы она пригласила врача.
— А ты отказалась и решила вместо этого обратиться к нам? — спросила Берта. — Спасибо, Розина.
Молодой человек был смущен. Ему приходилось много раз слышать о милосердии, но он никогда не видел, чтобы кто-то проявлял его. И вот оно вдруг явилось перед ним в облике Берты.
Он шел за девушками в задумчивости, поникнув головой.
— Если вы идете с нами, — сказала Берта, — то будьте так добры, господин Мишель, возьмите этот ящичек с лекарствами.
— Да, но господин барон с нами не пойдет, — сказала Розина. — Он знает, как госпожа баронесса боится любой заразы.
— Ошибаешься, Розина, — возразил молодой человек. — Я иду с вами.
И он взял ящичек, который протянула ему Берта.
Час спустя все трое подходили к хижине отца Розины.
XI
МУЖ КОРМИЛИЦЫ
Эта хижина стояла не в самой деревне, а несколько поодаль, на опушке, примерно на расстоянии ружейного выстрела. Она примыкала к рощице, куда выходила задняя дверь.
Папаша Тенги, как обычно называли отца Розины, был шуаном; в юности он участвовал в первой вандейской войне под началом знаменитых вождей: и Жолли, и де Куэтю, и Шаретта, и Ларошжаклена.
Он был женат и имел двоих детей. Старшим был сын, который, подчиняясь законам о рекрутском наборе, служил в это время в армии. Младшей была дочь Розина.
После рождения каждого из них жена Тенги — как делают обычно бедные крестьянки — кормила грудью еще одного новорожденного ребенка.
Молочным братом юного Тенги был последний отпрыск знатного дворянского рода из Мена; его звали Анри де Бонвиль, и вскоре он появится на страницах нашего повествования.
А молочным братом Розины был, как мы уже знаем, Мишель де ла Ложери, одно из главных действующих лиц нашей трагической истории.
Анри де Бонвиль был двумя годами старше Мишеля; прежде мальчики часто играли вдвоем у порога того дома, куда Мишелю предстояло теперь войти вслед за Розиной и Бертой.
Позднее они снова увиделись в Париже. Баронесса де л а Ложери всячески поощряла дружбу сына с молодым человеком, занимавшим благодаря своему имени и состоянию видное положение в западных провинциях.
Эти два младенца принесли в дом Тенге некоторый достаток. Но таков уж вандейский крестьянин — своего достатка он не показывает никогда.
Тенге представлялся бедняком себе в ущерб, и, даже будучи серьезно больным, он не стал посылать в Паллюо за врачом, чей визит обошелся бы ему в пять франков.
Впрочем, крестьяне вообще, а вандейские крестьяне в особенности, не верят ни в медицину, ни врачам. Вот почему Розина обратилась за помощью в замок Ла-Ложери, куда имела доступ как молочная сестра Мишеля, вот почему она побежала к сестрам Суде после того, как ее выгнали из Ла-Ложери.
Услышав шаги, больной с трудом приподнялся, но тут же с жалобным стоном упал на свое ложе. В комнате горела свеча, освещавшая одну лишь кровать, остальное тонуло во мраке; при этом скудном свете можно было различить мужчину лет сорока, распростертого на жалком одре и ведущего смертельную схватку с беспощадным демоном заразы.
Он был бледен до синевы; остекленевший взгляд выражал подавленность, и время от времени все его тело сотрясалось с головы до ног, словно к нему подключили гальваническую батарею.
От этого зрелища Мишель вздрогнул, ему стало понятно, почему его мать, представляя себе состояние больного, не решилась впустить Розину, ведь девушка несла с собой горячечные испарения, почти ощутимо витавшие над постелью страдальца и в освещенном пространстве вокруг него.
Он подумал о камфоре, о хлоре, об уксусе четырех разбойников — словом, обо всех средствах, предохраняющих здорового человека от заразы, когда он находится рядом с больным, и, не имея ни уксуса, ни хлора, ни камфоры, он ограничился тем, что остался стоять возле двери, чтобы можно было дышать свежим воздухом.
Берта ни о чем подобном и не подумала: она направилась прямо к постели и взяла больного за руку, пылавшую от лихорадочного жара.
Молодой человек рванулся было вперед, чтобы остановить ее, открыл рот, чтобы закричать; но он словно окаменел, потрясенный бесстрашным поступком Берты во имя милосердия, и некоторое время оставался объятый ужасом и в то же время восхищенный мужественным поведением девушки.
Берта расспросила больного. Вот что он рассказал.
Проснувшись накануне утром, Тенги почувствовал такую усталость в теле, что, когда он встал с кровати, ноги у него подкосились и он чуть было не упал: это было не что иное, как предостережение, посланное ему природой; но сельские жители редко прислушиваются к ее советам.
Вместо того чтобы снова лечь в постель и послать за врачом, Тенги продолжал одеваться и, поборов недомогание, спустился в погреб и принес кружку сидра. Затем он отрезал себе ломоть хлеба: по его мнению, ему следовало набраться сил.
Кружку сидра он выпил с удовольствием, а вот хлеба не смог проглотить ни куска.
Потом он побрел в поле на работу.
По дороге у него началась мучительная головная боль и сильное кровотечение из носа; чувство слабости во всем теле переросло в ломоту: раза два или три ему пришлось присесть. Он с жадностью напился из двух источников, попавшихся ему на пути, но не только не утолил жажду, а, напротив, так нестерпимо захотел пить, что в третий раз напился из дорожной выбоины.
Наконец он пришел на свое поле. Но теперь у него уже не было сил выворотить заступом хотя бы ком земли из борозды, которую он начал копать накануне. Несколько мгновений он стоял, опершись на заступ. Потом голова у него закружилась, и он лег или, вернее, упал на землю в полном беспамятстве.
Так он пролежал до семи часов вечера и провел бы так ночь, если бы мимо случайно не проходил крестьянин из деревни Леже. Увидев лежавшего на земле человека, крестьянин окликнул его — тот не ответил, а только пошевелился. Крестьянин подошел ближе и узнал Тенги.
Большого труда ему стоило довести больного до дому: Тенги был так слаб, что им понадобился час с лишним, чтобы пройти четверть льё.
Розина с тревогой ждала отца. Увидев его, она пришла и ужас и хотела бежать в Паллюо за врачом, но Тенги строго-настрого запретил ей это и лег в постель, уверяя, что п о пустяки и до утра все пройдет. Только вот его жажда, имеете того чтобы пройти, делалась все сильнее, а потому он велел Розине поставить у кровати на стул кувшин с водой.
Ночь он провел без сна, снедаемый лихорадочным жаром, то и дело пил, но так и не смог залить пылавший у него внутри огонь. Утром он попытался встать, но сумел только присесть на кровати, и то с большим трудом. Голова Раскалывалась, потом началось головокружение и он стал жаловаться на мучительную боль в правом боку.
Розина вновь принялась настаивать на том, чтобы послать за г-ном Роже — так звали врача из Паллюо, — и снова отец решительно запретил ей. Девушка села у кровати, готовая исполнять все желания больного и оказать необходимую помощь, предоставив ему все, что он хотел.
А хотел он больше всего на свете воды: каждые десять минут он просил пить.
Так Розина ухаживала за ним до четырех часов пополудни.
В четыре часа отец сказал ей, качая головой:
— Знаешь, я чувствую, что подцепил лихорадку. Надо сходить в замок к добрым барышням и попросить у них лекарство.
Мы видели, к чему привело это решение.
Пощупав пульс больного и выслушав историю его болезни, которую он с трудом поведал ей прерывающимся голосом, Берта, насчитавшая сто ударов в минуту, поняла: папаша Тенги боролся с тяжелым приступом лихорадки.
Но что это была за лихорадка? Увы, Берта была слишком несведуща в медицине, чтобы определить это.
Однако, поскольку больной то и дело кричал: «Пить! Пить!» — она нарезала дольками лимон, вскипятила с ним воду в большом кофейнике, чуть подсластила этот лимонад и дала Тенги вместо воды.
Заметим, что, когда надо было бросить сахар в кипящую воду, она узнала от Розины, что его у них в доме нет: для вандейского крестьянина сахар — это предел роскоши!
К счастью, предусмотрительная Берта положила несколько кусков сахара в свою аптечку.
Она огляделась в поисках этого ящичка и увидела его под мышкой у Мишеля, все еще стоявшего у дверей.
Знаком она подозвала молодого человека к себе, но он не успел шелохнуться, как девушка снова сделала знак, приказывавший оставаться на месте, и сама подошла к нему, прижимая палец к губам.
И совсем тихо, чтобы ее не услышал больной, она сказала:
— Состояние этого человека очень серьезное, и я не смею принимать решение самостоятельно. Здесь необходим врач, и я боюсь даже, как бы он не пришел слишком поздно! Я сейчас дам Тенги какое-нибудь болеутоляющее, а вы тем временем бегите в Паллюо, милый господин Мишель, и привезите доктора Роже.
— А вы-то, вы? — с тревогой спросил барон.
— Я остаюсь, вы застанете меня здесь. Мне надо обсудить с больным кое-что важное.
— Кое-что важное? — удивленно переспросил Мишель.
— Да, — ответила Берта.
— Однако… — не успокаивался молодой человек.
— Я ведь сказала вам, — перебила его девушка, — что малейшее промедление может иметь страшные последствия. Лихорадки вроде этой часто бывают смертельными, даже если их начать лечить вовремя, а на такой стадии от них погибают почти всегда. Идите, не теряя ни минуты, доставьте сюда врача.
— А если лихорадка заразная? — спросил молодой человек.
— Ну и что же? — в ответ сказала Берта.
— А не может случиться так, что вы заболеете?
— Сударь, — возразила Берта, — если бы мы думали о таких вещах, половина наших крестьян умерли бы без всякой помощи. Идите же, и пусть Бог позаботится обо мне.
И она протянула ему руку.
Молодой человек взял руку Берты и, потрясенный бесстрашием этой женщины, столь простым и столь возвышенным, на которое он, мужчина, вряд ли будет когда-либо способен, и почти страстно прижал эту руку к своим губам.
Его порыв был столь стремителен, что Берта вздрогнула, побледнела как мел и со вздохом произнесла:
— Идите, друг мой, идите!
На этот раз ей не пришлось дважды повторять приказание: Мишель стрелой вылетел из хижины. Какой-то неведомый прежде огонь разливался по его телу, удваивая жизненные силы. Он чувствовал в себе непомерную мощь и был способен творить чудеса. Ему казалось, что у него, как у древнего Меркурия, выросли крылья на голове и на пятках. Если бы у него на пути вдруг встала стена — он бы перескочил через нее; если бы перед ним разлилась река и поблизости не было бы ни броду, ни моста — он, не раздумывая, бросился бы в нее прямо в одежде и преодолел бы се вплавь без колебаний.
Он жалел, что Берта попросила его о такой безделице: ему хотелось настоящих препятствий, какого-нибудь трудного, даже невозможного задания.
Разве можно ожидать от Берты признательности за то, что он пройдет пешком льё с четвертью, чтобы привести врача?
Не два с половиной льё хотелось ему пройти, он бы пошел на край света!
Он был бы счастлив получить какое-нибудь доказательство собственного героизма, которое позволило бы ему соизмерить свое мужество с мужеством Берты.
Понятно, что молодой барон, пребывая в возбуждении, не ощущал усталости: расстояние в льё с четвертью, отделяющее Леже от Паллюо, он преодолел меньше чем за полчаса.
Доктор Роже был своим человеком в замке Ла-Ложери, находившемся в часе езды от Паллюо. Молодому барону достаточно было назвать свое имя, и доктор, еще не зная, что его зовут к простому крестьянину, поднялся с кровати и крикнул из-за двери спальни: через пять минут он будет готов.
Действительно, через пять минут он вышел в гостиную и спросил у молодого человека, какова причина его неожиданного ночного визита.
Вкратце Мишель изложил ему суть дела. Так как г-н Роже удивился, что юноша проявляет к крестьянину столь живой интерес — прибегает ночью, взволнованный, вспотевший, чтобы позвать к нему врача, — то молодой барон Ложери объяснил это участие своей давней привязанностью к больному, мужу его кормилицы.
Доктор расспросил о симптомах болезни; Мишель в точности повторил все, что услышал, и попросил г-на Роже взять с собой необходимые лекарства, ибо деревня Леже еще не успела приобщиться к цивилизации до такой степени, чтобы иметь свою аптеку.
Видя, что молодой барон весь взмок, и узнав, что он пришел пешком, доктор, уже было приказавший оседлать лошадь, отменил свое распоряжение и велел слуге заложить двуколку.
Мишель воспротивился этому изо всех сил; он утверждал, что пешком доберется быстрее, чем доктор верхом: его переполняла дерзновенная отвага юности и великодушия, и он действительно готов был добраться до Леже пешком так же быстро, как доктор верхом, если не еще быстрее.
Доктор настаивал, Мишель отказывался; молодой человек положил конец спору, выбежав за дверь и крикнув доктору:
— Приезжайте как можно скорее, я побегу вперед и скажу, что вы едете.
Доктор подумал, что сын баронессы Мишель сошел с ума.
Он решил, что вскоре нагонит его, и повторил свой приказ заложить двуколку.
Одна только мысль о том, что он появится перед молодой девушкой в двуколке, приводила нашего влюбленного в ужас.
Ему казалось, что Берта будет испытывать к нему гораздо большую благодарность, если увидит, что он вернется бегом и распахнет дверь хижины с криком: «Вот и я! За мной едет доктор!», чем если бы увидела его подъезжающим вместе с доктором в двуколке.
Вот если бы он примчался верхом на гордом скакуне с развевающимися по ветру гривой и хвостом, выдыхающем пламя из ноздрей и возвещающем о его прибытии громким ржанием… Но в двуколке!
В сто раз лучше прийти пешком.
Первая любовь исполнена такой поэзии, что все прозаическое вызывает у нее глубокую неприязнь.
Что скажет Мари, когда ее сестра Берта поведает ей, как послала молодого барона за доктором Роже в Паллюо и как молодой барон вернулся вместе с врачом в двуколке?
Нет, как мы уже сказали, прийти пешком было в десять, в двадцать, в сто раз лучше.
Чутье подсказывало молодому человеку, что покрытый испариной лоб, горящие глаза, тяжело вздымавшаяся грудь, запыленная одежда, встрепанные ветром волосы произведут на девушку благоприятное впечатление.
Что же касалось самого больного, Бог ты мой, надо признаться, под влиянием лихорадочного возбуждения он почти о нем забыл. Не о нем думал Мишель, а о двух сестрах. Не ради него он бежал со скоростью три льё в час, а ради Берты и Мари.
То, из-за чего все перевернулось в душе нашего героя, становилось лишь второстепенным поводом, а не целью.
Если бы Мишель звался Гиппоменом и состязался в беге с Аталантой, ему не пришлось бы ради победы разбрасывать на ее пути золотые яблоки.
Он пренебрежительно смеялся при мысли о том, что доктор понукал свою лошадь, надеясь догнать его; холодный ночной ветер, леденивший капли пота у него на лбу, доставлял ему неизъяснимое наслаждение.
Чтобы доктор догнал его! Он скорее умрет, чем позволит себя догнать.
На дорогу из Леже в Паллюо у него ушло полчаса; обратный путь он проделал за двадцать пять минут.
Словно догадываясь о невероятной скорости, с какой молодой человек спешил к ней, Берта вышла и стояла на пороге в ожидании своего гонца; она знала, что он никак не мог вернуться раньше чем через полчаса, но все же прислушивалась.
Ей показалось, что она слышит вдали чьи-то почти неуловимые шаги.
Невозможно было поверить, что молодой барон вернулся так быстро, и все же она ни на секунду не усомнилась в том, что это был именно он.
В самом деле, минуту спустя она увидела, как появился во тьме его силуэт, и в то же самое время он, не сводя глаз с двери, но не веря своим глазам, заметил ее, стоявшую неподвижно с рукой, прижатой к сердцу, которое впервые забилось часто и громко.
Когда молодой человек предстал перед Бертой, он, словно грек из Марафона, был без голоса, без сил, без дыхания: еще немного — и он, подобно ему, рухнул бы, если не мертвым, то без чувств.
У него хватило сил только сказать:
— Доктор сейчас приедет.
А затем он, чтобы не упасть, оперся рукой о стену.
Если б он был в состоянии говорить, он воскликнул бы: «Вы ведь расскажете мадемуазель Мари, что из любви к ней и к вам я пробежал два с половиной льё меньше чем за час?» Но он не мог вымолвить ни слова, поэтому Берта должна была подумать — и подумала, — что ее посланец совершил этот подвиг ради нее одной.
Радостно улыбнувшись, она достала платок.
— Боже! — воскликнула она, осторожно вытирая пот с лица молодого человека и стараясь не прикасаться к ране на лбу. — Как же я огорчена, что вы так близко к сердцу приняли мою просьбу поторопиться. До чего вы себя довели?
Затем, словно мать, бранившая непослушное дитя, пожав плечами, с бесконечной теплотой она произнесла:
— Какой же вы еще ребенок!
В слове «ребенок» прозвучала такая невыразимая нежность, что Мишель вздрогнул.
Он взял руку Берты.
Рука была влажной и дрожала.
И тут с дороги послышался шум приближавшейся двуколки.
— Ах! Вот и доктор, — сказала Берта, отстраняя руку молодого человека.
Он взглянул на нее с удивлением. Почему она отстранила его руку? Ему не дано было понять, что творилось в сердце девушки, однако он смутно догадывался, что если она оттолкнула его руку, то не из ненависти, не из отвращения, не от гнева.
Берта вошла в дом — вероятно, чтобы сообщить больному о приезде врача.
Мишель остался стоять в дверях в ожидании доктора Роже.
Видя, как доктор подъезжает в плетеной двуколке, смешно подпрыгивающей на ухабах, Мишель лишний раз порадовался, что решил вернуться пешком.
Правда, если бы Берта, услышав стук колес, зашла в дом, как она сделала только что, она бы не заметила молодого человека в этом вульгарном экипаже.
Может быть, если бы она его не увидела, то осталась бы стоять у дверей ждать, пока он не появится?
Мишель подумал, что это более чем вероятно, и ощутил в своем сердце если не жар утоленной любви, то, во всяком случае, теплоту удовлетворенного самолюбия.
Назад: Часть первая
Дальше: XII ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ

