Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 20. Ожерелье королевы
Назад: XII ГОСПОДИН ДЕ ШАРНИ
Дальше: Часть вторая
XVIII
МАДЕМУАЗЕЛЬ ОЛИВА
В это время господин, указавший присутствующим на мнимую королеву, подошел к одному из зрителей, жадно смотревших на происходящее, одетому в потертое платье, и хлопнул его по плечу:
— Какой прекрасный сюжет для статьи вам, журналисту!
— Как это? — спросил тот.
— Хотите знать вкратце ее содержание?
— Пожалуйста.
— Вот оно: "Об опасности родиться подданным страны, где королем управляет королева, которая любит кризисы".
Газетчик рассмеялся.
— А Бастилия? — спросил он.
— Полно! Разве не существует анаграмм, с помощью которых можно провести всех королевских цензоров? Позвольте вас спросить, может ли когда-нибудь цензор запретить вам рассказать историю принца Илу и принцессы Аттенаутны, властительницы Цанфрии? Что вы на это скажете?
— Да, это превосходная мысль! — воскликнул увлеченный его словами газетчик.
— И могу вас заверить, что статья, озаглавленная "Кризисы принцессы Аттенаутны у факира Ремсема", будет иметь большой успех в салонах.
— Я того же мнения.
— Так идите же и изложите нам все это, нисколько не стесняясь в выражениях.
Газетчик пожал руку неизвестному господину.
— Могу я вам послать несколько экземпляров? — спросил он. — Я сделаю это с большим удовольствием, если вы будете столь любезны назвать мне свое имя.
— Конечно. Мысль о статье приводит меня в восхищение, и в вашем исполнении заметка будет иметь успех, выиграет на все сто процентов. В скольких экземплярах вы обыкновенно печатаете ваши маленькие памфлеты?
— В двух тысячах.
— Окажите мне услугу.
— Охотно.
— Возьмите эти пятьдесят луидоров и прикажите выпустить в свет шесть тысяч экземпляров.
— Как, сударь? Вы меня совершенно облагодетельствовали! Позвольте мне, по крайней мере, узнать имя такого великодушного покровителя литературы.
— Я сообщу вам его, когда через неделю пришлю к вам за тысячью экземпляров по два ливра за каждый. Согласны?
— Я буду работать день и ночь, сударь.
— И смотрите, чтобы статейка вышла забавной.
— Весь Париж будет хохотать до слез, кроме одной особы.
— Которая будет плакать кровавыми слезами, не так ли?
— О сударь, вы очень остроумны!
— А вы слишком снисходительны. Кстати, пометьте, что напечатано в Лондоне.
— Конечно, как обыкновенно.
— Сударь, остаюсь вашим покорным слугой.
И дородный незнакомец простился с газетным писакой, который, со своими пятьюдесятью луидорами в кармане, тотчас же умчался с легкостью зловещей птицы.
Незнакомец остался один, или, вернее, без собеседников, и в продолжение еще некоторого времени рассматривал молодую женщину, лежавшую в зале кризисов; ее экстаз сменился состоянием полного бесчувствия и неподвижности, между тем как женская прислуга, приставленная к дамам, подвергавшимся таким припадкам, целомудренно приводила в надлежащее положение ее несколько нескромно приподнявшееся платье.
Он заметил тонкие и дышавшие чувственной негой черты красивой молодой женщины и благородную грацию ее позы во сне.
— Положительно, — сказал он, отходя, — сходство поразительное. Провидение, создав его, имело свои цели; оно заранее вынесло свой приговор той, на которую эта женщина так походит.
В ту самую минуту, как он мысленно делал это заключение, молодая женщина медленно приподнялась с подушек, опираясь на руку соседа, уже вышедшего из состояния экстаза, и принялась приводить в порядок свой значительно пострадавший туалет.
Она слегка покраснела, увидев, с каким вниманием на нее смотрят присутствующие, вежливо и кокетливо отвечала на серьезные и вместе с тем приветливые вопросы Месмера и затем, потянувшись своим красивым телом, как просыпающаяся кошка, направилась через все три гостиные к выходу, не пропуская на ходу ни одного из взглядов, бросаемых на нее присутствующими, среди которых одни были насмешливые, другие страстные, третьи недоумевающие.
Но особенно удивило ее и даже заставило улыбнуться то, что, проходя мимо одной группы, о чем-то шептавшейся в углу гостиной, она вместо игривых взглядов и смелых любезностей заметила отвешиваемые ей поклоны, настолько почтительные, что ни один придворный не смог бы более церемонно и строго приветствовать французскую королеву.
В действительности эта недоумевающая и почтительная группа была наспех собрана тем же неутомимым незнакомцем, который, спрятавшись сзади, говорил вполголоса:
— Как бы то ни было, господа, это все же французская королева; поклонимся ей, поклонимся ниже.
Маленькая особа, предмет такого почтения, миновала между тем не без некоторой тревоги последнюю прихожую и вышла во двор.
Там ее утомленные глаза стали искать фиакр или портшез; но она не нашла ни того ни другого. Постояв минуту в нерешительности, она уже поставила свою маленькую ножку на мостовую, как к ней приблизился высокий лакей.
— Ваша карета, сударыня! — сказал он.
— Но, — возразила молодая женщина, — у меня нет кареты.
— Вы изволили приехать в фиакре?
— Да.
— С улицы Дофины?
— Да.
— Я отвезу вас туда, сударыня.
— Хорошо, отвезите, — сказала молодая особа с совершенно непринужденным видом, испытав разве на одну минуту чувство некоторого беспокойства, которое неминуемо вызвало бы во всякой другой женщине такое неожиданное предложение.
Лакей сделал знак, и тотчас подкатила элегантная карета и приняла на свои подушки особу, стоявшую у двери. Затем лакей поднял подножку и крикнул кучеру:
— На улицу Дофины!
Лошади быстро помчались. Доехав до Нового моста, маленькая особа, которой пришелся очень по вкусу такой способ передвижения, как говорил Лафонтен, пожалела, что живет не у Ботанического сада.
Карета остановилась. Подножка опустилась, и тотчас же хорошо обученный лакей протянул руку за общим ключом, из тех, с помощью которых возвращались домой обитатели тридцати тысяч разделенных на квартиры парижских домов, где не было ни швейцара, ни привратника.
Лакей открыл дверь, чтобы избавить от этого труда ручки молодой особы; затем, как только она вступила в темный подъезд, он поклонился и закрыл за ней дверь.
Карета тронулась и вскоре исчезла.
— Вот поистине приятное приключение! — воскликнула молодая женщина. — Это очень любезно со стороны господина Месмера. О, как я устала! Он это, вероятно, предвидел… Он действительно замечательный врач.
С этими словами она поднялась на третий этаж и остановилась на площадке, куда выходили две двери.
На ее стук немедленно открыла какая-то старуха.
— Добрый вечер, матушка; ужин готов?
— Да, и даже стынет.
— А он здесь?
— Нет, его еще нет; а господин здесь.
— Какой господин?
— С которым вам нужно было переговорить сегодня вечером.
— Мне?
— Да, вам.
Этот разговор происходил в маленькой комнатке, заменявшей прихожую и отделявшей площадку лестницы от большой комнаты, выходившей окнами на улицу.
Через стеклянную дверь можно было различить внутренность освещенной лампой комнаты, имевшей если не вполне удовлетворительный, то, по крайней мере, сносный вид.
Старые занавески из желтой шелковой материи, истертые и местами побелевшие от времени, несколько стульев, крытых зеленым утрехтским бархатом, большая резная шифоньерка с двенадцатью ящиками и старая желтая софа — вот какова была роскошь убранства комнаты.
На камине стояли часы и по бокам их две синие японские вазы, заметно надтреснутые.
Молодая женщина открыла стеклянную дверь и подошла к софе, на которой удобно расположился господин довольно представительной наружности, скорее полный, чем худой; его красивая белая рука перебирала богатое кружевное жабо.
Вошедшая не была знакома с этим человеком, но наши читатели узнают его без труда. Это был тот самый господин, что собрал группу любопытных на пути мнимой королевы, тот самый, что заплатил за памфлет пятьдесят луидоров.
Молодая женщина не успела первая начать разговор. Загадочный посетитель сделал ей легкий полупоклон и заговорил, устремив на хозяйку квартиры оживленный и благосклонный взор:
— Я знаю, о чем вы хотите спросить меня; но вы скорее получите желаемый ответ, если позволите мне самому предложить вам несколько вопросов. Вы мадемуазель Олива?
— Да, сударь.
— Прелестная женщина, очень нервная и очень увлеченная системой господина Месмера.
— Я только что от него.
— Прекрасно! Но, судя по тому, что можно прочесть в ваших прекрасных глазах, от этого вам не стало яснее, почему вы находите меня на вашей софе. А вы это-то и желали бы главным образом узнать?
— Вы угадали, совершенно верно, сударь.
— Сделайте одолжение, присядьте… Если вы будете стоять, то я буду вынужден также встать, и тогда нам не удастся спокойно беседовать.
— Вы можете похвалиться крайней своеобразностью своего поведения, сударь, — заметила молодая женщина, которую мы будем с этой минуты звать мадемуазель Олива, так как она соблаговолила откликнуться на это имя.
— Мадемуазель, я вас только что видел у господина Месмера и нашел вас такой, какой и хотел увидеть.
— Сударь!
— О, не пугайтесь, мадемуазель: я не говорю вам, что нашел вас очаровательной… Нет, это походило бы на объяснение в любви, а оно не входит в мои намерения. Поэтому не отодвигайтесь от меня, прошу вас, или вы вынудите меня кричать во все горло.
— Но чего же вы хотите в таком случае? — наивно спросила Олива.
— Я знаю, — продолжал незнакомец, — вы привыкли слышать от всех, что вы красивы… Я же думаю иначе и хочу предложить вам нечто иное.
— Сударь, ваш тон по отношению ко мне, право…
— Не волнуйтесь, прежде чем не выслушаете меня… Но не прячется ли здесь кто-нибудь?
— Здесь нет никого, сударь, но в конце концов…
— В таком случае, если здесь нет никого, то будем говорить свободно. Что бы вы сказали о небольшом союзе между нами?
— Союзе? Вы видите…
— Вы опять заблуждаетесь. Я говорю с вами не о связи, а о союзе. Я говорю с вами не о любви, а о делах.
— Каких же делах? — спросила Олива с любопытством, обнаруживавшим и полное изумление.
— Как вы проводите день?
— Но…
— Не бойтесь; я здесь не для того, чтобы осуждать вас. Расскажите мне все, чем вы занимаетесь.
— Я ничего не делаю или, по крайней мере, стараюсь делать как можно меньше.
— Вы ленивы.
— О!
— Прекрасно.
— А, вы находите это прекрасным?
— Конечно. Что мне за дело до того, что вы ленивы? Любите вы гулять?
— Очень.
— Посещать балы, театры?
— Чрезвычайно.
— Хорошую жизнь?
— Это в особенности.
— Если бы я дал вам двадцать пять луидоров в месяц, отказали бы вы мне?
— Сударь!
— Милая мадемуазель Олива, у вас опять появились подозрения, а между тем между нами было условлено, что вы не будете возмущаться. Я сказал двадцать пять луидоров, но могу изменить эту цифру и на пятьдесят.
— Я предпочла бы пятьдесят луидоров двадцати пяти, но еще лучше пятидесяти луидоров в моих глазах право самой выбирать себе любовника.
— Черт возьми, да ведь я уже сказал вам, что вовсе не желаю быть вашим любовником. Так что оставьте остроумие в покое.
— В таком случае, черт возьми, что же вы мне прикажете делать, чтобы заработать ваши пятьдесят луидоров?
— Разве мы сказали пятьдесят?
— Да.
— Пусть будет пятьдесят. Вы меня станете принимать у себя, будете со мной как можно любезнее, будете опираться на мою руку, когда я пожелаю этого, и станете ждать меня там, где я вам скажу.
— Но у меня есть любовник, сударь.
— Так что ж из этого?
— Как что?
— Да… Прогоните его, черт подери!
— О, Босира не так-то легко прогнать.
— Не желаете ли, чтобы я вам помог в этом?
— Нет, я люблю его…
— О!
— Немного.
— Это совершенно лишнее.
— Но это так.
— Тогда пусть Босир остается.
— Вы очень сговорчивы, сударь.
— В надежде встретить такую же сговорчивость и с вашей стороны. Мои условия вам подходят?
— Подходят, если вы мне их назвали полностью.
— Послушайте, дорогая, я вам сказал все, что могу вам сказать в данную минуту.
— Честное слово?
— Честное слово! Но вы должны понять одну вещь…
— Какую?
— Что у меня может вдруг возникнуть необходимость, чтобы вы действительно стали моей любовницей…
— Ну вот видите! В этом никогда не будет необходимости, сударь.
— … но для видимости.
— Это другое дело, на это я согласна.
— Итак, решено?
— По рукам.
— Вот вам аванс за первый месяц.
Он протянул ей сверток с пятидесятью луидорами, даже не коснувшись кончиков ее пальцев. А так как Олива колебалась, то он сунул золото ей в карман платья, не задев даже слегка ее округлого и красивого бедра, которое, вероятно, не встретило бы такого пренебрежительного отношения со стороны тонких знатоков где-нибудь в Испании.
В ту самую минуту как золото скрылось в глубине ее кармана, два резких удара в наружную дверь заставили Олива стремительно броситься к окну.
— Милосердный Боже! — воскликнула она. — Спасайтесь скорее. Это он.
— Кто он?
— Босир, мой любовник… Пошевеливайтесь же, сударь.
— А, тем хуже, честное слово.
— Как тем хуже! Он вас разорвет на кусочки!
— Ба!
— Слышите, как он стучит? Он высадит двери.
— Пусть ему откроют. Дьявольщина! Почему в самом деле вы не дадите ему ключа?
И незнакомец расположился поудобнее на софе, мысленно говоря себе: "Мне нужно взглянуть на этого негодяя и оценить его".
Удары в дверь продолжались вперемежку со страшными ругательствами, поднимавшимися много выше третьего этажа.
— Идите, идите, откройте ему, матушка, — сказала взбешенная Олива. — А вы, сударь, так и знайте, если с вами случится несчастье, тем хуже для вас самих.
— Да, вы совершенно правы: тем хуже для меня! — повторил невозмутимый незнакомец, не двигаясь с софы.
Олива между тем вышла на площадку и стала со страхом прислушиваться.
XIX
ГОСПОДИН БОСИР
Минуту спустя она бросилась навстречу какому-то мужчине, который, с разъяренным видом, вытянув обе руки вперед, с бледным лицом и в растерзанном костюме, ворвался в квартиру, извергая глухие ругательства.
— Босир, ну же, послушайте, Босир, — говорила она голосом не настолько испуганным, чтобы можно было упрекнуть ее в недостатке мужества.
— Пустите меня! — кричал вновь прибывший, грубо вырываясь из рук Олива. — А! — продолжал он, все более повышая голос, — мне не открывали двери, потому что здесь мужчина!
Незнакомец, как мы знаем, продолжал сидеть на софе в спокойной и неподвижной позе, которую г-н Босир, вероятно, приписал его нерешительности или испугу.
Он подошел к незнакомцу вплотную, злобно скрежеща зубами.
— Я полагаю, что вы ответите мне, сударь? — сказал он.
— А что вы желаете, чтобы я отвечал вам, дорогой мой господин Босир? — спросил незнакомец в свою очередь.
— Что вы здесь делаете? И, прежде всего, кто вы такой?
— Я очень мирный человек, на которого вы смотрите так угрожающе. Я беседовал с этой дамой, имея самые добрые намерения.
— Да, конечно, — пробормотала Олива, — самые добрые.
— Помолчите вы там! — проревел Босир.
— Ла-ла-ла, — произнес незнакомец, — не будьте так грубы с этой ни в чем не повинной дамой. И если вы не в духе…
— Да, я не в духе…
— Он, верно, проигрался, — сказала вполголоса Олива.
— Я совершенно ограблен, смерть всем чертям! — прорычал Босир.
— И ничего не имели бы против того, чтобы самому слегка ограбить кого-нибудь? — заметил со смехом незнакомец. — Это вполне понятно, милейший господин Босир.
— Довольно глупых шуток! И сделайте мне удовольствие: убирайтесь отсюда.
— О господин Босир, будьте снисходительным!
— Смерть всем чертям преисподней! Вставайте и уходите или я разломаю диван и все, что на нам находится!
— Вы мне не сказали, мадемуазель, что господин Босир подвержен таким капризам. Черт возьми! Какая свирепость!
Босир, окончательно выведенный из себя, сделал величественный театральный жест и, вынимая свою шпагу, описал рукой круг диаметром, по меньшей мере, футов в десять.
— Вставайте же, — сказал он, — если не хотите, чтобы я вас пригвоздил к месту.
— Право, трудно быть более нелюбезным, — отвечал спокойно незнакомец, левой рукой вытаскивая из ножен маленькую шпагу, которая лежала за его спиной на софе.
Олива пронзительно вскрикнула.
— Ах, мадемуазель, мадемуазель, замолчите, — сказал по-прежнему спокойно незнакомец, уже державший шпагу в руке и даже не изменивший для этого своей позы, — замолчите, а не то случатся следующие две неприятности: во-первых, вы оглушите господина Босира и он налетит на шпагу; а во-вторых, сюда поднимется привлеченный вами патруль и отведет вас прямо в Сен-Лазар.
Тогда Олива прибегла вместо крика к необыкновенно выразительной пантомиме.
Это была любопытная картина. С одной стороны, г-н Босир, растерзанный, отяжелевший от вина, дрожавший от ярости, беспорядочно размахивал перед собой шпагой, безуспешно пытаясь поразить своего противника. С другой стороны, сидевший на софе невозмутимый его противник, который держал одну руку на колене, а другой, вооруженной шпагой, отражал удары Босира спокойными и проворными движениями, с таким зловещим смехом, что содрогнулся бы сам святой Георгий.
Шпага Босира при всем его желании не могла двигаться по прямой линии, так как ее все время отклоняли в сторону парады его противника.
Босир начинал уже уставать и задыхаться; но его гнев сменился теперь невольным страхом. Он наконец понял, что если эта пока еще снисходительная шпага вздумает вытянуться и сделать выпад, то ему, Босиру, настанет конец. Его охватила нерешительность, он перестал наступать, и удары его стали менее уверенными и почти нечувствительными для противника. Последний же, быстро став в третью позицию, выбил у него шпагу из рук и отбросил ее точно перышко.
Шпага пролетела по комнате, пробила окно и исчезла за ним.
Босир остался на месте, не зная, что ему делать.
— Э, господин Босир, — сказал незнакомец, — берегитесь… Если ваша шпага упадет острием вниз и в это время будет кто-нибудь проходить по мостовой — вот и покойник!
Босир, который после этих слов пришел в себя, побежал к двери и бросился с лестницы вниз, чтобы, если возможно, догнать свое оружие и предотвратить несчастный случай, который мог его поссорить с полицией.
В это время Олива схватила руку победителя и сказала ему:
— О сударь, вы очень храбры; но господин Босир коварен и, кроме того, вы меня поставите в очень неприятное положение, если останетесь здесь дольше. Когда вы уйдете, он меня, конечно, примется бить.
— В таком случае я остаюсь.
— Нет, нет, ради Бога; он меня бьет, я его также бью и всегда оказываюсь сильнее, потому что мне щадить незачем. Уходите же, прошу вас.
— Обратите внимание на одно обстоятельство, красавица моя: если я выйду отсюда, то встречусь с ним внизу или же на лестнице, где он меня будет подкарауливать; мы снова начнем драться, а на лестнице нельзя так удачно парировать удары, как на диване.
— Так что же?
— Либо я убью метра Босира, либо он убьет меня.
— Великий Боже! Это правда. Это был бы славный скандал в доме!
— А его желательно было бы избегнуть, поэтому я остаюсь.
— Ради самого Неба, уходите! Поднимитесь на следующий этаж и оставайтесь там, пока Босир не вернется. Считая, что вы все еще здесь, он не станет вас нигде искать. Как только он войдет сюда, вы услышите, как я запру дверь на два оборота ключа. Я таким образом посажу голубчика под замок и положу ключ себе в карман. Воспользуйтесь этой минутой и уходите, пока я, чтобы выиграть время, буду мужественно драться с Босиром.
— Вы прелестная девушка… До свидания.
— До свидания? Когда же?
— Сегодня ночью, если вы ничего не имеете против.
— Как, сегодня ночью?! В своем ли вы уме?
— Ну да, сегодня ночью. Разве сегодня нет бала в Опере?
— Да подумайте же о том, что теперь уже полночь!
— Я это знаю; это безразлично.
— Нужны домино.
— Босир отправится за ними, если вы сумеете его хорошенько отколотить.
— Вы правы, — со смехом подтвердила Олива.
— Вот десять луидоров на костюмы, — сказал, в свою очередь засмеявшись, незнакомец.
— Прощайте, прощайте. Благодарю!
И с этими словами она вытеснила его на площадку.
— Он запер дверь внизу, — сказал незнакомец.
— Она закрывается изнутри только на засов. Прощайте, он идет.
— Ну, а если случайно он вас отколотит, как вы мне сообщите об этом?
— У вас, вероятно, есть лакеи? — спросила Олива после минутного размышления.
— Да, и я поставлю одного под вашими окнами.
— Прекрасно, и пусть он смотрит вверх, пока ему не упадет на нос записочка.
— Пусть так. Прощайте.
Незнакомец поднялся на верхний этаж, что было очень легко исполнить, так как на лестнице было темно, а Олива, обратившись с громкой бранью к Босиру, заглушала шум шагов своего нового сообщника.
— Да придете ли вы наконец, бешеный! — кричала она Босиру, который поднимался по лестнице, предаваясь серьезным размышлениям о моральном и физическом превосходстве этого самозванца, так нагло вторгшегося в чужое жилище.
Дойдя до этажа, где его ждала Олива, он вложил шпагу в ножны и мысленно стал готовить речь.
Олива взяла его за плечи, втолкнула в переднюю и заперла дверь на два оборота, как и обещала.
Незнакомец, спускаясь с лестницы, мог слышать шум завязавшейся битвы, в котором громко, как медь в оркестре, выделялся тот вид рукоприкладства, который вульгарно и звукоподражательно зовется оплеухами.
Они сопровождались криком и попреками. Голос Босира оглушал, а голос Оливи заглушал его. Пусть нам простят эту плохую игру слов, которая, однако, точно передает смысл описанной сцены.
"Действительно, — подумал, удаляясь незнакомец, — никто бы не поверил, чтобы женщина, которую так напугал приход ее повелителя, могла проявить такую способность к сопротивлению".
Незнакомец не стал терять времени, ожидая окончания этой сцены.
"Начало так горячо, — размышлял он, — что развязка не может быть далека".
Он завернул за угол маленькой улицы Анжуйского Дофина, где его ожидала карета, въехавшая в эту уличку задом.
Незнакомец сказал несколько слов одному из своих людей, и тот немедленно занял позицию под окнами Олива, притаившись в густой тени маленькой аркады у входа старинного дома.
Слуга мог видеть отсюда освещенные окна и судить по движению силуэтов о том, что происходило в комнатах.
В первые минуты быстро двигавшиеся взад и вперед, оба силуэта постепенно стали спокойнее, и наконец из двух остался только один.
XX
ЗОЛОТО
Вот что произошло за занавесками окна.
Сначала Босир удивился, увидев, что за ним запирают дверь на ключ; затем изумился тому, что мадемуазель Олива кричит так громко, и, наконец, еще более был поражен, когда, войдя в комнату, не нашел там своего страшного соперника.
Он стал искать его, грозил, кричал: если этот человек прячется, то, значит, боится его, а если он боится, то победа на стороне Босира.
Олива заставляла его прекратить эти поиски и отвечать на ее вопросы.
Босир, видя, что с ним грубо обращаются, в свою очередь повысил голос.
Олива, уже не чувствовавшая себя виновной, так как доказательства исчезли — quia corpus delicti aberat, по выражению закона, — стала громко кричать; Босир, решив заставить ее замолчать, хотел закрыть ей рот рукой или, вернее, попытался показать, что хочет это сделать.
Но эта была его ошибка: Олива поняла по-своему этот примирительный жест Босира. Навстречу его руке, приближавшейся к ее лицу, она выставила свою руку, столь же ловкую и быструю, какой была недавно шпага незнакомца.
Эта рука внезапной квартой и терцией парировала движение противника и, размахнувшись, ударила Босира по щеке.
Босир ответил боковым ударом правой руки, который заставил опуститься обе руки Оливы и скандальным образом вызвал яркую краску на ее левой щеке.
Вот это-то момент их беседы и уловил незнакомец, спускаясь с лестницы.
Объяснение, начатое таким образом, всегда влечет за собой скорую развязку; но тем не менее всякая развязка, — даже самая хорошая, — чтобы быть драматичной, требует долгих приготовлений.
Оливы в ответ на пощечину Босира пустила в него тяжелым и опасным метательным снарядом — фаянсовым кувшином; Босир ответил ей на это при помощи мулине тростью, которая разбила на пути несколько чашек, сломала свечу и наконец опустилась на плечо молодой женщины.
Взбешенная, она прыгнула на Босира и схватила его за горло. Несчастному поневоле пришлось ухватиться за то, что ему попалось под руку на угрожавшей его жизни Оливы.
Он разорвал ее платье. Олива, оскорбись за себя и жалея платье, выпустила добычу; Босир не устоял на ногах и отлетел на самую середину комнаты. Естественно, он поднялся с пола еще более рассерженный.
Но так как сила неприятеля измеряется его способностью к самообороне и даже победитель уважает ее в противнике, то Босир, возымевший немалое почтение к Оливе, снова вернулся к словесной форме переговоров.
— Вы зловредное создание, — начал он, — вы разоряете меня.
— Нет, это вы меня разоряете, — ответила Олива.
— О, я ее разоряю, когда у нее ничего нет!
— Скажите лучше, что у меня теперь больше ничего нет. Скажите, что это вы продали, проели, пропили и проиграли все, что у меня было.
— И вы смеете попрекать меня моей бедностью?
— А почему вы бедны? Это порок.
— Я сумею разом избавить вас от всех ваших пороков.
— Побоями?
И Олива потрясла в воздухе тяжелыми каминными щипцами, что вынудило Босира отступить назад.
— Вам не хватало только одного: взять себе любовников, — продолжал он.
— А как вы назовете тех негодниц, которые сидят около вас в притонах, где вы проводите дни и ночи?
— Я играю, чтобы иметь средства к жизни.
— И вы делаете это очень удачно: мы умираем с голоду. Прекрасное ремесло, нечего сказать!
— А вы, с вашим ремеслом, рыдаете, когда вам порвут платье, так как у вас нет денег, чтобы купить другое. Прекрасное ремесло, черт возьми!
— Получше вашего! — в бешенстве воскликнула Олива. — И вот вам доказательство.
И она выхватила из кармана горсть золота, которую швырнула на пол.
Луидоры покатились со звоном и рассыпались в разные стороны: одни запрятались под мебель, другие продолжали катиться ребром до самых дверей, третьи, наконец, сразу, как бы обессилев, упали плашмя; изображенные на них лица сверкали золотыми блестками.
Когда Босир услышал этот металлический дождь, застучавший по дереву мебели и полу комнаты, он почувствовал нечто вроде головокружения; пожалуй, было бы вернее сказать, нечто вроде угрызений совести.
— Луидоры, двойные луидоры! — воскликнул он, остолбенев.
Олива держала в руке другую пригоршню монет. Она швырнула их в лицо и в протянутые руки Босира, совершенно ослепленного этим потоком золота.
— О-о! — воскликнул он. — Да она богата, эта Олива!
— Вот что мне приносит мое ремесло, — цинично произнесла она, отталкивая резким ударом туфли золото, которым был усеян пол, и Босира, ставшего на колени, чтобы подобрать монеты.
— Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать… — считал он, весь дрожа от радости.
— Негодяй! — произнесла Олива.
— …девятнадцать… двадцать один, двадцать два…
— Трус!
— … двадцать три, двадцать четыре… двадцать шесть.
— Подлец!
Слышал ли Босир эти слова или покраснел сам по себе, но он поднялся с пола.
— Итак, — сказал он настолько серьезным тоном, что ничто не могло быть комичнее, — итак, мадемуазель, вы делали сбережения, лишая меня самого необходимого?
Олива, смутившись, не нашлась, что ответить.
— Итак, — продолжал негодяй, — вы предоставляли мне ходить в изношенных чулках, в порыжевшей шляпе, в платье с вытертой и разорванной подкладкой, а сами берегли эти луидоры в своей шкатулке? Откуда у вас эти деньги? Они остались от распродажи моих вещей, когда я соединил свою злосчастную судьбу с вашей!
— Мошенник! — прошептала тихо Олива.
И она бросила на него взгляд, исполненный презрения. Но Босир нисколько не смутился.
— Я прощаю вам, — сказал он, — не вашу жадность, но вашу бережливость.
— А вы только что хотели меня убить!
— Я был прав тогда, но был бы не прав теперь.
— Почему это, скажите на милость?
— Потому что теперь вы настоящая хозяйка, вы вносите свою долю в хозяйственные расходы.
— Я вам повторяю, что вы негодяй!
— Моя маленькая Олива!
— И вы отдадите мне назад это золото!
— О, дорогая моя!
— Вы мне отдадите его, или я вас проколю насквозь вашей же шпагой.
— Олива!
— Да или нет?
— Нет, Олива; я никогда не соглашусь на то, чтобы ты проколола меня шпагой.
— Не двигайтесь же, или вы погибли. Деньги!

— Отдай мне их.
— А, подлец, а, низкое созданье! Вы выпрашиваете, вымаливаете у меня плоды моего дурного поведения! И он называет себя мужчиной! Я всегда их презирала, презирала всех, слышите? И того, кто дает, еще больше, чем того, кто получает.
— Тот, кто дает, — торжественно вставил Босир, — может давать и счастлив этим. Я тоже вам давал, Николь.
— Я не хочу, чтобы меня называли Николь.
— Простите, Олива. Итак, я говорил, что я давал вам, когда мог.
— Необыкновенная щедрость! Серебряные серьги, шесть луидоров, два шелковых платья, три вышитых платка.
— Это много для солдата.
— Молчите… Эти серьги вы украли у кого-нибудь, чтобы подарить мне; луидоры вы взяли в долг без отдачи; шелковые платья…
— Олива, Олива!
— Отдайте мне мои деньги.
— Что ты желаешь взамен их?
— Вдвое больше.
— Хорошо, — серьезным тоном сказал негодяй. — Я иду играть на улицу Бюсси и принесу тебе не только вдвое, а впятеро больше.
И он сделал два шага к двери. Но Олива схватила его за полу поношенного кафтана.
— Ну, — сказал он, — вот кафтан и разорван.
— Тем лучше, вы достанете себе новый.
— Шесть луидоров, Олива, шесть луидоров! К счастью, банкометы и игроки на улице Бюсси не очень строги насчет одежды.
Олива спокойно взялась за другую полу его платья и оторвала ее. Босир пришел в ярость.
— Тысяча дьяволов! — воскликнул он. — Ты наконец дождешься, что я тебя убью! Хорошенькое дело, эта негодяйка еще будет раздевать меня! Я не могу выйти из дому.
— Наоборот, вы сейчас же уйдете.
— Это было бы интересно: без кафтана?
— Наденьте зимний плащ.
— Он в дырах, весь залатан!
— Так не надевайте его, если не хотите, но вы должны уйти.
— Никогда.
Олива взяла оставшиеся у нее в кармане золото, приблизительно сорок луидоров, и стала подбрасывать их в руках.
Босир едва не потерял рассудка. Он снова стал на колени.
— Приказывай, — сказал он, — приказывай.
— Вы сейчас же и быстро отправитесь в лавку "Капуцин-волшебник" на улице Сены; там продают домино для маскарадов.
— Ну?
— Вы купите мне полный костюм, маску и чулки под цвет.
— Хорошо.
— Для себя возьмете черное домино, а для меня — белое атласное.
— Да.
— Я даю вам на это только двадцать минут.
— Мы пойдем на бал?
— Да, на бал.
— А затем ты меня поведешь ужинать на бульвар?
— Конечно, но с одним условием.
— Каким?
— Вы будете мне повиноваться.
— О, всегда и во всем!
— Ну так покажите ваше усердие.
— Бегу.
— Как, вы еще не ушли?
— А деньги на расход?..
— У вас есть двадцать пять луидоров.
— Как двадцать пять луидоров? Откуда вы это взяли?
— Да те, которые вы подобрали с полу.
— Олива, Олива, это нехорошо.
— Что вы хотите этим сказать?
— Олива, вы мне их подарили.
— Я не говорю, что вы их не получите; но если бы я вам их дала сейчас, вы больше не вернулись бы. Ну, идите и возвращайтесь скорее.
— Она права, черт возьми! — сказал несколько сконфуженный мошенник. — Я действительно не хотел больше возвращаться.
— Через двадцать пять минут, слышите? — крикнула она.
— Повинуюсь.
В это-то время лакей, стоявший на своем наблюдательном посту под аркой, находившейся против окон, увидел, что один из силуэтов исчез.
Это удалился г-н Босир, который вышел из дому в платье с оторванными полами, но с дерзко раскачивавшейся шпагой; рубашка выбивалась у него из камзола, как было принято во времена Людовика XIII.
Пока этот бездельник шел к улице Сены, Олива поспешно набросала записочку с кратким отчетом о всем происшедшем:
"Мир подписан, раздел произведен, бал принят. В два часа мы будем в Опере. У меня будет белое домино, а на левом плече бант из голубых шелковых лент".
Олива обернула этой бумажкой обломок разбитого фаянсового кувшина, высунулась в окно и бросила записку на улицу.
Слуга бросился к ней и, подняв ее, убежал.
Между тем г-н Босир вернулся не более как через полчаса в сопровождении двух приказчиков, которые несли купленные за восемнадцать луидоров два очень изящных домино из магазина Капуцина-волшебника, искусного мастера, поставщика ее величества королевы и придворных дам.
XXI
ДОМИК
Мы оставили г-жу де Ламотт у двери особняка Месмера, когда она следила глазами за быстро удалявшейся каретой королевы. Как только очертания ее стали невидимы и стук колес умолк, Жанна, в свою очередь, сама села в свой наемный экипаж и вернулась к себе взять домино и другую маску, а заодно посмотреть, не произошло ли за это время у нее дома чего-нибудь нового.
Госпожа де Ламотт собиралась в эту столь удачную для нее ночь отдохнуть и отвлечься от всех волнений дня. Она, со свойственной ей храбростью, решила хоть немножко кутнуть, выражаясь вульгарно, и насладиться всей прелестью неожиданных приключений.
Однако на первых же шагах этого пути, столь соблазнительного для людей с пылким, но все время сдерживаемым воображением, она встретила препятствие.
У привратника ее ожидал посыльный в сером. Он состоял на службе у г-на принца де Рогана и принес от его высокопреосвященства записку следующего содержания:
"Госпожа графиня, Вы, без сомнения, не забыли, что мы с Вами должны покончить с кое-какими делами. Быть может, у Вас короткая память, но я никогда не забываю того, что мне понравилось. Имею честь ждать Вас там, куда Вас доставит предъявитель этого письма, если вы ничего не будете иметь против".
Вместо подписи стоял пастырский крест.
Госпожа де Ламотт, которую вначале раздосадовала эта помеха, немного подумала и, со свойственной ей быстротой, приняла решение.
— Садитесь рядом с кучером, — сказала она посыльному, — или дайте ему адрес.
Серокафтанник сел на козлы, а г-жа де Ламотт — в карету.
Через десять минут графиня приехала в предместье Сент-Антуан, в один из тех недавно благоустроенных уголков, где высокие деревья, такие же старые, как и само предместье, закрывали красивый домик, выстроенный при Людовике XV в стиле шестнадцатого века. Однако внутри дом отличался несравненным комфортом века восемнадцатого.
— О! Домик для свиданий! — пробормотала графиня. — Вполне естественно для такого знатного вельможи принимать меня здесь, но это унизительно для меня, урожденной Валуа. Однако что делать…
В этих словах, выражавших не то раздражение, не то покорность судьбе, сосредоточилось все ее неутомимое честолюбие, все безумные желания, таившиеся в ее душе.
Но едва только она переступила порог особняка, как уже приняла определенное решение.
Ее вели из комнаты в комнату, и каждой из них она удивлялась все больше, пока не дошла до маленькой столовой, обставленной с необыкновенным вкусом.
Там сидел кардинал, ожидавший ее в одиночестве.
Его высокопреосвященство перелистывал какие-то брошюры, очень похожие на собрание памфлетов, которые тысячами обрушивались в то время на Францию, как дождь, стоило только ветру подуть из Англии или Голландии.
Увидев графиню, он встал.
— А, вот и вы! Благодарю, госпожа графиня, — обратился он к ней и подошел, чтобы поцеловать ей руку.
Но графиня отступила на шаг с презрительным и оскорбленным видом.
— Что такое? Что с вами, сударыня? — спросил кардинал.
— Вы не привыкли, не правда ли, монсеньер, к такому обращению со стороны женщин, которых ваше высокопреосвященство удостаивает чести быть приглашенными сюда?
— О, госпожа графиня…
— Мы в вашем домике для свиданий, не правда ли, монсеньер? — продолжала графиня, бросая вокруг себя презрительный взгляд.
— Но, сударыня…
— Я надеялась, монсеньер, что ваше высокопреосвященство соблаговолит вспомнить о моем происхождении. Я надеялась, ваше высокопреосвященство соблаговолит вспомнить и другое: хотя Бог осудил меня на бедность, он, по крайней мере, оставил мне гордость, приличествующую мне по моему происхождению.
— Ну-ну, графиня, я вас считал умной женщиной, — сказал кардинал.
— Вы, монсеньер, называете, по-видимому, умной любую женщину, равнодушную ко всему, которая смеется над всем и даже над позором… Но таких женщин, — извините меня, ваше высокопреосвященство, — я привыкла называть иначе.
— Нет, графиня, вы ошибаетесь; я называю умной любую женщину, которая умеет слушать, что ей говорят, и не высказывается раньше, чем выслушает своего собеседника.
— Я слушаю вас.
— Я желал бы поговорить с вами о серьезном деле.
— И вы для этого заставили меня прийти в столовую?
— Да… Или вы, может быть, предпочли бы, чтобы я вас принял в будуаре, графиня?
— В этом есть, действительно, некоторая разница.
— Я того же мнения, графиня.
— Итак, речь идет только об ужине с вами, монсеньер?
— Ни о чем больше.
— Тогда, ваше высокопреосвященство, будьте уверены, что я очень чувствительна к такой чести, как это мне и подобает.
— Вы смеетесь надо мной, графиня?
— Нет, я просто смеюсь.
— Смеетесь?
— Да. Вы предпочли бы, может быть, чтобы я сердилась? На вас, однако, трудно угодить, монсеньер.
— Нет, вы очаровательны, когда смеетесь, и я ничего так не желал бы, как видеть вас всегда смеющейся. Но вы не смеетесь в данную минуту. О нет, нет… Эти полуоткрытые губки, за которыми виднеются прелестные белые зубы, говорят скорее о гневе.
— Нисколько, монсеньер… Меня совершенно успокоила эта столовая.
— Очень рад.
— И я надеюсь, что вы здесь хорошо поужинаете.
— Я хорошо поужинаю? А вы?
— Я не голодна.
— Как, сударыня, вы отказываетесь угостить меня ужином?
— Я не понимаю вас.
— Вы меня прогоняете?
— Я не понимаю вас, монсеньер.
— Выслушайте меня, дорогая графиня.
— Слушаю.
— Если бы вы не были так разгневаны, то я сказал бы вам, что, как бы вы ни старались, вы не сделаетесь от этого менее очаровательной… но так как всякий комплимент подвергает меня риску быть изгнанным, то я молчу.
— Риску быть изгнанным? Право, монсеньер, прошу вас извинить меня, ваши слова становятся все более непонятными.
— А между тем все, что здесь происходит, совершенно ясно.
— Извините, монсеньер, но у меня голова идет кругом.
— Хорошо. Прошлый раз вы принимали меня у себя, по-видимому, в несколько тесном помещении; вы находили, что оно не вполне подходяще для особы с вашим именем и рангом. Это заставило меня сократить свой визит и, кроме того, вызвало ко мне некоторую холодность с вашей стороны… Тогда я подумал, что вернуть вас в вашу среду, в подобающие вам условия жизни — то же, что дать подышать птичке, которую ученый держит под колпаком, где нет воздуха.
— И что же? — с беспокойством спросила графиня, которая начинала понимать, в чем дело.
— Тогда, прелестная графиня, для того чтобы вы могли без стеснения принимать меня и чтобы я, с своей стороны, мог приезжать к вам без неприятной огласки для себя или для вас…
Кардинал при этом пристально посмотрел на графиню.
— И тогда? — спросила она.
— И тогда я подумал, что вы согласитесь принять от меня этот небольшой домик. Вы понимаете, графиня, что речь идет не о домике для свиданий.
— Принять? Вы дарите мне этот дом, монсеньер? — воскликнула графиня, сердце которой сильно забилось от гордости и алчности.
— Это пустяк, графиня, совершенный пустяк; но если бы я подарил вам что-нибудь более значительное, вы не приняли бы.
— О, я ничего не могу принять, монсеньер, — сказала графиня.
— О, что вы говорите, сударыня?
— Я говорю, что мне невозможно принять такой подарок.
— Невозможно? Но почему?
— Потому что невозможно, вот и все.
— Не произносите это слово, говоря со мной, графиня.
— Почему?
— Потому что, находясь около вас, я не хочу ему верить.
— Монсеньер!..
— Графиня, этот дом принадлежит вам: ключи лежат здесь на золоченом блюде. Я поступаю с вами как с победительницей. Или вы и в этом видите оскорбление?
— Нет, но…
— Ну, согласитесь.
— Монсеньер, я уже сказала вам.
— Как, сударыня! Вы пишете министрам, прося их выхлопотать вам пенсию; вы принимаете сто луидоров от двух незнакомых дам, вы!
— О монсеньер, это совершенно другое дело. Тот, кто принимает…
— Тот, кто принимает дар, сам оказывает услугу дающему, графиня, — с достоинством ответил принц. — Видите, я ждал вас в вашей столовой и даже не видел еще ни будуара, ни гостиных, ни других комнат… Но я предполагаю, что все это имеется в доме.
— О монсеньер, простите; вы вынуждаете меня признать, что на свете нет более деликатного человека, чем вы.
И графиня, долго сдерживавшая свои истинные чувства, покраснела от радости при мысли, что может назвать этот дом своим.
Потом, заметив, что она слишком увлеклась, графиня в ответ на движение принца сделала шаг назад и сказала:
— Монсеньер, прошу ваше высокопреосвященство угостить меня ужином.
Кардинал снял плащ, в котором сидел до этой минуты, пододвинул графине стул и, оставшись в светском платье, которое удивительно шло ему, стал угощать свою гостью.
Ужин был подан в одну минуту.
Когда лакеи были уже у двери столовой, Жанна снова надела на лицо маску.
— Надеть маску должен был бы скорее я, — сказал кардинал, — так как вы у себя дома, среди вашей прислуги. Это я здесь в гостях.
Жанна рассмеялась, но все же не сняла маску и, несмотря на переполнявшую ее сердце радость и изумление, воздала должное ужину.
Кардинал, как мы уже не раз упоминали, был человеком благородным и по-настоящему умным.
Долгое и привычное пребывание при самых просвещенных европейских дворах, управляемых королевами, привычка вращаться среди женщин, которые в то время усложняли, но часто и разрешали все политические вопросы, а также опытность дипломата, бывшая у него, так сказать, в крови и приумноженная личной практикой, — все эти свойства, столь редкие теперь и уже редкие тогда, — приучили принца скрывать чувства и мысли как от дипломатов, своих противников, так и от женщин, своих любовниц.
Его всегда изысканная любезность и светские манеры служили ему броней, под которой он скрывал свои истинные чувства.
Кардинал считал, что превосходит Жанну во всех отношениях. В этой полной претензий провинциалке, которая под напускной гордостью не смогла скрыть от него своей алчности, он видел для себя добычу легкую, но привлекательную благодаря красоте, уму и чему-то вызывающему, что очаровывает людей пресыщенных гораздо больше, чем неопытных. Может быть, на этот раз кардинал, более непроницаемый, нежели проницательный, и ошибался; но дело было в том, что красавица Жанна не внушала ему ни малейшего недоверия.
В этом и была причина гибели этого выдающегося человека.
Он стал не только менее сильным, чем был; он обратил себя в пигмея. Но между Марией Терезией и Жанной де Ламотт разница была слишком велика, чтобы один из Роганов, и к тому же человек такого закала, как кардинал, стал бороться с Жанной.
Однако когда эти противники все же вступили в борьбу между собой, Жанна, казавшаяся более слабым бойцом по сравнению с кардиналом, постаралась не дать ему заметить, как она сильна в действительности. Она продолжала разыгрывать роль провинциальной кокетки, притворялась ничтожной и легкомысленной женщиной для того, чтобы сохранить у соперника уверенность в своих силах и, как следствие, ослабить его атаки.
Кардинал, внимательно следивший за всеми ее движениями, которые Жанна не могла сдержать, решил, что она совершенно опьянена подарком, который он ей сделал. Она и была действительно опьянена, так как этот дар превосходил не только ее надежды, но и все мечты.
Кардинал упустил из виду только одно: даже он сам стоял недостаточно высоко, чтобы удовлетворить претензии и честолюбие такой женщины, как Жанна.
У нее же, впрочем, радостное опьянение быстро рассеялось под влиянием новых желаний, сразу вступивших на место прежних.
— Ну, — сказал кардинал, наливая графине кипрского вина в маленький хрустальный бокал с золотыми звездочками, — так как вы подписали договор со мной, не дуйтесь на меня больше, графиня.
— Дуться на вас, о нет!
— Вы меня будете иногда принимать здесь без особенного отвращения?
— Я никогда не буду настолько неблагодарной, чтобы забыть, что вы здесь у себя, монсеньер.
— У себя! Что за вздор!
— Нет, у себя, всецело у себя.
— Если вы будете спорить со мной, берегитесь!
— А что случится тогда?
— Я предложу вам другие условия.
— Тогда берегитесь в свою очередь.
— Чего?
— Всего.
— Так скажите.
— Я здесь у себя.
— И…
— И если я найду эти условия неразумными, то призову своих слуг.
Кардинал рассмеялся.
— Ну вот, видите? — сказала графиня.
— Ничего не вижу, — отвечал кардинал.
— Вы видите, что вы смеялись надо мной?
— Почему?
— Однако вы смеетесь!
— Но это мне сейчас кажется вполне уместным.
— Да, вполне уместным, так как вы прекрасно знаете, что если я позову слуг, то они не явятся, — сказала графиня.
— Нет, явятся, черт подери!
— Фи, монсеньер!
— Что я такое сделал?
— Вы помянули черта, монсеньер.
— Но здесь я не кардинал, графиня; я здесь у вас, так сказать, в роли ухаживателя.
И он снова рассмеялся.
"Право, — сказала себе графиня, — это несомненно превосходный человек".
— Кстати, — сказал кардинал, как будто бы у него только что неожиданно мелькнула другая мысль, — что вы рассказывали мне прошлый раз о двух дамах-благотворительницах, о двух немках?
— О дамах, у которых был тот портрет? — переспросила Жанна, которая после того, как увидела королеву, была готова отразить неожиданное нападение.
— Да, именно о дамах с портретом.
— Монсеньер, — сказала г-жа де Ламотт, устремив взор на кардинала, — вы знаете их так же хорошо, как и я, держу пари, что даже лучше.
— Я? О графиня, вы обижаете меня! Разве вы не выразили желания узнать, кто они?
— Конечно. Ведь, мне кажется, вполне естественно желать узнать имя своих благодетельниц.
— Ну, если бы я знал, кто они, вы бы также знали это.
— Господин кардинал, я вам говорю, что вы знаете этих дам.
— Нет.
— Повторите свое "нет" еще раз, и я назову вас лжецом.
— О! А я отомщу вам за оскорбление.
— Каким это образом?
— Поцеловав вас.
— Господин посланник при венском дворе! Большой друг императрицы Марии Терезии! Мне кажется, что вы, хотя сходство невелико, должны были узнать портрет вашей приятельницы.
— Так это действительно был портрет Марии Терезии, графиня?
— Продолжайте притворяться, что не знали этого, господин дипломат!
— Ну хорошо… Если бы я, положим, и узнал императрицу Марию Терезию, то что же бы это доказывало?
— То, что, узнав портрет Марии Терезии, вы должны были догадаться, кто те женщины, которым принадлежал портрет.
— Но как я могу догадаться об этом? — спросил с некоторым беспокойством кардинал.
— Да просто потому, что портрет матери — а это портрет матери, а не императрицы, заметьте, — довольно необычно увидеть в иных руках, кроме как…
— Договаривайте.
— … кроме как в руках дочери.
— Королева! — воскликнул Луи де Роган с такой искренней интонацией, что обманул Жанну. — Королева! Ее величество была у вас!
— Как, сударь, вы не догадались, что это была она?
— Боже мой, нет, — отвечал кардинал совершенно естественным тоном, — нет. В Венгрии портреты коронованных особ обыкновенно передаются из семьи в семью. Так, например, я, присутствующий здесь, не сын, не дочь и даже не родственник Марии Терезии, а между тем у меня есть ее портрет.
— Он при вас, монсеньер?
— Смотрите, — холодно отвечал кардинал.
И, вынув из кармана табакерку, он показал ее озадаченной Жанне.
— Итак, вы видите, — прибавил он, — что если этот портрет может быть у меня, не имеющего чести принадлежать к императорской семье, то его мог забыть у вас и кто-нибудь другой, не принадлежащий к австрийскому августейшему дому.
Жанна замолчала. Она имела все задатки дипломата, но ей не хватало практики.
— Итак, по вашему мнению, — продолжал принц Луи, — у вас была королева Мария Антуанетта?
— Да, королева с другой дамой.
— С госпожой де Полиньяк?
— Не знаю.
— С госпожой де Ламбаль?
— С красивой и очень серьезной молодой женщиной.
— Может быть, с мадемуазель де Таверне?
— Возможно; я ее не знаю.
— Но если ее величество посетила вас, то вы, значит, можете быть уверены в покровительстве королевы. Это для вас большой шаг к удаче.
— Я тоже так думаю, монсеньер.
— Ее величество, простите мой вопрос, была щедра к вам?
— Она мне дала, кажется, сто луидоров.
— О! Но ее величество не богата, особенно сейчас.
— Это лишь удваивает мою благодарность.
— И что же, она проявила к вам особый интерес?
— Да, и довольно живой!
— В таком случае все обстоит благополучно, — сказал прелат, забывая на время о покровительствуемой и задумавшись о покровительнице. — Вам, значит, остается добиться еще только одного.
— Чего именно?
— Проникнуть в Версаль.
Графиня улыбнулась.
— Не будем обманывать себя, графиня: в этом-то и заключается главная трудность.
Графиня снова улыбнулась, еще более многозначительно, чем в первый раз.
Кардинал также улыбнулся.
— Действительно, вам, провинциалкам, — начал он, — все кажется просто. Увидав Версаль с его открытыми воротами и с лестницами, по которым поднимаются люди, вы воображаете себе, что всякий, кто хочет, может отворить решетки этих ворот и подняться по этим лестницам. Видели ли вы, графиня, те чудовища из бронзы, мрамора или свинца, которые украшают парк и террасы Версаля?
— Да, монсеньер.
— Гиппогрифов, химер, горгон, вампиров и других зловредных созданий… Их там сотни. Теперь поймите же, что между государями и благодеяниями, исходящими от них, стоит в десять раз больше живых и злобных тварей, чем этих изваянных чудовищ, которые оберегают цветы сада от тех, кто хочет в него войти.
— Ваше высокопреосвященство, вероятно, не откажет мне в помощи, чтобы пройти сквозь ряды этих чудовищ, если они преградят мне дорогу.
— Я попробую, но мне это будет очень трудно. И прежде всего, если вы произнесете мое имя, если предъявите свой талисман, то после двух визитов он окажется для вас бесполезным.
— К счастью, — ответила графиня, — в этом отношении меня охраняет непосредственное покровительство королевы, и если я проникну в Версаль, то войду в него вооруженная хорошим ключом.
— Каким ключом, графиня?
— Господин кардинал, это мой секрет. Нет, я ошибаюсь: если бы это был мой секрет, я вам открыла бы его, так как не хочу ничего скрывать от моего милого покровителя.
— Вы говорите "если бы", графиня?
— Увы, да, монсеньер; это не мой секрет, и я его должна сохранить. Довольствуйтесь тем, что я скажу вам…
— Что именно?
— Что я завтра буду в Версале, меня там примут, и, могу надеяться, примут хорошо, монсеньер.
Кардинал взглянул на молодую женщину, уверенность и возбуждение которой казались ему прямым следствием ужина.
— Посмотрим, графиня, — смеясь, сказал он, — войдете ли вы туда.
— Ваше любопытство будет настолько велико, что вы прикажете следить за мной?
— Непременно.
— Я ничего не имею против.
— Итак, графиня, берегитесь… Теперь войти в Версаль для вас вопрос чести.
— В малые апартаменты — да, монсеньер.
— Уверяю вас, графиня, что вы для меня живая загадка.
— Одно из тех маленьких чудовищ, которых так много в версальском парке?
— Надеюсь, вы меня считаете человеком со вкусом, не так ли?
— Ну, конечно, монсеньер.
— Так посмотрите, я у ваших ног и целую вашу руку. А разве можно предположить, чтобы я прикоснулся своими губами к лапе с когтями и взял в руку чешуйчатый хвост рыбы?
— Прошу вас вспомнить, монсеньер, — сказала холодно Жанна, — что я не гризетка и не девица из Оперы. Это значит, что я принадлежу только себе, когда не принадлежу своему мужу, и, чувствуя себя равной любому мужчине в королевстве, я сама свободно выберу себе, когда пожелаю, того, кто сумеет мне понравиться. Итак, монсеньер, относитесь же ко мне с большим уважением: вы этим покажете, что уважаете и в себе и во мне благородство нашего происхождения.
Кардинал встал.
— Ну, — сказал он, — вы, значит, хотите, чтобы я полюбил вас серьезно?
— Я не говорю этого, господин кардинал. Но я хочу сама полюбить вас. И поверьте мне, когда это случится, если только это случится, вы без труда заметите, что я люблю вас. Я даже сама сообщу вам об этом, если вы ничего не заметите, так как я чувствую себя еще достаточно молодой и красивой, чтобы не бояться самой сделать первый шаг. Порядочный человек не оттолкнет меня.
— Графиня, — сказал кардинал, — уверяю вас, что если только это будет зависеть от меня, то вы полюбите меня.
— Увидим.
— Вы ведь уже чувствуете ко мне дружбу, не правда ли?
— Больше чем дружбу.
— Право? В таком случае мы уже на полдороге.
— Не будем мерить, сколько туазов пройдено, будем просто идти.
— Графиня, вы женщина, которую я боготворил бы…
И он вздохнул.
— Боготворили бы? — переспросила г-жа де Ламотт в изумлении. — Если бы…
— Если бы вы это позволили, — поспешил договорить кардинал.
— Я, может быть, и позволю вам это, монсеньер. Но только тогда, когда фортуна будет улыбаться мне уже достаточно долго, чтобы я избавила вас от необходимости столь поспешно преклонять передо мной колени и раньше времени целовать мне руку.
— То есть…
— Да, когда я не буду больше зависеть от ваших благодеяний, вы не станете подозревать, что я жду от ваших визитов каких-то выгод. Тогда ваши чувства ко мне станут более возвышенными. Я от этого только выгадаю, монсеньер. Да и вы ничего не потеряете.
Она снова встала, так как нарочно перед тем уселась, чтобы прочитать мораль с большей торжественностью.
— Этим, — ответил кардинал, — вы ставите меня в невыносимое положение.
— Как так?
— Вы запрещаете мне ухаживать за вами!
— Меньше всего на свете. Разве ухаживать за женщиной — значит непременно становиться перед нею на колени и целовать ей руки?
— Тогда прямо к делу, графиня. Каким же образом вы позволите мне ухаживать за вами?
— Так, чтобы это не противоречило моим вкусам и обязанностям.
— О, вы избрали две самые неопределенные области на свете.
— Вы напрасно прервали меня, монсеньер, так как я собирались добавить к сказанному еще и третью.
— Что же именно, великий Боже?
— И так, как подскажут мне мои прихоти.
— Я погиб.
— Вы отступаете?
Кардинал находился в эту минуту более во власти чар задорной соблазнительницы, нежели под влиянием своих тайных мыслей.
— Нет, — сказал он, — я не отступлю.
— Ни перед моими обязанностями?
— Ни перед вашими вкусами и прихотями.
— А доказательства?
— Говорите, чего вы желаете?
— Я хочу поехать сегодня вечером на бал в Оперу.
— Это ваше дело, графиня… Вы свободны как ветер, и я не вижу, что бы вам могло помешать отправиться на этот бал.
— Минуту. Вы узнали только половину моего желания… Другая половина заключается в том, чтобы и вы поехали со мною.
— Я! В Оперу! О, графиня!
И кардинал сделал быстрое движение, которое было бы совершенно естественно для обыкновенного смертного, но для Рогана, да еще в сане кардинала, должно было выражать крайнее удивление.
— Вот как вы стараетесь угодить мне? — спросила г-жа де Ламотт.
— Кардиналы не ездят на балы в Оперу, графиня; это так же невозможно для меня, как для вас пойти… в курительную.
— Кардиналы также и не танцуют, не правда ли?
— О нет!
— Ну, а как же я читала, что кардинал Ришелье танцевал сарабанду?
— Перед Анной Австрийской — да… — вырвалось у принца.
— Перед королевой, это правда, — повторила Жанна, глядя на него пристально. — Ну и вы, может быть, сделали бы это для королевы…
Принц, при всей своей ловкости и самообладании, не мог скрыть выступившей у него при этих словах краски на лице.
Сжалилась ли лукавая женщина над его смущением или сочла более удобным для себя не оставлять его долго в замешательстве, но она поспешила добавить:
— Как же мне, которой вы расточаете свои уверения, не быть оскорбленной, видя, что вы ставите меня ниже королевы, когда у вас просят только одного: поехать со мною скрытым от всех взоров под домино и маской. Оказав мне эту любезность, за которую я так буду вам признательна, вы помогли бы мне сделать громадный, измеряемый уже не вашими пресловутыми туазами шаг на том пути, о котором мы говорили.
Кардинал, довольный тем, что так дешево отделался, а в особенности обрадованный постоянными победами, которых хитрая Жанна позволяла ему как будто добиваться после каждой его ошибки, бросился к графине и пожал ей руку.
— Для вас, — сказал он, — я готов на все, даже на невозможное.
— Благодарю вас, монсеньер… Человек, который идет ради меня на такую жертву, — мой драгоценный друг. Я вас освобождаю от этой неприятной обязанности теперь, когда вы согласились на нее.
— Нет, нет, только тот может требовать себе вознаграждения, кто сделал свое дело. Графиня, я еду с вами, но в домино.
— Мы поедем по улице Сен-Дени, около Оперы; я в маске войду в магазин и куплю вам костюм, вы переоденетесь в карете.
— Графиня, а знаете, это будет очаровательный вечер!
— О монсеньер, ваша доброта ко мне так безгранична, что приводит меня в полное смущение. Но мне пришло в голову: может быть, в вашем доме, в особняке Роган, ваше сиятельство найдет домино, которое будет более в вашем вкусе, чем то, которое мы собираемся купить?
— Вот непростительное коварство, графиня! Если я еду на бал в Оперу, то верьте одному…
— Чему?
— Что я буду так же удивлен, увидев себя там, как и вы, когда ужинали вдвоем с другим мужчиной, а не с вашим мужем.
Жанна поняла, что на это нечего возразить, и только поблагодарила его.
К дверям домика подъехала карета без гербов на дверцах, приняла двух беглецов и крупной рысью понеслась к бульварам.
XXII
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОПЕРЕ
Опера, этот парижский храм развлечений, сгорела в июне 1781 года.
Двадцать человек погибло под развалинами. И так как это несчастье случалось во второй раз за восемнадцать лет, то постоянное место ее расположения — Пале-Рояль — стало казаться роковым для веселящихся парижан, и королевским ордонансом театр был перемещен в другой квартал, подальше от центра.
Для людей, живших по соседству с ней, театральное здание — целый город, полный холста и некрашеного дерева, картона и красок, — всегда служило источником беспокойства. Целая и невредимая, Опера воспламеняла сердца финансистов и аристократов, в ее залах смешивались люди различных званий и имущественного положения. Но загоревшаяся Опера могла уничтожить целый квартал, даже целый город. Для этого было достаточно одного порыва ветра.
Выбранное для новой Оперы место находилось у ворот Сен-Мартен. Король, озабоченный тем, что его добрый город Париж так долго останется без этого театра, стал грустен, как это бывало всякий раз, когда в город не подвозили зерно или когда цена на хлеб превышала семь су за четыре фунта.
Нужно было видеть, как были выбиты из колеи все старые аристократы, все молодые судейские, все офицеры и все финансисты, не знавшие теперь, на что употребить время после обеда; нужно было видеть, как блуждают по бульварам бесприютные божества — от танцора кордебалета до примадонны.
Чтобы утешить короля, а отчасти и королеву, их величествам представили архитектора г-на Ленуара, который обещал невиданные чудеса.
Этот милейший человек был полон новых планов; он предложил столь совершенную систему вентилируемых коридоров, что в случае пожара никому не грозила опасность задохнуться там от дыма. Он спроектировал восемь больших дверей, не считая пяти больших окон в первом этаже, которые находились так близко от земли, что даже самые трусливые могли выпрыгнуть из них прямо на бульвар, не боясь сломать себе шею.
Взамен дивного зала Моро и живописи Дюрамо г-н Ленуар предлагал здание с фасадом в девяносто шесть футов, выходившим на бульвар. Фасад этот должны были украшать восемь кариатид, опирающихся на столбы; три входные двери; между ними — восемь колонн, покоящихся на цоколе; а вдобавок — барельеф над капителями и балкон с тремя окнами, украшенными архивольтами.
Сцена должна была иметь тридцать шесть футов в ширину, зрительный зал — семьдесят два фута в длину и восемьдесят четыре фута в ширину от одной стены до другой.
Фойе должны были быть украшены зеркалами и отделаны с благородной простотой.
Во всю ширину зала, под оркестром, г-н Ленуар предусмотрел пространство в двенадцать футов для огромного резервуара и двух комплектов насосов, к которым должно было быть приставлено двадцать солдат французской гвардии.
Наконец, в довершение всего, для того чтобы выстроить зрительный зал, архитектор просил семьдесят пять дней и семьдесят пять ночей, и ни одного часа больше или меньше.
Последний пункт показался хвастовством, и над этим первое время очень смеялись. Но король произвел с г-ном Ленуаром расчеты и согласился на все его условия.
Архитектор принялся за работу и сдержал слово. Зал был окончен к назначенному сроку.
Но тогда публика, которая никогда ничем не бывает довольна, рассудила, что зал весь деревянный, а иначе и нельзя было выстроить его так быстро, и что, следовательно, пребывание в новом здании небезопасно. В этот театр, окончания которого все ждали с таким страстным нетерпением, что при постройке его следили чуть ли не за кладкой каждого бревна, — в здание, которое росло на глазах парижан, причем каждый заранее намечал себе в нем место, теперь, когда оно было окончено, никто не захотел войти. Самые отчаянные смельчаки и безумцы взяли билеты на первое представление оперы Пиччинни "Адель из Понтьё", но при этом написали и свои завещания.
Видя это, архитектор в отчаянии обратился к королю, который подал ему блестящий совет.
— Трусливые люди во Франции, — сказал его величество, — это те, кто платят. Они скорее готовы дать вам десять тысяч ливров ренты и задыхаться в переполненном зале, но не хотят рисковать задохнуться под обрушившимся потолком. Оставьте же их в покое и пригласите публику храбрую, но которой нечем платить. Королева подарила мне дофина: город ликует от восторга. Объявите, что для ознаменования радостного события — рождения моего сына — Опера откроет свои двери бесплатным представлением, и если две с половиной тысячи жителей, которые весят около трехсот тысяч фунтов, окажутся в ваших глазах недостаточным мерилом для испытания прочности постройки, то попросите всех этих молодцов немножко поплясать. Вы ведь знаете, господин Лоран, что вес увеличивается в пять раз при падении предмета с высоты четырех дюймов. Ваши две с половиной тысячи храбрецов представят собой нагрузку в полтора миллиона фунтов, если вы заставите их танцевать. Устройте им после спектакля бал.
— Ваше величество, благодарю вас, — сказал архитектор.
— Но сначала хорошенько подумайте: ведь вашему зданию это будет тяжеловато.
— Ваше величество, я ручаюсь за свою постройку и сам пойду на этот бал.
— А я, — ответил король, — обещаю вам приехать на второе представление.
Архитектор последовал совету. "Адель из Понтьё" была исполнена перед тремя тысячами простолюдинов, которые хлопали с еще большим воодушевлением, чем королевские особы.
Эти же люди охотно согласились потанцевать после спектакля и повеселились вволю. И вес их при этом увеличился в десять, а не в пять раз.
В зале ничто даже не шелохнулось.
Если и можно было опасаться несчастья, то на следующих представлениях, потому что трусливая знать стала переполнять этот зал до отказа. Туда — три года спустя после открытия Оперы — отправились на бал г-н кардинал де Роган и г-жа де Ламотт.
Вот те краткие предварительные объяснения, которые мы должны дать читателю. Теперь вернемся к героям нашего рассказа.
XXIII
БАЛ В ОПЕРЕ
Бал был в полном разгаре, когда кардинал Луи де Роган и г-жа де Ламотт прокрались незаметно в зал; по крайней мере, прелат старался проскользнуть как можно незаметнее в тысячную толпу домино и всевозможных масок.
Скоро толпа их окружила со всех сторон, и они потонули в ней, как на глазах гуляющих у берега реки исчезают в сильном водовороте маленькие волны, подхваченные и унесенные ее течением.
Два домино, насколько это было возможно в такой толкотне, старались, держась бок о бок, общими усилиями противостоять напору толпы, но, увидев, что это им не удается, решили отойти под ложу королевы, где толпа была не так густа и где стена могла служить опорой.
То были черное и белое домино: одно высокое, другое среднего роста; одно скрывало мужчину, другое — женщину. Он сильно размахивал руками, а она поворачивала голову то вправо, то влево.
Эти маски, по-видимому, были поглощены очень оживленным разговором. Прислушаемся к нему.
— Я вам говорю, Олива, что вы ждете кого-то, — повторял мужчина. — Ваша голова вертится, как флюгер, во все стороны, но не по воле ветра, а вслед за каждым встречным.
— Ну и что из этого?
— Как что из этого?
— Да, что же удивительного в том, что моя голова вертится? Разве я здесь не для того, чтобы смотреть?
— Но вы не только вертите своей головой, вы кружите ее и другим.
— А для чего же ездят в Оперу, сударь?
— По тысяче причин.
— Да, но это мужчины. А женщины приходят сюда только с одной целью.
— С какой?
— С той, о которой вы только что говорили: вскружить как можно больше голов. Вы меня повезли на бал в Оперу, и вам остается только покориться.
— Мадемуазель Олива!
— О, не повышайте голоса. Вы знаете, что я этого не боюсь; а главное, оставьте привычку называть меня по имени. Ничего не может быть неприличнее, как называть людей по имени на балу в Опере.
Черное домино сделало гневный жест, но его остановило внезапно появившееся голубое домино, довольно дородное, высокое и представительное на вид.
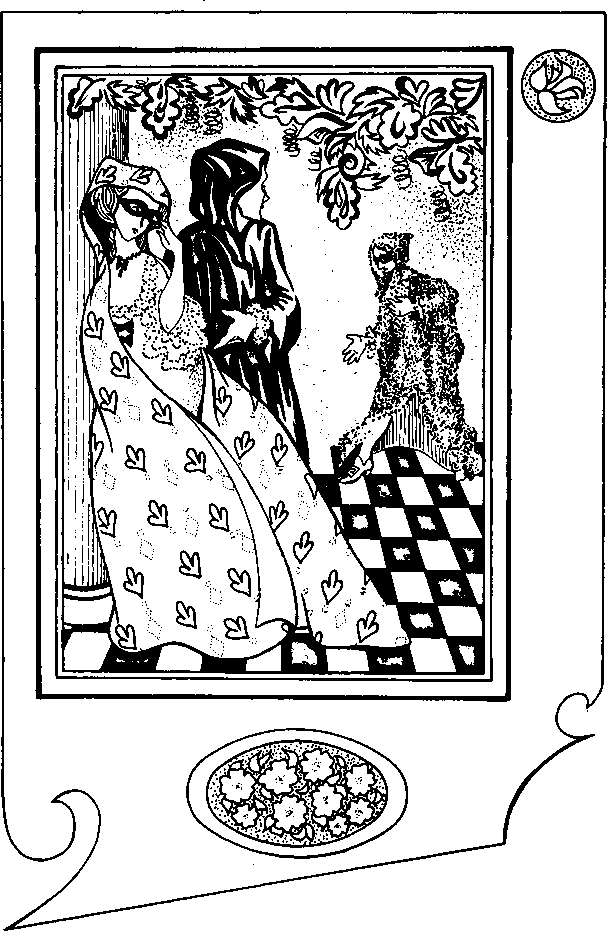
— Ла-ла, сударь, — сказало оно, — предоставьте же своей даме веселиться, как она того хочет. Какого черта! Середина Поста бывает не каждый день, и не каждый раз в середине Поста удается попасть на бал в Опере!
— Не вмешивайтесь не в свое дело, — грубо ответило черное домино.
— Сударь, — продолжало голубое домино, — запомните раз навсегда, что немножко вежливости никогда не портит дела.
— Я вас не знаю, — отвечало черное домино, — на кой же мне черт церемониться с вами?
— Вы меня не знаете, может быть, но…
— Но что?
— Но я знаю вас, господин де Босир.
Услышав свое имя, черное домино, так свободно произносившее имена других, сильно вздрогнуло, что было видно по заколыхавшимся складкам его шелкового капюшона.
— О, не бойтесь, господин де Босир, — продолжала маска, — я не тот, за кого вы меня принимаете.
— А за кого я вас принимаю, черт побери? Разве вы не довольствуетесь тем, что угадываете имена, и хотите еще угадывать и мысли?
— А почему бы и нет?
— Так угадайте-ка, о чем я думаю. Я никогда не видел волшебника, и мне, право, доставит удовольствие познакомиться хотя бы с одним.
— О нет! То, что вы от меня требуете, слишком просто, чтобы оправдать титул, который вы мне так легко даровали.
— Но скажите все же.
— Нет, придумайте что-нибудь еще.
— Мне довольно и этого. Угадывайте!
— Вы этого хотите?
— Да.
— Ну, хорошо! Вы приняли меня за агента господина де Крона.
— Господина де Крона?
— Черт возьми, вам ведь это имя хорошо известно. Да, господина де Крона, начальника полиции.
— Сударь…
— Потише, дорогой господин Босир; право, можно подумать, что вы хотите схватиться за шпагу.
— Конечно, я и ищу ее.
— Дьявольщина! Какая у вас воинственная натура!
Успокойтесь, дорогой господин Босир, вы оставили ее дома, и хорошо сделали. Поговорим же о чем-нибудь другом. Позвольте мне предложить руку госпоже?
— Руку госпоже?
— Да, вашей даме. Ведь это, кажется, принято на балах в Опере или вы думаете, что я только что приехал из Ост-Индии?
— Конечно, это принято, но когда на это согласен кавалер дамы.
— Иногда, дорогой господин Босир, достаточно и согласия одной дамы.
— И надолго вы просите у меня ее руки?
— О, дорогой господин Босир, вы слишком любопытны: может быть, на десять минут, может быть, на час, а может быть, и на всю ночь.
— Полноте, сударь, вы, смеетесь надо мной.
— Отвечайте: да или нет, дорогой господин? Уступаете ли вы мне руку вашей дамы?
— Нет.
— Ну-ну, не прикидывайтесь таким злым.
— Это почему?
— Потому что вы и так в маске; бесполезно надевать на себя еще и другую.
— Послушайте, сударь…
— Ну вот, вы опять сердитесь, а между тем вы были так кротки еще недавно.
— Где это?
— На улице Дофины.
— На улице Дофины! — воскликнул Босир в недоумении.
Олива громко расхохоталась.
— Замолчите, сударыня! — сказал ей сквозь зубы человек в черном домино.
— Я ничего не понимаю из того, что вы говорите, — продолжал Босир, обращаясь к голубому домино. — Если вам угодно совать нос в мои дела, делайте это честно, сударь!
— Но, дорогой господин Босир, мне кажется, ничего не может быть честнее правды? Не так ли, мадемуазель Олива?
— Как, — воскликнула она, — вы и меня знаете?
— Разве этот господин не назвал недавно ваше имя во всеуслышание?
— А правда, — сказал Босир, возвращаясь к разговору, — заключается в том…
— В том, что в ту минуту, как вы собирались убить эту бедную даму — а час тому назад вы собирались это сделать, — вас остановил звон двух десятков луидоров…
— Довольно, сударь.
— Хорошо; но уступите мне руку вашей дамы, если с вас довольно.
— О, я прекрасно вижу, — пробормотал Босир, — что эта дама и вы…
— Что эта дама и я?
— Вы сговорились.
— Клянусь вам, что нет.
— Можно ли сказать такое? — воскликнула Олива.
— И к тому же… — начало голубое домино.
— Что к тому же?
— Если бы мы и сговорились, то только для вашей же пользы.
— Когда что-нибудь утверждают, это надо доказать, — дерзко заявил Босир.
— Охотно.
— Я очень желал бы знать…
— Я вам докажу, — продолжало голубое домино, — что ваше присутствие здесь настолько же вредно для вас, настолько ваше отсутствие было бы для вас выгодно.
— Для меня?
— Да, для вас.
— Каким же образом, скажите на милость?
— Вы ведь состоите в некоей академии, не так ли?
— Я?!
— Не сердитесь, дорогой господин де Босир, я говорю не о Французской академии.
— Академия, академия… — проворчал кавалер мадемуазель Олива.
— Да, улица Железной Кружки, подвал. Не так ли, дорогой господин Босир?
— Тише!
— Ба!
— Тише, тише! Какой вы неприятный человек, сударь!
— Не нужно так говорить!
— Почему?
— Черт возьми! Да потому, что вы сами не верите тому, что говорите. Но вернемся к этой академии.
— Ну?
Незнакомец в голубом домино вынул из кармана великолепные часы, осыпанные бриллиантами, на которые тотчас же устремились пылавшие, как два угля, глаза Босира.
— Ну? — повторил он.
— Через четверть часа в вашей академии на улице Железной Кружки, дорогой господин де Босир, будут обсуждать маленький проект, который может принести два миллиона франков двенадцати действительным членам. А вы один из них, не правда ли, господин де Босир?
— И вы тоже, если только…
— Договаривайте.
— Если только вы не сыщик.
— Право, господин де Босир, я вас считал умным человеком, но с грустью вижу, что вы глупец. Если бы я служил в полиции, то уже двадцать раз мог бы вас задержать за дела менее почтенные, чем та двухмиллионная спекуляция, о которой будут говорить в академии через несколько минут.
Босир на минуту задумался.
— Черт меня возьми, если вы не правы! — сказал он, но тотчас же спохватился:
— А, сударь, так вы посылаете меня на улицу Железной Кружки!
— Да, я вас посылаю на улицу Железной Кружки.
— И я знаю зачем.
— Скажите.
— Чтобы меня там арестовали… Но я не так прост.
— Вы опять говорите глупости.
— Сударь!
— Конечно. Ведь если бы я мог сделать то, что вы говорите, если бы я к тому же смог узнать, что за козни собираются строить в вашей академии, стал бы я просить у вас разрешения побеседовать с госпожой? Ни в коем случае. Я бы немедленно приказал вас арестовать, и мы с этой дамой избавились бы от вас. А я, наоборот, действую исключительно мягкостью и убеждением, дорогой господин де Босир: это мой девиз.
— Послушайте, — воскликнул вдруг Босир, оставляя руку Олива, — это вы сидели на софе этой дамы два часа тому назад? Ну, отвечайте!
— На какой софе? — спросило голубое домино, которое Олива слегка ущипнула за мизинец. — Что касается софы, мне известна только софа господина Кребийона-сына.
— Ну да мне это безразлично, — продолжал Босир, — ваши доводы хороши, вот все, что мне нужно. Я говорю — хороши, но можно было бы сказать — даже превосходны. Возьмите же руку моей дамы, и если вы хотите навлечь беду на честного человека, пусть будет вам стыдно!
Голубое домино громко рассмеялось, услышав эпитет "честного", которым так снисходительно наделил самого себя Босир.
— Спите спокойно, — сказал он ему, хлопнув его по плечу. — Посылая вас туда, я вам делаю подарок, по крайней мере, в сто тысяч ливров, так как, не пойди вы сегодня в академию, вас, согласно обычаю ваших товарищей, исключили бы из дележа, тогда как, отправившись туда…
— Ну так и быть, попытаю счастья, — пробормотал Босир и, сделав пируэт, раскланялся и исчез.
Голубое домино завладело рукой мадемуазель Олива, оставшейся свободной после исчезновения Босира.
— Ну вот мы и вдвоем, — сказала Олива. — Я не мешала вам интриговать этого бедного Босира сколько душе угодно, но предупреждаю вас, что меня труднее будет сбить с толку, так как я вас знаю. Если вы хотите продолжать в том же роде и со мной, то придумайте что-нибудь поинтереснее, а не то…
— Я не знаю ничего более интересного, чем ваша история, милая мадемуазель Николь, — сказало голубое домино, прижимая к себе полную ручку своей дамы, тихо вскрикнувшей, когда она услышала это имя, сказанное ей собеседником на ухо.
Правда, она тотчас же пришла в себя, как особа, которую нельзя застать врасплох.
— О Боже мой, что это за имя? — спросила она. — Николь? Речь идет обо мне? Не хотите ли вы, случайно, называть меня этим именем? Так вы потерпите кораблекрушение, едва выйдя из порта, вы налетите на первую же скалу. Меня зовут не Николь.
— Теперь, я знаю, да, теперь вас зовут Олива. Имя Николь слишком отдавало провинцией. В вас — и это мне хорошо известно — две женщины: Олива и Николь. Мы в свое время поговорим об Олива, но сначала побеседуем о Николь. Разве вы забыли то время, когда отзывались на это имя? Не верю. Милое дитя мое, раз вы молоденькой девушкой носили это имя, оно навсегда останется с вами — если не явно, то, по крайней мере, в глубине вашей души, — каково бы ни было другое, которое вы вынуждены были принять, чтобы забыть о прежнем. Бедная Олива! Счастливая Николь!
В эту минуту целый поток масок нахлынул, как бурные волны, на наших собеседников, и Николь, или Олива, принуждена была против воли еще теснее прижаться к своему кавалеру.
— Взгляните, — сказал он ей, — на эту пеструю толпу, на парочки под капюшонами, прижимающиеся друг к другу, чтобы жадно ловить слова любезности или любви. Посмотрите на эти группы людей, которые сходятся и расходятся, одни со смехом, другие с упреками. У всех у них, может быть, столько же имен, сколько и у вас, и я многих удивил бы, назвав их по именам, которые они сами помнят, но думают, что они забыты другими.
— Вы сказали: "Бедная Олива"!
— Да.
— Вы, значит, не считаете меня счастливой?
— Трудно быть счастливой с таким мужчиной, как Босир.
Олива вздохнула.
— Я и несчастлива! — сказала она.
— Но вы все-таки любите его?
— В разумных пределах.
— Если вы его не любите, то бросьте его.
— Нет.
— Почему же?
— Потому что, как только я его брошу, сейчас же буду жалеть о нем.
— Будете жалеть?
— Боюсь, что да.
— А как же можно сожалеть о пьянице, игроке, о человеке, который вас бьет, о плуте, который достоин того, чтобы его когда-нибудь колесовали на Гревской площади?
— Вы, может быть, не поймете того, что я скажу вам.
— Ничего, скажите все-таки.
— Я буду сожалеть о том шуме, который он поднимает вокруг меня.
— Я должен был бы сам догадаться об этом. Вот что значит провести молодые годы с молчаливыми людьми.
— Вы знаете о моей юности?
— Прекрасно знаю.
— Неужели, милейший мой господин? — сказала Олива со смехом, недоверчиво покачав головой.
— Вы сомневаетесь?
— О, я не сомневаюсь, а убеждена, что вы ничего не знаете.
— Так поговорим о вашей молодости, мадемуазель Николь.
— Поговорим; но предупреждаю вас, что я не буду вам отвечать.
— О, в этом нет нужды.
— Ну, я слушаю.
— Хорошо. Я не буду говорить о вашем детстве, так как это время жизни не в счет, а прямо о юности с того момента, когда вы заметили, что Бог дал вам сердце, чтобы любить.
— Любить кого?
— Чтобы любить Жильбера.
При этих словах, при звуке этого имени по всему телу молодой женщины пробежала дрожь, и голубое домино почувствовало, как она трепещет.
— О, — сказала она, — откуда вы это знаете, великий Боже?
И она разом остановилась, с невыразимым волнением устремив через прорези маски свои глаза на голубое домино.
Но голубое домино хранило молчание.
Олива, или, вернее, Николь, вздохнула.
— Ах, сударь, — сказала она, не стараясь более сдерживаться, — вы произнесли имя, которое пробуждает во мне так много воспоминаний. Вы, значит, знаете этого Жильбера?
— Да, раз я говорю вам о нем.
— Увы!
— Это был прелестный юноша, клянусь честью! Вы любили его?
— Он был красив… нет… не то… но я его находила красивым. Он был очень умен и равен мне по рождению. Но нет, вот тут я очень ошибаюсь. Если Жильбер захотел бы, ни одна женщина не была бы равной ему.
— Даже…
— Даже кто?
— Даже мадемуазель де Та…
— О, я знаю, что вы хотите сказать, — прервала его Николь, — вы, я вижу, прекрасно осведомлены, сударь. Да, он любил девушку более высокого происхождения, чем бедная Николь.
— Вы видите, что я остановился.
— Да, да, вы знаете ужасные тайны, сударь, — сказала, вздрогнув, Олива, — а теперь…
И она взглянула на незнакомца, точно стараясь прочесть что-нибудь на его лице сквозь маску.
— Что с ним стало?
— Я думаю, вы сами могли бы это сказать скорее, чем кто-либо другой.
— Почему это, великий Боже?
— Потому что, если он последовал за вами из Таверне в Париж, то вы, в свою очередь, последовали за ним из Парижа в Трианон.
— Да, это правда, но прошло уже десять лет, и я говорю вам не о том времени. Я говорю о десяти годах, которые протекли с тех пор, как я убежала, а он исчез. Боже мой, за десять лет может столько случиться!
Голубое домино хранило молчание.
— Прошу вас, — настаивала Николь почти с мольбой в голосе, — скажите мне, что сталось с Жильбером? Вы молчите, вы отворачиваетесь. Может быть, эти воспоминания вас оскорбляют, печалят?
Голубое домино, однако, не отвернулось, а опустило голову, как будто бремя воспоминаний было слишком для него тяжелым.
— Когда Жильбер любил мадемуазель де Таверне… — начала Олива.
— Потише произносите имена, — сказало голубое домино. — Разве вы не заметили, что я их не произношу вовсе?
— Он был так влюблен, — продолжала со вздохом Олива, — что каждое дерево в Трианоне знало о его любви…
— Ну, а вы его больше не любили?
— Наоборот, любила сильнее, чем когда-либо; эта любовь и погубила меня. Я красива, горда и, когда захочу, умею быть дерзкой. Я скорее готова положить голову на плаху, чем допустить, чтобы про меня сказали, будто я покорно склоняю ее.
— У вас мужественное сердце, Николь.
— Да было когда-то… в то время, — сказала со вздохом молодая женщина.
— Этот разговор вас огорчает?
— Нет, наоборот, мне приятно мысленно вернуться в свою молодость. Жизнь наша напоминает реку: самая мутная начинается из чистого источника. Продолжайте же и не обращайте внимания на случайный вздох, вылетевший из моей груди.
— О, — сказало голубое домино, и его маска слегка дрогнула, как бы от появившейся на его губах улыбки, — о вас, Жильбере и еще об одном лице я знаю, бедное дитя мое, только то, что вы знаете сами.
— В таком случае, — воскликнула Олива, — скажите мне, почему Жильбер исчез из Трианона? И если вы мне это скажете…
— …то вы убедитесь в чем-то? В таком случае я вам ничего не скажу, а вы будете убеждены в этом еще сильнее.
— Почему?
— Спросив меня, почему Жильбер покинул Трианон, вы совсем не хотели получить подтверждение чему-то. Нет, вы хотели услышать нечто, о чем вы не знаете, но узнать очень хотите.
— Правда.
Но вдруг Олива вздрогнула еще сильнее, чем прежде, и судорожно схватила руки господина в голубом домино.
— Боже мой, Боже мой! — воскликнула она.
— Что с вами?
Николь решилась, по-видимому, отогнать от себя мысль, так взволновавшую ее.
— Ничего.
— Нет, вы хотели у меня что-то спросить.
— Да, скажите мне совершенно откровенно, что стало с Жильбером?
— Разве вы не слышали, что он умер?
— Да, но…
— Ну да. Он умер.
— Умер? — с сомнением переспросила Николь и тотчас же продолжала, вздрогнув так же сильно, как минутой раньше. — Ради Бога, сударь, окажите мне одну услугу…
— Две, десять, сколько вам угодно, дорогая Николь.
— Я вас видела у себя два часа тому назад… Не правда ли, это были вы?
— Конечно.
— Два часа тому назад вы не старались прятать от меня свое лицо…
— Нисколько; я, напротив, старался, чтобы вы хорошенько разглядели меня.
— О, глупая я, глупая, ведь я не смотрела на вас! Глупая, безумная женщина! Настоящая женщина, как говорил Жильбер.
— Однако оставьте в покое ваши чудесные волосы. Пожалейте себя.
— Нет. Я хочу себя наказать за то, что смотрела на вас и не видела.
— Я вас не понимаю.
— Знаете ли, о чем я вас попрошу?
— Попросите.
— Снимите маску.
— Здесь? Это невозможно.
— О! Вы боитесь вовсе не того, что вас увидят другие. Там, за колонной, в тени галереи, вас не увидит никто, кроме меня.
— В таком случае что же удерживает меня?
— Вы боитесь, что я вас узнаю.
— Меня?
— И того, что я крикну: "Это вы, это Жильбер!"
— Вы и вправду сказали о себе: "Безумная, безумная женщина!"
— Снимите маску.
— Ну, так и быть, но при одном условии.
— Согласна на него заранее.
— Я хочу, чтобы и вы сняли свою маску…
— Я сниму ее. А если не сниму, то вы сорвете ее с меня.
Незнакомец не заставил дольше упрашивать себя: он прошел в темный уголок, указанный ему молодой женщиной, и там, сняв маску, остановился против Олива, которая с минуту не сводила с его лица глаз.
— Увы, нет, — сказала она, топнув ногой и стискивая руки так крепко, что ногти вонзились в ладони. — Увы, вы не Жильбер.
— А кто же я?
— Что мне за дело, раз вы не он!
— А если бы это был Жильбер? — спросил незнакомец, снова надевая маску.
— Если бы это был Жильбер!.. — страстно воскликнула молодая женщина.
— Да.
— Если бы он мне сказал: "Николь, вспомните о Таверне-Мезон-Руж". О, тогда!..
— И тогда?
— Для меня больше бы не существовало бы Босира.
— Я вам ведь сказал, милое дитя, что Жильбер умер.
— Ну что же? Может быть, это и к лучшему, — сказала со вздохом Олива.
— Да, Жильбер вас не полюбил бы, несмотря на всю вашу красоту.
— Вы хотите сказать, что Жильбер презирал меня?
— Нет, он скорее боялся вас.
— Возможно. Во мне была частица его души, а он себя знал так хорошо, что боялся меня.
— Значит, как вы сами это сказали, лучше, что он умер.
— К чему повторять мои слова? В ваших устах они меня оскорбляют. Почему же лучше, что он умер, скажите?
— Потому что теперь, дорогая Олива, — вы видите, я оставляю в покое Николь, — потому что теперь, дорогая Олива, перед вами будущее: счастливое, богатое, блестящее!
— Вы думаете?
— Да, если вы твердо решитесь на все, чтобы достичь того, что я обещаю вам.
— О, будьте покойны.
— Но не надо больше вздыхать, как вы вздохнули только что.
— Хорошо. Я взгрустнула о Жильбере, а так как на свете нет двух Жильберов и мой Жильбер умер, то я не буду больше грустить.
— Жильбер был молод, у него были все достоинства и недостатки молодости. А теперь…
— А теперь Жильбер так же молод, как и десять лет тому назад.
— Конечно, если он умер.
— Вы видите, он умер; такие, как он, не стареют, а умирают.
— О юность! — воскликнул незнакомец. — О мужество, о красота! Вечные семена любви, героизма и преданности! Тот, кто теряет вас, теряет поистине саму жизнь! Юность — это рай, небо, это все! То, что Бог дает нам потом, все это лишь жалкое вознаграждение за прошедшую юность! Чем щедрее он посылает свои дары людям, когда их молодость прошла, тем больше считает себя обязанным возместить им эту потерю. Но ничто — великий Боже! — не может заменить те сокровища, которые молодость расточала человеку.
— Жильбер думал то же самое, что вы так хорошо выразили словами, — сказала Олива. — Но довольно об этом.
— Да, поговорим о вас.
— Будем говорить о чем вам угодно.
— Почему вы убежали с Босиром?
— Потому, что я хотела уйти из Трианона, и мне нужно было бежать с кем-нибудь. Я не могла долее оставаться в роли женщины, отвергнутой Жильбером, женщиной на крайний случай.
— Десять лет хранить верность только из-за гордости, — сказало голубое домино. — Как вы дорого заплатили за это суетное чувство!
Олива рассмеялась.
— Я знаю, над чем вы смеетесь, — сказал незнакомец серьезным тоном. — Вы смеетесь над тем, что человек, который имеет претензию все знать, обвиняет вас в том, что вы десять лет хранили верность, тогда как вы не подозревали за собою такого смешного качества. Боже мой, если говорить про верность физическую, бедная вы моя, то я знаю, что ее не было. Да, я знаю, что вы были в Португалии с Босиром, пробыли там два года и оттуда отправились в Индию, но уже без Босира, с капитаном фрегата, который прятал вас в своей каюте и потом забыл на суше в Чандернагоре, собираясь отплыть обратно в Европу. Я знаю, что вы имели два миллиона рупий на расходы в доме одного наваба, который держал вас за тремя решетками. Я знаю, что вы бежали от него, перелезши через эти решетки, для чего воспользовались как лестницей плечами одного невольника. Я знаю также, что вы вернулись во Францию, в Брест, богатой, так как унесли с собой два прекрасных жемчужных браслета, два бриллианта и три крупных рубина; что в гавани ваш злой гений, как только вы высадились на берег, сейчас же столкнул вас с Босиром, который чуть не лишился чувств, увидев вас, загорелую и исхудавшую, какой вы вернулись во Францию, бедная изгнанница!
— О! — воскликнула Николь, — но кто же вы, Боже мой? Откуда вы знаете все это?
— Я знаю, наконец, что Босир увез вас, уверив вас в своей любви, потом продал ваши драгоценности и довел вас до нищеты. Я знаю, что вы его любите или утверждаете это, по крайней мере, и так как любовь есть источник всех благ, то вы должны быть самой счастливой женщиной на свете!
Олива склонила голову, прижала руку ко лбу, и по ее пальцам скользнули две слезы, две жемчужины, быть может более ценные, чем жемчужины на ее браслетах, но которые, увы, никто бы не согласился купить у Босира.
— И эту женщину, столь гордую и счастливую, — сказала она, — вы купили сегодня вечером за пятьдесят луидоров.
— Я знаю, что это слишком ничтожная сумма, сударыня, — сказал незнакомец с такой изысканной вежливостью, с которой говорит порядочный человек даже с очень низко павшей куртизанкой.
— Напротив, она слишком велика для меня, сударь; и меня очень удивило, клянусь вам, что такую женщину, как я, могут еще оценить в пятьдесят луидоров.
— Вы стоите гораздо больше, и я докажу вам это. О, не отвечайте мне ничего, так как вы не понимаете меня… И к тому же… — добавил незнакомец, склоняясь к ней.
— К тому же?
— Я в эту минуту нуждаюсь в полном вашем внимании.
— В таком случае мне надо молчать.
— Нет, напротив, разговаривайте со мной.
— О чем?
— О чем хотите, Боже мой! Говорите какие-нибудь пустяки, это безразлично, лишь бы мы казались занятыми разговором.
— Хорошо; но вы очень странный человек.
— Дайте мне вашу руку, и пройдемся.
И они двинулись между группами людей по залу, причем она грациозно выпрямила свою тонкую талию, красиво подняла кверху свою головку, изящную даже под капюшоном, и слегка изогнула шею, гибкую даже в домино, производя всей своей фигурой впечатление на знатоков, с жадностью смотревших на каждое ее движение. В то время галантных волокит любой мужчина на балу в Опере следил взглядом за поступью женщины с таким же вниманием и интересом, как теперь некоторые любители следят за бегом породистой лошади.
Олива осмелилась было через несколько минут задать своему кавалеру какой-то вопрос, но он остановил ее.
— Молчите, — сказал незнакомец, — или говорите что хотите и сколько хотите, но не заставляйте меня отвечать. Только, разговаривая, измените голос, держите голову высоко и проводите веером по шее.
Она повиновалась.
В эту минуту наша парочка проходила мимо группы благоухавших духами мужчин. В центре ее стоял какой-то господин, очень элегантный, стройный и изящный, который говорил что-то своим трем собеседникам, по-видимому почтительно слушавшим его.
— Кто этот молодой человек? — спросила Олива. — Что за прелестное жемчужно-серое домино!
— Это господин граф д’Артуа, — отвечал незнакомец, — но ради Бога, не разговаривайте больше.
Назад: XII ГОСПОДИН ДЕ ШАРНИ
Дальше: Часть вторая

