Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 20. Ожерелье королевы
Назад: XVII КОРОЛЕМ НЕ МОГУ БЫТЬ, ГЕРЦОГОМ — НЕ ХОЧУ, РОГАН Я ЕСМЬ
Дальше: XXXIII КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ
XXII
ПРОТОКОЛЫ
Едва король в счастливом расположении духа вернулся в свои апартаменты и подписал приказ препроводить г-на де Рогана в Бастилию, как появился граф Прованский; войдя в кабинет, он стал делать г-ну де Бретейлю знаки, которые тот, несмотря на всю свою почтительность и все свое желание, не мог понять.
Но знаки эти предназначались не для хранителя печатей: принц усиленно делал их с целью привлечь внимание короля, который, перечитывая свой приказ, поглядывал в зеркало.
Старания графа достигли цели: король заметил его маневры и, отпустив г-на де Бретейля, сказал брату:
— Что это за знаки вы подавали Бретейлю?
— О, государь…
— Эта торопливость в движениях, этот озабоченный вид означают что-нибудь.
— Без сомнения, но…
— Я не обязываю вас говорить, брат мой, — обиженным тоном произнес король.
— Государь, дело в том, что я сейчас узнал об аресте господина кардинала де Рогана.
— Так чем же это известие могло так взволновать вас, брат мой? Или я не прав, когда караю даже сильного?
— Не правы? Вовсе нет, брат мой. Вы правы. Я не это хотел вам сказать.
— Меня бы очень удивило, господин граф Прованский, если б вы стали против королевы, на сторону человека, старающегося запятнать ее честь. Я только что видел королеву, брат мой, и одного ее слова было достаточно…
— О государь, Боже меня сохрани обвинять королеву! Вы это хорошо знаете. У ее величества, моей сестры, нет друга преданнее меня. Сколько раз мне случалось защищать ее, и не в упрек будь вам сказано, даже от вас самого.
— Значит, ее действительно часто обвиняют?
— Меня преследует несчастье, государь. Вы оборачиваете против меня каждое мое слово… Я хотел сказать, что сама королева не поверила бы мне, если бы показалось, что я сомневаюсь в ее невиновности.
— Тогда вы должны вместе со мною радоваться унижению, которому я подверг кардинала, радоваться тому судебному разбирательству, которое последует за этим, той огласке, которая положит предел всем клеветническим слухам. Их никто не посмел бы распускать даже о простой придворной даме, а между тем их каждый повторяет под предлогом, будто королева выше этих гнусностей!
— Да, государь, я вполне одобряю ваше поведение и говорю, что в деле с ожерельем все сложилось к лучшему.
— Еще бы, брат мой, — сказал король, — это совершенно ясно. Я очень живо представляю себе, как господин де Роган хвастался интимной дружбой с королевой, заключая от ее имени сделку по поводу бриллиантов, от которых она отказалась, и затем не препятствуя людям говорить, что бриллианты находятся в руках королевы или кем-то другим взяты у нее… Это чудовищно, и, по ее собственным словам, возникает вопрос: что стали бы думать, если бы господин де Роган был действительно ее соучастником в этой загадочной сделке?
— Государь…
— И кроме того, брат мой, вы упускаете из виду, что клевета никогда не останавливается на полдороге: легкомыслие господина де Рогана компрометирует королеву, а рассказы о его легкомыслии позорят ее честь.
— О да, брат мой, да, я повторяю, что вы были совершенно правы в том, что касается дела об ожерелье.
— Как? — удивленно спросил король. — Разве есть еще другое дело?
— Но, государь… Королева, наверное, сказала вам…
— Сказала мне… о чем?
— Государь, вы ставите меня в неловкое положение. Не может быть, чтобы королева вам не сказала…
— О чем, сударь? О чем?
— Государь…
— А, о хвастовстве господина де Рогана, о его недомолвках и мнимой переписке?
— Нет, государь, нет.
— Так о чем же тогда? О свиданиях, которые королева имела с господином де Роганом по делу о пресловутом ожерелье?
— Нет, государь, не то.
— Все, что я знаю, — сказал король, — это мое полное доверие к королеве, которое она заслуживает благородством своего характера. Ее величество прекрасно могла бы ничего не говорить о том, что происходит. Ей ничего бы не стоило заплатить за ожерелье или допустить, чтобы это сделали другие, — заплатить и спокойно отнестись к разным россказням. Разом положив конец этой таинственности, которая переходила в скандал, королева доказала, что считается прежде всего со мной, а потом уже с общественным мнением. Она меня позвала, мне доверила обязанность отомстить за ее честь. Она избрала меня своим духовником и судьей и обо всем мне сказала.
— Ну вот, — сказал граф Прованский, менее смущенный, чем должен был бы быть, ибо чувствовал, что уверенность короля не столь тверда, как он желает показать, — вот вы опять осуждаете меня за мою дружбу, за мое почтение к королеве, моей сестре. Если вы будете порицать меня с такой обидчивостью, то я ничего не скажу вам из боязни, как бы из защитника не превратиться в ваших глазах во врага или обвинителя. А между тем посмотрите, как вы нелогичны в этом случае. Признания королевы уже позволили вам открыть истину, заключающую в себе оправдание моей сестры. Почему же вы не хотите, чтобы из слов других людей вам блеснул новый свет, который мог бы еще ярче показать всю невиновность нашей королевы?
— Потому что… — сказал король в смущении, — вы, брат мой, всегда начинаете с разных околичностей, в которых я теряюсь.
— Это предосторожность оратора, государь, недостаток пыла и красноречия. Увы, прошу извинения за это у вашего величества, это порок моего воспитания. Меня испортил Цицерон.
— Брат мой, Цицерон только тогда бывает двусмыслен, когда защищает неправое дело; вы же теперь говорите о деле правом, так, ради самого Бога, говорите яснее!
— Критикуя мою манеру выражаться, вы принуждаете меня умолкнуть.
— Ну вот опять проснулось irritabile genus rhetorum! — воскликнул король, поддаваясь на хитрость графа Прованского. — К делу, господин адвокат, к делу! Что вы еще знаете, кроме того, что мне сказала королева?
— Боже мой, государь, ничего и все. Сначала определим точнее, что вам сказала королева.
— Королева мне сказала, что у нее нет ожерелья.
— Хорошо!
— Она сказала мне, что не подписывала расписки ювелирам.
— Прекрасно!
— Она сказала мне, что все касающееся ее сделки с господином де Роганом — ложь, измышленная ее врагами.
— Очень хорошо, государь.
— Наконец, она сказала, что никогда не давала господину де Рогану права думать, будто он для нее более чем обыкновенный подданный, будто он ей ближе, чем всякий посторонний, незнакомый человек.
— А, она сказала это…
— Да, тоном, не допускающим возражений; кардинал и не возражал.
— В таком случае, государь, если кардинал ничего не возразил, значит, он признает себя лжецом и тем самым подтверждает другие слухи о предпочтении, оказываемом королевою некоторым лицам.
— Ах, Боже мой! Что это еще такое? — произнес король унылым тоном.
— Только одни нелепости, как вы сейчас увидите. Раз удостоверено, что господин де Роган не прогуливался с королевою…
— Как, — воскликнул король, — разве говорили, что господин де Роган гулял с королевою?
— И это было совершенно опровергнуто самой королевою, а также отказом господина де Рогана от своих слов… Но все же раз это было удостоверено, то вы понимаете, люди стали доискиваться — людское коварство не смогло от этого удержаться, — как могло случиться, что королева гуляла ночью в версальском парке…
— Ночью! В версальском парке! Королева!
— …и с кем она гуляла, — холодно продолжал граф Прованский.
— С кем?.. — прошептал король.
— Без сомнения!.. Разве глаза всех не прикованы к тому, что делает королева? Разве эти глаза, которых не ослепляет ни дневной свет, ни блеск величества, не делаются еще более зоркими, когда нужно видеть что-либо ночью?
— Но, брат мой, вы говорите гнусные вещи, остерегитесь.
— Государь, я повторяю это и буду повторять с таким негодованием, что, наверное, мне удастся побудить вас открыть истину.
— Как, сударь! Говорят, что королева ночью гуляла в обществе… в версальском парке?
— Не в обществе, государь, а вдвоем… О, если б говорили только про "общество", то нам не стоило бы обращать на это внимание.
Король вдруг вспылил.
— Вы сейчас докажете мне то, что говорите, — сказал он, — а для этого докажите, что другие это говорят..
— О, это легко, слишком легко, — ответил граф Прованский. — Есть четыре свидетельства: первое — начальника моей охоты, который видел, как королева два дня подряд, или, скорее, две ночи, выходила из версальского парка через калитку у охотничьего домика. Вот это показание; оно скреплено подписью. Читайте.
Король с дрожью взял бумагу, прочел и возвратил ее брату.
— Вот, государь, еще более любопытное свидетельство ночного сторожа в Трианоне. Он доносит, что. ночь была спокойна; что был сделан один выстрел, без сомнения, браконьерами в лесу Сатори; что в парках все было спокойно, за исключением того вечера, когда ее величество королева гуляла там под руку с каким-то дворянином. Взгляните: протокол составлен ясно и недвусмысленно.
Король прочел, вздрогнул, и руки его опустились.
— Третье свидетельство, — невозмутимо продолжал граф Прованский, — швейцарца-привратника Восточных ворот. Этот человек видел и узнал королеву в ту минуту, как она выходила через калитку у охотничьего домика. Он говорит, как была одета королева… Взгляните, государь. Он также говорит, что издали не мог узнать кавалера, с которым прощалась ее величество… это написано в донесении… но что по облику он принял бы его за офицера. Этот протокол подписан. Он добавляет еще одну интересную подробность, не оставляющую сомнений в том, что это была королева; ее величество сопровождала госпожа де Ламотт, приятельница королевы.
— Приятельница королевы! — воскликнул король. — Да, это так; приятельница королевы!
— Не гневайтесь на этого честного слугу, государь: он виновен только в излишнем усердии. Ему поручено сторожить — он сторожит; поручено надзирать — он надзирает. А последнее свидетельство, — продолжал граф Прованский, — кажется мне самым ясным из всех. Это донесение мастера-слесаря, на обязанности которого лежит проверить, все ли ворота заперты после того, как сыграют вечернюю зорю. Он утверждает, что видел, как королева входила в купальню Аполлона с каким-то кавалером.
Король, бледный, едва сдерживая злость, вырвал бумагу из рук графа и прочел ее.
Граф Прованский тем временем продолжал:
— Правда, госпожа де Ламотт оставалась снаружи, шагах в двадцати, и королева оставалась в этом помещении не более часу.
— Но имя ее кавалера? — воскликнул король.
— Государь, оно названо не в этом донесении. Вашему величеству придется потрудиться пробежать вот это последнее свидетельство — лесника, который находился в шалаше за наружной стеной парка, около купальни Аполлона.
— Оно помечено следующим днем, — сказал король.
— Да, государь… Он видел, как королева выходила из парка через калитку и осматривалась по сторонам… Она была под руку с господином де Шарни!
— Господин де Шарни!.. — воскликнул король, почти теряя рассудок от гнева и стыда. — Хорошо… хорошо… Подождите меня здесь, граф. Мы наконец узнаем истину.
И он поспешно вышел из кабинета.
XXIII
ПОСЛЕДНЕЕ ОБВИНЕНИЕ
Как только король вышел из комнаты королевы, она поспешила в будуар, откуда г-н де Шарни мог все слышать. Она отворила дверь будуара и, вернувшись, сама закрыла дверь своих апартаментов; затем, упав в кресло, обессилев от вынесенных ею тяжелых потрясений, молча стала ждать, какой приговор вынесет ей г-н де Шарни, самый для нее грозный судья.
Но ждала она недолго; граф вышел из будуара более бледный и грустный, чем когда-либо.
— Ну что? — сказала она.
— Ваше величество, — начал он, — вы видите, что все противится тому, чтобы мы были друзьями. Если вас не будет оскорблять моя убежденность, то это станет делать отныне общее мнение; после скандала, разразившегося сегодня, не будет покоя для меня, не будет передышки для вас. Враги ваши, еще более ожесточившись от нанесенной вам первой раны, набросятся на вас, чтобы пить вашу кровь, как мухи на раненую газель…
— Вы усердно ищете какого-нибудь чистосердечного и простого слова, — сказала с грустью королева, — и не находите его.
— Мне кажется, что я никогда не давал повода вашему величеству сомневаться в моем чистосердечии, — возразил Шарни, — и иногда оно проявлялось даже с излишней резкостью, за что прошу прощения у вашего величества.
— Так значит, — взволнованно проговорила королева, — вам недостаточно того, что я только что сделала: пошла на всю эту огласку, бесстрашно напала на одного из знатнейших дворян королевства, вступила в открытую вражду с Церковью, отдала свое доброе имя во власть парламентских страстей?! Я уже говорю о поколебленном навсегда доверии короля… Это вас не очень заботит, не так ли? Что такое король?.. Супруг!
И она улыбнулась с такой мучительной горечью, что слезы брызнули у нее из глаз.
— О, — воскликнул Шарни, — вы самая благородная, самая великодушная из женщин! Если я не тотчас отвечаю, как меня побуждает к тому сердце, то это потому, что я чувствую себя неизмеримо ниже вас и не смею осквернять это возвышенное сердце, когда прошу для себя в нем места.
— Господин де Шарни, вы меня считаете виновной.
— Ваше величество!..
— Господин де Шарни, вы поверили словам кардинала.
— Ваше величество!..
— Господин де Шарни, я требую, чтобы вы сказали мне, какое впечатление произвело на вас поведение господина де Рогана?
— Я должен сказать, ваше величество, что господин де Роган не безумец, в чем вы его упрекали, и не слабый человек, как можно было бы подумать; это человек убежденный, это человек, который вас любил и любит и который в данную минуту является жертвой заблуждения: оно приведет его к гибели, а вас…
— Меня?
— Вас, ваше величество, к неизбежному бесчестью.
— Боже мой!
— Передо мной встает угрожающий призрак этой гнусной женщины — госпожи де Ламотт, исчезнувшей в то время, когда ее показание может вернуть вам все: покой, честь, безопасность в будущем. Эта женщина — ваш злой гений, она бич королевского сана; эта женщина, которую вы неосторожно сделали поверенной ваших секретов и, может быть, — увы! — интимных тайн…
— Моих секретов, моих интимных тайн! Ах, сударь, прошу вас! — воскликнула королева.
— Ваше величество, кардинал сказал вам достаточно ясно и не менее ясно доказал, что вы условились с ним относительно покупки ожерелья.
— А!.. Вы возвращаетесь к этому, господин де Шарни, — краснея, сказала королева.
— Простите, простите; видите, мое сердце менее великодушно, чем ваше, я не достоин, чтобы вы делились со мной вашими мыслями. Пытаясь вас смягчить, я только раздражаю вас.
— Послушайте, сударь, — сказала королева, к которой вернулась гордость, смешанная с гневом, — тому, чему верит король, могут верить все; с моими друзьями я не буду откровеннее, чем с моим супругом. Мне кажется, что у мужчины не может быть желания видеть женщину, если он не уважает ее. Я не о вас говорю, сударь, — с живостью добавила она, — и не о самой себе: я не женщина, я королева, и вы для меня не мужчина, а судья.
Шарни поклонился так низко, что королева могла найти достаточное удовлетворение для себя в этом смирении своего верноподданного.
— Я вам советовала, — вдруг сказала она, — оставаться в своих поместьях; это был благоразумный совет. Вдали от двора, который неприятен вам и чужд вашим привычкам, вашей прямоте и, позвольте добавить, вашей неопытности, — итак, я говорю, вдали от двора вы лучше могли бы судить о тех лицах, которые подвизаются на сцене этого театра. Надо помнить про оптический обман, господин де Шарни, и сохранить перед толпой румяна и котурны. Я была слишком снисходительной королевой и не заботилась о том, чтобы поддержать в глазах тех, кто меня любил, ослепительный блеск королевского сана. Ах, господин де Шарни, ореол короны избавляет королеву от необходимости быть целомудренной, кроткой, а главное, от того, чтобы иметь сердце. Ведь ты королева и властвуешь; для чего возбуждать к себе любовь?
— Я не могу выразить, — ответил сильно взволнованный Шарни, — как меня огорчает суровость вашего величества. Я мог забыть, что вы моя королева, но — признайте по справедливости — я никогда не забывал, что из всех женщин вы наиболее достойны моего почтения и…
— Не доканчивайте, я не прошу милостыни. Да, я повторяю: вам необходимо удалиться. Я предчувствую, что в конце концов ваше имя будет произнесено в этом деле.
— Ваше величество, это невозможно!
— Вы говорите — невозможно! Подумайте о могуществе тех, кто вот уже полгода играет моим добрым именем, моей жизнью! Не говорили ли вы, что кардинал уверен в своей правоте, что он действует под влиянием заблуждения, в которое его ввели! Те, кто мог внушить подобную уверенность и создать подобное заблуждение, сумеют доказать вам, что вы вероломный подданный короля и позорный друг для меня. Те, что так удачно измышляют ложь, очень легко открывают истину! Не теряйте времени, опасность велика; удалитесь в ваши земли, бегите от огласки, которая произойдет при судебном разбирательстве, направлением против меня: я не хочу, чтобы моя судьба увлекла вас за собой; я не хочу, чтобы ваша будущность пострадала. У меня же, слава Богу, есть невиновность и сила, нет ни единого пятна на жизни; я готова, если понадобится, пронзить себе грудь, чтобы показать врагам моим чистоту моего сердца, — я выдержу борьбу. Для вас она может кончиться гибелью, бесславием и, быть может, тюрьмой… Возьмите назад эти столь великодушно предложенные вами деньги и с ними вместе примите уверение, что ни одно благородное движение вашей души не ускользнуло от меня, что ни одно из ваших сомнений не оскорбило меня, что ни одно ваше страдание не осталось без отклика в моей душе. Уезжайте, говорю вам, и ищите в ином месте то, чего королева Франции не может вам более дать: веру, надежду, счастье. Я считаю, что пройдет около двух недель, пока Париж узнает об аресте кардинала, пока будет созван парламент, пока будут даны показания. Уезжайте! У вашего дяди стоят наготове два судна в Шербуре и Нанте — выбирайте любое, но оставьте меня. Я приношу несчастье; бегите от меня. Я дорожила только одним в жизни и, лишившись этого, чувствую себя погибшей.
С этими словами королева быстро поднялась, точно отпуская Шарни, как при окончании аудиенции.
Он приблизился к ней с прежней почтительностью, но более поспешно.
— Ваше величество, — произнес он изменившимся голосом, — вы мне сейчас указали мой долг. Не в моем имении, не вдали от Франции кроется опасность: она в Версале, где вас подозревают, она в Париже, где будут вас судить. Необходимо, ваше величество, чтобы любое подозрение рассеялось, чтобы всякое заключение суда было оправданием для вас; и так как у вас не может быть более верного свидетеля, более решительной поддержки, чем я, то я остаюсь. Тот, кто знает так много про нас, ваше величество, выскажет все, что знает. Но, по крайней мере, мы будем иметь неоценимое для смелых людей счастье — видеть наших врагов лицом к лицу. Пусть они трепещут перед величием неповинной королевы и перед отвагою человека, который лучше их. Да, я остаюсь. И верьте мне: вашему величеству нет больше надобности скрывать свои мысли от меня. Всем хорошо известно, что я не из тех, кто бежит. Вы хорошо знаете, что я ничего не боюсь; вы знаете также, что не нужно отправлять меня в ссылку для того, чтобы никогда не видеть меня более. О ваше величество, сердца понимают друг друга в разлуке, издали сердечное стремление еще более горячо, чем вблизи. Вы желаете, чтобы я уехал ради вас, а не ради себя. Не бойтесь: находясь недалеко, чтобы иметь возможность помочь вам, защитить вас, я буду вместе с тем настолько далеко, что не смогу обидеть вас или вредить вам. Вы ведь меня не видели, не правда ли, когда я целую неделю жил на расстоянии ста туазов от вас, подстерегая каждое ваше движение, считая ваши шаги, живя вашей жизнью?.. Что же, так будет и на этот раз, потому что я не сумею исполнить вашей воли: я не могу уехать! Впрочем, что вам до того!.. Разве вы будете думать обо мне?
Королева отстранила молодого человека движением руки.
— Как вам угодно, — сказала она, — но вы меня поняли, вы не должны ошибочно истолковывать мои слова. Я не кокетка, господин де Шарни; говорить, что думаешь, думать, что говоришь, — вот преимущество настоящей королевы; я такова. Однажды, сударь, я избрала вас между всеми. Я не знаю, что влекло мое сердце к вам. Я жаждала сильной и чистой дружбы; я вам дала это заметить, не так ли? Сегодня уже не то: я более не думаю так, как раньше. Ваша душа уже не сестра моей. Я так же откровенно говорю вам: пощадим друг друга.
— Хорошо, ваше величество, — прервал ее Шарни, — я никогда не думал, что вы меня избрали, я никогда не думал… Ах, ваше величество, я не могу переносить мысль, что потеряю вас. Ваше величество, я не помню себя от ревности и ужаса. Ваше величество, я не могу допустить, чтобы вы отняли у меня свое сердце. Оно мое, вы мне его отдали; никто его не отнимет у меня, иначе как с моею жизнью. Останьтесь женщиной, будьте доброй, не злоупотребляйте моей слабостью: вы только что упрекали меня за мои сомнения, а теперь сами подавляете меня ими.
— У вас сердце ребенка, сердце женщины! — сказала она. — Вы хотите, чтобы я рассчитывала на вас!.. Хорошие мы защитники друг друга! Слабы! О да, вы слабы! И я, увы, не сильнее вас!
— Я не любил бы вас, если бы вы были иною, — прошептал он.
— Как, — живо и горячо сказала она, — эта проклинаемая королева, эта погибшая королева, эта женщина, которую будет судить парламент, которую осудит общественное мнение, которую супруг, ее король, быть может, прогонит, — эта женщина находит сердце, любящее ее!
— Слугу, благоговеющего перед нею и предлагающего всю кровь своего сердца за недавно пролитую ею слезу!
— Эта женщина, — воскликнула королева, — благословенна, она горда, она первая среди женщин, счастливейшая из них… Эта женщина слишком счастлива, господин де Шарни! Я не знаю, как эта женщина могла жаловаться, простите ей!
Шарни упал к ногам Марии Антуанетты и поцеловал их в порыве благоговейной любви.
В эту минуту дверь потайного коридора отворилась и на пороге показался король, дрожащий и точно пораженный громом.
Он застал у ног Марии Антуанетты человека, которого обвинял граф Прованский.
XXIV
СВАТОВСТВО
Королева и Шарни обменялись таким испуганным взглядом, что самый жестокий враг пожалел бы их в эту минуту.
Шарни медленно поднялся и поклонился королю с глубоким почтением.
Высоко вздымавшееся кружевное жабо свидетельствовало, как сильно билось сердце Людовика XVI.
— А, — сказал он глухим голосом, — господин де Шарни!
Граф ответил вторым поклоном.
Королева почувствовала, что не может говорить, что она погибла.
Король продолжал с удивительной сдержанностью:
— Господин де Шарни, для дворянина не особенно почетно быть пойманным с поличным на воровстве.
— На воровстве?! — прошептал Шарни.
— На воровстве?! — повторила королева, которой казалось, что в ее ушах продолжают звучать ужасные обвинения, касавшиеся ожерелья, и ей представилось, что они запятнают вместе с нею и графа.
— Да, — продолжал король, — становиться на колени пред женой другого — воровство; а когда эта женщина — королева, сударь, такое преступление называется оскорблением величества. Я велю вам передать это, господин де Шарни, через моего хранителя печатей.
Граф хотел заговорить; он хотел уверить короля в своей невиновности, когда королева пришла ему на помощь. В своем великодушном нетерпении она не могла допустить, чтобы обвиняли человека, которого она любила.
— Государь, — с живостью сказала она, — мне кажется, что вы вступили на путь дурных подозрений и недобрых опасений; эти подозрения и опасения несправедливы, предупреждаю вас. Я вижу, что почтение сковывает уста графа но, хорошо зная его сердце, не потерплю, чтобы его обвиняли, и выступлю в его защиту.
Она остановилась, обессилев от волнения, испугавшись той лжи, которую она должна была изобрести, и растерявшись от сознания, что не может ничего выдумать.
Но в этой самой нерешительности, казавшейся ненавистной для гордого ума королевы, и заключалось спасение ее как женщины. В таких трагических обстоятельствах, когда зачастую ставится на карту честь и жизнь женщины, застигнутой врасплох, бывает достаточно одной минуты, чтобы быть спасенной, и одной секунды, чтобы погибнуть.
Королева совершенно инстинктивно ухватилась за возможность передышки; она разом пресекла подозрения короля, сбила его с толку и дала графу собраться с мыслями. Эти решительные минуты подобны быстрым крыльям, на которых уверенность ревнивца уносится так далеко и почти никогда не возвращается, если только не вернет ее на своих крыльях демон — покровитель завистников любви.
— Вы, быть может, — ответил Людовик XVI, переходя от роли короля к роли подозрительного мужа, — скажете мне, что я не видел господина де Шарни на коленях перед вами, мадам? А для того, чтобы оставаться на коленях, не получая приказания встать, надо…
— Надо, — строго сказала королева, — чтобы подданный французской королевы испрашивал у нее какую-нибудь милость… Это, мне кажется, довольно частый случай при дворе.
— Испрашивал у вас милости? — воскликнул король.
— И милости, которой я не могла даровать, — продолжала королева. — Не будь этого, клянусь вам, господин де Шарни не стал бы настаивать и я немедленно подняла бы его, радуясь возможности исполнить желание дворянина, к которому питаю исключительное уважение.
Шарни вздохнул свободно. Во взгляде короля мелькнула нерешительность, и лицо его понемногу стало утрачивать несвойственное ему выражение угрозы, вызванное неожиданной сценой, которую он застал.
Между тем Мария Антуанетта лихорадочно старалась придумать что-нибудь, чувствуя в душе гнев от необходимости лгать и теряясь от сознания, что не находит ничего правдоподобного.
Заявив о своей невозможности даровать графу испрашиваемую милость, она рассчитывала пресечь дальнейшее любопытство короля и надеялась, что допрос на этом остановится. Она ошиблась: всякая другая женщина на ее месте поступила бы более искусно, не принялась бы за дело так круто; но лгать перед любимым человеком было для нее ужасной пыткой. Явиться перед ним в жалком и фальшивом свете обманщицы из комедии — значило завершить все обманы и все хитрости, связанные с интригой в парке, развязкою, вполне достойной всех этих гнусностей. Для нее это было почти равносильно тому, чтобы оказаться виновною в них; это было хуже смерти.
Она еще колебалась. Она отдала бы жизнь за то, чтобы Шарни придумал эту ложь; но он, правдивый дворянин, не мог этого сделать и даже не думал о том. Движимый деликатностью, он боялся даже иметь вид человека, готового защитить честь королевы.
То, о чем мы рассказываем здесь во многих строках, — быть может, даже в слишком многих, хотя данные обстоятельства дают обильный материал для описания, — трое действующих лиц этой сцены перечувствовали и высказали в какие-нибудь полминуты.
Мария Антуанетта ждала, когда сорвется с уст короля вопрос, который наконец последовал:
— Скажите же мне, мадам, что это за милость, о которой напрасно молил господин де Шарни, так что был вынужден стать на колени перед вами?
И как бы желая смягчить резкость своего вопроса, в котором сквозило подозрение, король добавил:
— Быть может, я буду счастливее вас и господину де Шарни не придется становиться на колени передо мной.
— Государь, я вам сказала, что господин де Шарни просил о совершенно невозможной вещи.
— Но в чем она состоит, по крайней мере?
"О чем просят на коленях? — спрашивала себя королева. — Что можно просить у меня неисполнимого?.. Ну же, ну, скорее".
— Я жду, — сказал король.
— Государь, дело в том… что просьба господина де Шарни — семейная тайна.
— Для короля нет тайн; он господин в своем королевстве и отец, пекущийся о чести и безопасности всех своих подданных, своих детей, даже тогда, — добавил Людовик XVI с грозным достоинством, — когда эти недостойные дети затрагивают честь и безопасность своего отца.
Королева сделала резкое движение, почувствовав угрозу в словах короля. Ум ее мутился, руки дрожали.
— Господин де Шарни, — воскликнула она, — хотел просить меня о…
— О чем же, мадам?
— О позволении жениться.
— В самом деле! — воскликнул король, поначалу успокоившись.
Но тут его снова обуяла ревнивая тревога.
— Так что же? — продолжал он, не замечая, как страдает бедная женщина, произнося эти слова, и как побледнел Шарни от страдания королевы, — так что же? Почему господину де Шарни невозможно жениться? Разве он не хорошего рода? Разве он не имеет прекрасного состояния? Разве он не храбр и не красив? Право, чтобы не принять его в семью, чтобы отказать ему в своей руке, надо быть принцессой крови или замужней дамой; только эти две причины, по-моему, могут создать невозможность. Итак, мадам, скажите мне имя женщины, на которой желал бы жениться господин де Шарни, и если только к ней неприменимо одно из двух условий, о которых я упоминал, то ручаюсь вам, что устраню затруднение… чтобы сделать вам приятное.
Королева, сознавая все возрастающую опасность и подчиняясь последствиям своей первой лжи, храбро продолжала:
— Нет, государь, нет; есть такие затруднения, которые вы не можете преодолеть. Именно таково препятствие, о котором мы говорим.
— Тем больше основания мне узнать, что невозможно для короля, — прервал Людовик XVI с глухой яростью.
Шарни посмотрел на королеву, которая, казалось, едва стояла на ногах. Он хотел сделать шаг к ней, но его удержало то, что король стоял неподвижно. По какому праву он, посторонний человек, подал бы руку или поддержал бы эту женщину, которую предоставлял самой себе ее король и супруг?
"Какая же есть власть, — спрашивала она у себя, — против которой король бессилен? Подай мне мысль, помоги мне, Господи!"
И вдруг ее осенило.
"Ах, сам Господь посылает мне помощь, — подумала она. — Тех, кто принадлежит ему, не может отнять у него сам король".
И подняв голову, она сказала королю:
— Ваше величество, та, на ком желал бы жениться господин де Шарни, находится в монастыре.
— А, — воскликнул король, — это уже причина! Действительно, очень трудно отнять у Бога и отдать людям то, что ему принадлежит. Но странно, что господин де Шарни почувствовал столь внезапную любовь! Никогда никто не говорил мне о ней, даже его дядя, который может всего добиться у меня. Кто же эта любимая вами женщина, господин де Шарни? Скажите мне, прошу вас.
Королева почувствовала мучительную боль. Ей предстояло услышать чье-нибудь имя из уст Оливье; ей предстояло вынести пытку от этой лжи. Кто знает, не назовет ли Шарни имя, некогда ему дорогое, еще полное для него кровоточащих воспоминаний о прошлом, или имя, которое укажет на зарождающуюся любовь и поведает о его смутных надеждах в будущем? Чтобы избежать этого страшного удара, Мария Антуанетта опередила его.
— Государь, — воскликнула она, — вы знаете ту, кого желает иметь женой господин де Шарни; это… мадемуазель Андре де Таверне.
Шарни вскрикнул и закрыл лицо руками.
Королева, прижав руку к сердцу, почти без чувств упала в кресло.
— Мадемуазель де Таверне! — повторил король, — мадемуазель де Таверне, которая удалилась в Сен-Дени?
— Да, государь, — слабым голосом сказала королева.
— Но она не дала еще монашеского обета, насколько мне известно?
— Но она должна его дать.
— Мы еще это посмотрим, — сказал король. — Но, — прибавил он с остатком недоверия, — зачем ей произносить этот обет?
— Она бедна, — сказала Мария Антуанетта. — Вы обогатили только ее отца, — резко добавила она.
— Я исправлю эту оплошность, мадам; господин де Шарни ее любит…
Королева вздрогнула и бросила на молодого человека жадный взгляд, как бы умоляя его опровергнуть это.
Шарни пристально посмотрел на Марию Антуанетту и ничего не ответил.
— Хорошо! — сказал король, приняв это молчание за почтительное подтверждение. — И без сомнения, мадемуазель де Таверне любит господина де Шарни? Я дам ей в приданое те пятьсот тысяч ливров, в которых я на днях должен был отказать вам через господина де Калонна. Благодарите королеву, господин де Шарни, за то, что она соблаговолила рассказать мне об этом деле и тем обеспечила счастье вашей жизни.
Шарни сделал шаг вперед и поклонился; он был бледен, как статуя, которую Бог, явив чудо, оживил на минуту.
— О, дело стоит того, чтобы вы еще раз преклонили колена! — сказал король с тем легким оттенком грубоватой насмешки, который слишком часто умерял в нем традиционное благородство его предков.
Королева вздрогнула и невольным движением протянула обе руки молодому человеку. Он преклонил перед ней колени и запечатлел на ее прекрасных холодных как лед руках поцелуй, моля Бога позволить ему вложить в этот поцелуй всю свою душу.
— А теперь, — сказал король, — предоставим ее величеству позаботиться о вашем деле; идемте, сударь, идемте!
И он быстро прошел вперед, так что Шарни мог обернуться на пороге и заметить невыразимую скорбь того последнего "прости", которое посылали ему глаза королевы.
Дверь затворилась, положив отныне непреодолимую преграду этой невинной любви.
XXV
СЕН-ДЕНИ
Королева осталась одна со своим отчаянием. Столько ударов обрушилось на нее один за другим, что она перестала даже сознавать, который из них был для нее наиболее чувствителен.
Проведя около часу в нерешительности и унынии, она сказала себе, что пора искать выход. Опасность увеличивалась. Король, гордясь своей победой над кажущимися затруднениями, поспешит разгласить об этом, и может случиться, что эта огласка уничтожит все плоды обмана.
Как упрекала себя королева за этот обман, как желала взять обратно это вырвавшееся из уст ее слово, как ей хотелось отнять у Андре призрачное счастье, от которого та, быть может, откажется!
Действительно, здесь возникало другое затруднение. Имя Андре спасло все дело в глазах короля. Но кто мог поручиться за капризный, самостоятельный, своевольный ум той особы, которая носила имя мадемуазель де Таверне? Кто мог рассчитывать, что эта гордая девушка захочет принести свою свободу и свою будущность в жертву ради блага королевы, с которой рассталась за несколько дней до этого, не скрывая своей враждебности?
Что же тогда случится? Андре откажется, что очень вероятно; все здание лжи рухнет. Королева превратится в заурядную интриганку, Шарни — в пошлого чичисбея и обманщика, а клевета, перейдя в обвинение, придаст всему делу неоспоримый характер супружеской неверности.
У Марии Антуанетты мутился рассудок от этих мыслей; она готова была сдаться заранее, представляя себе вероятное будущее, и замерла, охватив руками пылающую голову.
Кому довериться? Кто же был подругою королевы? Госпожа де Ламбаль? О, это было воплощение чистого рассудка, холодного и неумолимого. К чему искушать ее девственно-чистое воображение, которого к тому же и не захотят понять придворные дамы, расточающие раболепную лесть успеху и трепещущие при малейшем намеке на немилость? Они, пожалуй, скорее выскажут готовность проучить свою королеву, когда ей нужна будет их помощь.
Оставалась только сама мадемуазель де Таверне. Ее сердце было бриллиантом чистой воды и, хотя его острые грани могли резать стекло, своею несокрушимой твердостью и глубокой чистотой оно одно только могло понять и откликнуться на безграничные страдания королевы.
Итак, Мария Антуанетта поедет к Андре. Она поведает ей о своем несчастье, будет умолять ее пожертвовать собой. Без сомнения, Андре откажется, потому что она не из тех, кого можно заставить; но мало-помалу смягчившись просьбами, она согласится. К тому же как знать, не окажется ли тогда возможным получить отсрочку: когда утихнет первый пыл короля, он, успокоенный наружным согласием обоих обрученных, в конце концов забудет об этом… Тогда на помощь явится путешествие. Андре и Шарни могут удалиться на некоторое время, пока гидра клеветы не успокоится, утолив свой голод; затем они могут пустить слух, что разошлись полюбовно, возвратив друг другу слово, и никто не догадается, что этот предполагавшийся брак был просто игрой.
Таким образом, мадемуазель де Таверне сохранит свободу, и Шарни точно так же. А королева избавится от мучительных угрызений совести, оттого что эгоистично принесла в жертву своей чести судьбу двух людей; при этом ее репутация, с которой связана честь ее мужа и детей, останется незатронутой и Мария Антуанетта передаст ее незапятнанной будущей королеве Франции.
Таковы были ее размышления.
Ей казалось, что она все обдумала и что ей удастся соблюсти и законы приличия, и интересы отдельных лиц. Перед столь ужасной опасностью необходимо было все обдумать, опираясь на неопровержимую логику. Необходимо было приготовиться как можно лучше к свиданию с такой опасной противницей, какой становилась мадемуазель де.
Таверне в тех случаях, когда она повиновалась не своему сердцу, а своей гордости.
Мария Антуанетта, обдумав все до мелочей, решила ехать. Ей очень хотелось предупредить Шарни не делать никакого неловкого шага, но ее остановила мысль, что за ней, без сомнения, следят и всякий ее поступок в такую минуту будет дурно истолкован, а она достаточно убедилась на опыте в здравомыслии, преданности и решительности Оливье и была уверена: он одобрит все, что она найдет нужным сделать.
Часы показывали три — время парадного обеда, представлений ко двору, приема посетителей. Королева принимала всех с ясным лицом и с благосклонностью, нисколько не умалявшей ее всем известной горделивости. С теми же, кого она считала врагами, она даже нарочно выказывала особенную твердость, которая обыкновенно не свойственна людям виновным.
Никогда еще при дворе не было так многолюдно, и никогда еще любопытные взоры не впивались так жадно в черты королевы, находившейся в опасности. Мария Антуанетта храбро выдержала нападение, сокрушила врагов, привела в восхищение друзей; людей равнодушных превратила в ревностных поклонников; рвение обратила в восторженность и предстала окруженной ореолом такой красоты и величия, что король при всех поздравил ее с этим.
Потом, когда все кончилось, когда с ее губ сбежала притворная улыбка, она вернулась к своим воспоминаниям, то есть к своим горестям, и почувствовала себя одинокой, совершенно одинокой на этом свете. Она переменила туалет, выбрала серую шляпу с голубыми лентами и цветами, темно-серое шелковое платье, села в карету и, сопровождаемая одной только придворной дамой, без охраны, велела везти себя в Сен-Дени.
Это был час, когда монахини, вернувшись в свои кельи, переходили от негромкого шума трапезной к полной тишине и сосредоточенности, предшествующим вечерней молитве.
Королева приказала позвать в приемную Андре де Таверне.
А та, стоя на коленях в белом пеньюаре, смотрела в окно на луну, что вставала из-за высоких лип, и в поэзии спускавшейся ночи находила источник для горячих, страстных молитв, которые возносила к Богу, стремясь облегчить душу.
Она упивалась неизлечимым горем добровольной разлуки. Такая пытка знакома лишь сильным душам: это и мука, и удовольствие. Она доставляет страдание, как и всякое обыкновенное горе, но может доставлять и своеобразное наслаждение, доступное тем, кто умеет свое счастье приносить в жертву гордости.
Андре по своей воле оставила двор, по своей воле порвала со всем, что могло поддерживать в ее сердце любовь. Одаренная гордостью Клеопатры, она не могла перенести даже мысли, что г-н де Шарни мог думать о другой женщине, даже если эта женщина была королевой.
У нее не было никакого доказательства его пылкой любви к другой женщине. Ревнивая Андре, имей она подобное доказательство, конечно, вынесла бы из него убеждение, которое заставило бы ее сердце обливаться кровью. Но разве она не видела, что Шарни равнодушно проходит мимо нее? И не подозревала ли она, что королева, несомненно с невинными намерениями, принимала поклонение Шарни и предпочтение, которое он отдавал ей?
К чему же после этого было оставаться в Версале? Чтобы вымаливать комплименты, подбирать крохи улыбок? Чтобы изредка, когда это будет неизбежно, он коснулся ее пальцев или предложил ей руку на прогулке, когда королеве заблагорассудится уступить ей право воспользоваться любезностью Шарни, не имея возможности в данную минуту самой принять эту любезность?
Нет, прочь недостойную слабость, прочь всякие сделки, не подобающие стойкому духу! Жизнь с любовью и сознанием, что тебя предпочитают всем остальным, — или монастырь с любовью и оскорбленной гордостью?
"Никогда, никогда! — повторяла себе гордая Андре. — Тот, кого я буду любить тайно, тот, кто для меня останется только туманным облаком, портретом, воспоминанием, никогда не оскорбит меня, всегда улыбнется мне, и одной мне!"
Вот почему она провела столько мучительных, но оставлявших свободу ее чувствам ночей; вот почему, находя счастье в возможности плакать в минуты слабости и проклинать в порыве раздражения, Андре предпочитала добровольное изгнание, сохранявшее неприкосновенными ее любовь и достоинство, возможности видеть человека, которого она ненавидела за то, что принуждена была любить его.
К тому же эти молчаливые созерцания чистой любви, этот божественный экстаз одиноких мечтаний для дикарки Андре были гораздо более подходящей жизнью, чем блестящие праздники в Версале, необходимость преклонять голову перед соперницами и опасения выдать заключенную в ее сердце тайну.
Как мы уже сказали, вечером в день святого Людовика королева приехала в Сен-Дени навестить Андре, предававшуюся мечтам в своей келье.
Андре пришли сказать, что прибыла королева, что весь капитул встретил ее в большой приемной и что после первых приветствий ее величество спросила, нельзя ли ей поговорить с мадемуазель де Таверне.
И странное дело! Этого было достаточно, чтобы сердце Андре, смягченное любовью, устремилось навстречу аромату Версаля — аромату, который она еще вчера проклинала и который становился для нее все более драгоценным по мере того, как все больше удалялся, драгоценным, как все, что исчезает, как все, что забывается, драгоценным, как любовь!
— Королева! — прошептала Андре. — Королева в Сен-Дени! Королева зовет меня!
— Скорей, торопитесь! — отвечали ей.
Она действительно поторопилась: набросила на плечи длинную монашескую накидку, стянула шерстяным поясом свое широкое платье и, даже не взглянув в маленькое зеркало, последовала за привратницей, приходившей ее звать.
Но едва сделав шагов сто, она устыдилась своей внезапной радости.
"Отчего, — сказала она себе, — встрепенулось мое сердце? Какое отношение имеет к Андре де Таверне посещение монастыря Сен-Дени королевой Франции? Или чувство, испытываемое мною, — это гордость? Королева здесь не ради меня. Или мое сердце забилось от счастья? Но я больше не люблю королеву.
Полно! Будь спокойнее, недостойная монахиня, не принадлежащая ни Богу, ни свету; постарайся принадлежать хотя бы самой себе".
Так бранила себя Андре, спускаясь по главной лестнице; овладев собой, она согнала с лица мимолетный румянец, вызванный нетерпением, и умерила поспешность движений. Но чтобы добиться этого, ей пришлось затратить на последние шесть ступенек больше времени, чем на первые тридцать.
Когда Андре вошла и встала позади клира в парадной приемной, ярко освещенной люстрами и свечами, которые торопливо зажигали несколько послушниц, она была бледна, холодна и спокойна.
Услышав свое имя, произнесенное сопровождающей ее привратницей, и увидев Марию Антуанетту, сидевшую в кресле настоятельницы среди подобострастной толпы наиболее родовитых монахинь капитула, Андре почувствовала такое сердцебиение, что ей пришлось простоять несколько секунд неподвижно.
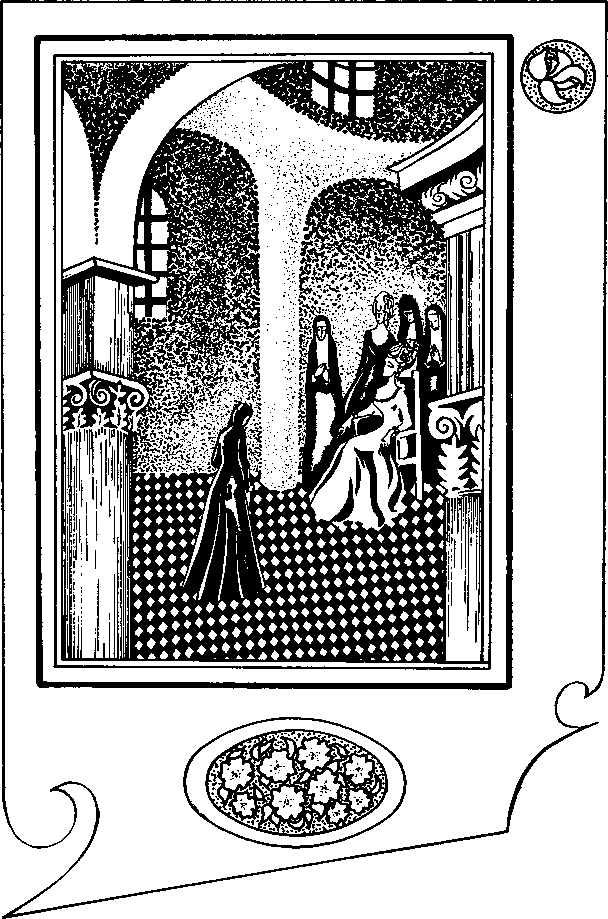
— Ну, подойдите же ко мне, мадемуазель, дайте поговорить с вами, — с полуулыбкой сказала королева.
Андре подошла и склонила голову.
— Вы позволите, мать моя? — спросила королева, обернувшись к настоятельнице.
Та ответила почтительным поклоном и вышла в сопровождении остальных монахинь. Королева осталась наедине с Андре, у которой сердце билось так сильно, что можно было бы слышать его удары, если бы не медленный стук маятника старинных часов.
XXVI
УМЕРШЕЕ СЕРДЦЕ
Согласно этикету, королева первая начала разговор.
— Вот и вы наконец, мадемуазель, — сказала она с тонкой улыбкой. — Знаете, странно видеть вас в монашеском одеянии.
Андре ничего не ответила.
— Увидеть свою прежнюю подругу, — продолжала королева, — уже умершую для мира, в котором мы еще продолжаем жить, — это нечто вроде сурового предостережения, которое нам шлет могила. Вы не согласны со мной, мадемуазель?
— Ваше величество, — возразила Андре, — кто же позволил бы себе делать предостережения вам? Сама смерть оповестит королеву о своем прибытии только в тот самый день, когда решит похитить ее. Да и как бы она могла иначе поступить?
— Почему же?
— Потому, ваше величество, что королева по своему высокому положению обречена претерпевать только те страдания, которых не может избегнуть никто. Она имеет все, что может улучшить ее жизнь; все, что может украсить ее земное поприще, она, если ей это понадобится, может взять у других людей.
Королева сделала удивленный жест.
— И это ее право, — поторопилась добавить Андре. — Другие люди для королевы — это совокупность подданных, имущество, честь и жизнь которых принадлежат суверенам. Значит, их жизнь, честь и блага, нравственные или материальные, — собственность королев.
— Такие взгляды меня удивляют, — медленно проговорила Мария Антуанетта. — По-вашему, королева этой страны — какая-то людоедка из сказки, поглощающая богатства и счастье простых граждан. Разве я такая женщина, Андре? Разве вы действительно имели основание жаловаться на меня, когда были при дворе?
— Ваше величество по своей доброте уже предложили мне этот вопрос, когда я оставляла двор, — ответила Андре, — и я ответила на него, как отвечаю и теперь: нет, ваше величество
— Но часто случается, — продолжала королева, — что нас затрагивает и не личная обида. Не сделала ли я что-нибудь дурное кому-то из ваших близких и тем заслужила суровые слова, только что произнесенные вами? Андре, выбранное вами жилище представляет убежище от всех низменных мирских страстей. Тут Бог учит нас кротости, воздержанию, забвению обид — всем добродетелям, совершеннейшим воплощением которых является он сам. Неужели, приехав сюда, чтобы встретиться с сестрою во Христе, я должна увидеть строгое чело и услышать слова, полные желчи? Неужели я, приехав сюда как друг, должна встретить упреки или затаенную вражду непримиримого врага?
Андре подняла глаза, изумленная этой кротостью, к которой не были привычны приближенные и слуги Марии Антуанетты. Она обыкновенно становилась надменной и жестокой, встречая противоречие.
Выслушать без раздражения то, что ей сказала Андре, было со стороны королевы таким доказательством терпимости и дружбы, что непримиримая затворница была глубоко тронута.
— Вашему величеству известно, что Таверне не могут быть врагами королевы, — более тихим голосом проговорила она.
— Я понимаю, — ответила королева. — Вы мне не прощаете, что я была холодна с вашим братом, и сам он, быть может, обвиняет меня в легкомыслии, в капризах?
— Мой брат слишком почтительный подданный, чтобы обвинять в чем-либо королеву, — сказала Андре, стараясь сохранить свою неприступность.
Королева поняла, что возбудит подозрения, если увеличит количество меда, предназначенного ею для приручения отшельницы, и разом прекратила такие попытки.
— Как бы там ни было, — сказала она, — но, приехав в Сен-Дени поговорить с настоятельницей, я хотела вас видеть и уверить вас, что и вблизи и вдали я остаюсь вашим другом.
Андре почувствовала новый оттенок в словах королевы; она испугалась, не обидела ли она в свою очередь ту, которая выказывала ей ласку; но больше всего ее страшила мысль, не обнажила ли она свою мучительную рану перед зоркими глазами женщины.
— Желание вашего величества для меня большая честь и большая радость, — грустно проговорила она.
— Не говорите так, Андре, — возразила королева, сжимая ее руку, — вы раздираете мне сердце. Как, неужели несчастная королева не может иметь друга, не может располагать ничьей душою, не может доверчиво читать своим взглядом в таких прелестных глазах, как ваши, не подозревая в них ни корысти, ни вражды? Да, да, Андре, завидуйте королевам, обладательницам богатств, чести и жизни всех людей. О да, они — королевы; о да, они обладают золотом и могут распоряжаться кровью своего народа, но сердцами никогда! Никогда! Они не могут брать их; люди сами должны их подарить.
— Уверяю вас, ваше величество, — сказала Андре, поколебленная этой горячей речью, — что я любила вас так сильно, как никогда уже никого не полюблю на этом свете.
При этих словах она покраснела и опустила голову.
— Вы… меня… любили! — воскликнула королева, схватывая на лету эти слова Андре. — Значит, вы меня больше не любите?
— О, ваше величество!
— Я ничего у вас не спрашиваю, Андре. Будь проклят монастырь, если он так скоро убивает воспоминания в некоторых сердцах.
— Не обвиняйте мое сердце, — с живостью сказала Андре, — оно умерло!
— Ваше сердце умерло! Вы, Андре, молодая, прекрасная, и вы говорите, что ваше сердце умерло! Ах, не играйте этими зловещими словами! У того, кто сохранил такую улыбку, такую красоту, сердце не умерло; не говорите этого, Андре.
— Повторяю вам, ваше величество, что для меня более нет ничего ни при дворе, ни во всем свете. Я живу здесь, как трава, как растение; у меня есть радости, понятные мне одной. Вот почему только что я, робкая и безвестная монахиня, не сразу поняла вас, когда вы появились здесь, в блеске пышности и величия; мои глаза сомкнулись, ослепленные вашим блестящим ореолом… Умоляю вас простить меня, ведь забвение пышной светской суеты не особенно большое преступление… Мой духовник ежедневно поздравляет меня с этим. Умоляю вас, ваше величество, не будьте строже, чем он.
— Как, вам нравится жизнь в монастыре?
— Я счастлива своим уединением.
— И ничто более не влечет вас к мирским радостям?
— Ничто.
"Боже мой, — подумала с тревогой королева, — неужели я потерплю неудачу?"
И трепет ужаса пробежал по ее жилам.
"Попытаемся соблазнить ее, — сказала она себе, — если это не удастся, то я прибегну к мольбам. О, просить ее об этом, просить ее принять предложение господина де Шарни! Милосердное Небо, какой несчастной надо быть для этого!"
— Андре, — начала снова Мария Антуанетта, подавляя волнение, — вы сейчас так ясно выразили свою удовлетворенность, что лишили меня надежды, которую я питала.
— Какую надежду, ваше величество?
— Не будем говорить об этом, если ваше решение настолько твердо, как оно мне представляется. Увы! Она была для меня призраком душевной радости, и он рассеялся. Для меня все — тень. Не будем больше думать об этом.
— Но, ваше величество, именно ввиду того, что это должно доставить вам удовольствие, объясните мне…
— К чему? Ведь вы покинули свет, не правда ли?
— Да, ваше величество.
— Вполне добровольно?
— О, совершенно добровольно.
— И вы довольны своим поступком?
— Более чем когда-либо.
— Вы видите, что мне не к чему и говорить. А Бог свидетель, я на мгновение поверила, что сделаю вас счастливой.
— Меня?
— Да, вас, неблагодарную, обвиняющую меня. Но теперь вы узнали другие радости и лучше меня отдали себе отчет в своих вкусах и своем призвании. Я отказываюсь…
— Все же, ваше величество, окажите мне честь хотя бы намекнуть…
— О, все очень просто: я хотела вернуть вас ко двору.
— Ах, — воскликнула Андре с горькой улыбкой, — вернуть меня ко двору?.. Боже мой!.. Нет, нет! Никогда, ваше величество, хотя мне тяжело ослушаться вас.
Королева вздрогнула. Невыразимая боль наполнила ее сердце; она терпела крушение, как могучий корабль на крохотной гранитной скале.
— Вы отказываетесь? — прошептала она и закрыла лицо руками, чтобы не выдать своего смятения.
Андре, думая, что она подавлена горем, подошла к ней и встала на колени, как бы желая своею почтительностью смягчить рану, нанесенную ею дружбе или гордости королевы.
— Полно, что стали бы вы делать при дворе со мной, печальной, ничтожной, бедной, проклятой, от которой все бегут, ибо я, злосчастная, не сумела внушить женщинам даже легкого опасения найти во мне соперницу, а мужчинам — самой заурядной симпатии, обычной между обоими полами? Ах, ваше величество, дорогая повелительница, оставьте эту монахиню, которую и сам Бог еще не принимает, находя ее слишком несовершенной, хотя он принимает всех немощных телом и духом. Предоставьте меня моему ничтожеству, моему одиночеству; покиньте меня.
— Ах, то положение, которое я хотела предложить вам, — сказала королева, поднимая глаза, — сводит на нет все унижения, на которые вы жалуетесь! Брак, о котором идет речь, сделал бы вас одною из знатнейших дам во Франции.
— Брак!.. — пролепетала изумленная Андре.
— Вы отказываетесь? — сказала королева, все более теряя надежду.
— О да! Я отказываюсь, я отказываюсь!
— Андре… — начала королева.
— Я отказываюсь, ваше величество, отказываюсь.
Тогда Мария Антуанетта, сердце которой мучительно сжалось, решила приступить к мольбам. Но в ту минуту, когда королева нерешительно приподнималась с места, вся дрожа, в растерянности, не зная, с чего начать, Андре преградила ей дорогу. Она удержала королеву за платье, думая, что та хочет уехать.
— Ваше величество, — сказала она, — окажите мне великую милость сообщить имя того человека, который согласен иметь меня подругой жизни. Я столько терпела в жизни унижений, что имя этого великодушного человека…
Она улыбнулась с мучительной иронией и продолжала:
— Имя его будет целительным бальзамом, которым я отныне буду врачевать раны своей гордости.
Королева поколебалась с минуту; но ей надо было довести дело до конца.
— Господин де Шарни, — сказала она грустно-безразличным тоном.
— Господин де Шарни! — воскликнула потрясенная Андре. — Господин Оливье де Шарни?
— Господин Оливье, да, — сказала королева, глядя с удивлением на молодую девушку.
— Племянник господина де Сюфрена? — продолжала Андре, раскрасневшись, с заблестевшими, как звезды, глазами.
— Племянник господина де Сюфрена, — отвечала Мария Антуанетта, все более поражаясь перемене, происшедшей во внешности Андре.
— И вы хотите выдать меня за господина Оливье, скажите, ваше величество?
— Именно за него.
— И он… согласен?..
— Он просит вашей руки.
— О, я согласна, я согласна, — сказала Андре, обезумев от восторга. — Значит, он любит меня! Любит меня так же, как и я его любила!
Королева, не помня себя, дрожащая и смертельно бледная, отступила назад с глухим стоном; совершенно подавленная, она упала в кресло, между тем как Андре, не помня себя, целовала ей колени, платье, орошала слезами ее руки и осыпала их горячими поцелуями.
— Когда мы едем? — сказала она наконец, когда после подавленных восклицаний и глубоких вздохов к ней вернулся дар слова.
— Едем, — прошептала королева, чувствуя, что жизнь покидает ее, и желая во что бы то ни стало спасти свою честь, прежде чем умереть.
Она встала и оперлась на Андре, горячие губы которой тянулись к ее холодной щеке.
Девушка стала готовиться к отъезду. А несчастная королева, обладательница жизни и чести тридцати миллионов подданных, подумала с горьким рыданием:
"Боже, Боже мой! Неужели не достаточно страданий для одного-единственного сердца?
И все же, — подумала она вслед за этим, — я должна благодарить тебя, Боже мой, ибо ты спасаешь моих детей от позора и даешь мне право умереть под моей королевской мантией!"
XXVII
ГЛАВА, ГДЕ ОБЪЯСНЯЕТСЯ,
ПОЧЕМУ БАРОН СТАЛ ТОЛСТЕТЬ
Пока королева решала судьбу мадемуазель де Таверне в Сен-Дени, Филипп, чье сердце разрывалось от всего, что он слышал и узнал, торопливо готовился к отъезду.
Военному, привыкшему скитаться по свету, не нужно много времени, чтобы уложить вещи и накинуть дорожный плащ. У Филиппа были более важные, чем у кого-либо, основания как можно скорее уехать подальше из Версаля: он не хотел быть свидетелем предстоящего неизбежного позора королевы, предмета его единственной любви.
И потому он с большей, чем обыкновенно, поспешностью велел седлать лошадей, заряжал оружие и складывал в чемодан все, к чему он больше всего привык в житейском обиходе; покончив со всем этим, он велел передать г-ну де Таверне, что желает с ним переговорить.
Маленький старичок возвращался из Версаля, бодро ступая своими ножками с жиденькими икрами; эти ножки поддерживали его кругленькое брюшко. За последние три-четыре месяца барон стал толстеть, и это вызывало в нем гордость, которая станет вполне понятной, если принять во внимание, что высшая ступень тучности была у него знаком полнейшего душевного довольства.
Что же касается полнейшего довольства г-на де Таверне, то в этих словах заключалось много значений.
Итак, барон вернулся со своей прогулки во дворец в самом радостном настроении. Он сумел вечером принять должное участие в скандале, разыгравшемся днем. Он улыбался г-ну де Бретейлю, как противник г-на де Рогана; господам Субизу и Гемене — как противник г-на де Бретейля; графу Прованскому — как противник королевы; графу д’Артуа — как противник графа Прованского; ста лицам — как противник ста других, но никому — как сторонник кого-нибудь. У него были большие запасы злобы и маленьких подлостей. Наполнив свою корзину, он возвращался совершенно счастливым.
Когда лакей доложил ему, что сын желает говорить с ним, он, вместо того чтобы ждать визита Филиппа, лично пересек лестничную площадку, направляясь к отъезжающему, и без доклада вошел в комнату, где царил беспорядок, предшествующий отъезду.
Филипп не ожидал особенной вспышки чувствительности со стороны отца, когда тот узнает о его решении, но не ждал и особенного равнодушия. Действительно, Андре уже покинула отцовский дом, значит, стало одним человеком меньше из тех, кого он мог мучить. Старый барон, вероятно, ощущал некоторую пустоту, но когда эта пустота, после отъезда последней его жертвы станет полной, то он, как ребенок, у которого отняли собачку или птичку, весьма возможно, начнет хныкать, хотя бы из одного эгоизма. Но каково было удивление Филиппа, когда он услышал веселый смех и восклицание барона:
— Ах, Боже мой! Он уезжает, он уезжает!..
Филипп с изумлением посмотрел на отца.
— Я был в этом уверен, — продолжал барон, — я мог биться об заклад. Славно сыграно, Филипп, славно сыграно!
— Что такое, сударь, — спросил молодой человек. — Скажите, прошу вас, что славно сыграно?
Старик в ответ стал что-то напевать, подпрыгивая на одной ноге и поддерживая растущее брюшко обеими руками.
В то же время он глазами усиленно делал знаки Филиппу, чтобы тот отпустил камердинера.
Поняв это, Филипп повиновался. Барон выпроводил Шампаня и сразу запер за ним дверь. Вернувшись к сыну, он тихо сказал ему:
— Превосходно! Превосходно!
— Вы расточаете похвалы по моему адресу, сударь, — холодно сказал Филипп, — но я не знаю, чем их заслужил…
— Ах-ах-ах! — вихляясь, произнес старик.
— …если только вся эта веселость, сударь, не вызвана моим отъездом, избавляющим вас от меня.
— Ох-ох-ох! — сказал барон, смеясь. — Ну-ну, не стесняйся же при мне, право, не стоит… Ты знаешь ведь, что тебе меня не провести… Ах-ах-ах!
Филипп скрестил руки, спрашивая себя, не начал ли старик сходить с ума.
— Не провести? Но чем же? — сказал он.
— Своим отъездом, конечно! Не воображаешь ли ты, что я ему верю, этому отъезду?
— Вы не верите?
— Шампаня здесь нет, повторяю тебе. Нечего скрываться; к тому же я соглашаюсь, что такое решение было единственно возможным; ты решился, это хорошо.
— Сударь, вы меня так удивляете!..
— Да, довольно удивительно, что я угадал это. Но что поделаешь, Филипп; нет человека любопытнее меня, а когда меня охватывает любопытство, я начинаю доискиваться. Нет человека счастливее меня, когда нужно что-нибудь выискать; вот я и обнаружил, что ты якобы собираешься уезжать, за что прими мои поздравления.
— Якобы? — воскликнул заинтриговано Филипп.
Старик подошел ближе, ткнул в грудь Филиппа своими костлявыми, как у скелета, пальцами и продолжал, становясь все откровеннее:
— Честное слово, я уверен, что без этой уловки все было бы открыто. Ты вовремя спохватился. Завтра было бы уже поздно. Уезжай скорее, дитя мое, уезжай скорее.
— Сударь, — сказал Филипп ледяным тоном, — уверяю вас, что я не понимаю ни единого слова из того, что имел честь слышать от вас.
— Где ты спрячешь лошадей? — продолжал старик, не давая прямого ответа. — У тебя есть одна кобыла, которую легко признать… Берегись, чтобы ее не увидели здесь, когда тебя будут считать находящимся в… Кстати, куда именно ты направишься… для виду?
— Я еду в Таверне-Мезон-Руж.
— Хорошо… очень хорошо… ты делаешь вид, что едешь в Мезон-Руж… Никто не будет проверять этого… Однако будь осторожен: на вас обоих устремлено много глаз.
— На нас обоих?.. На кого же?
— Она, видишь ли, очень пылкого характера, — продолжал старик, — и своими бурными вспышками способна все погубить. Берегись, будь благоразумнее ее…
— Послушайте, — воскликнул Филипп с глухой яростью, — я действительно прихожу к заключению, сударь, что вы потешаетесь на мой счет, и это, клянусь вам, вовсе не говорит о вашей доброте! К тому же это нехорошо, потому что вы, видя мое сильное огорчение и раздражение, вынуждаете меня нарушить долг почтения по отношению к вам.
— Почтения? Ну, от него я тебя освобождаю… Ты достаточно взрослый малый, чтобы устраивать наши дела, и справляешься с этим так успешно, что сам внушаешь мне почтение. Ты Жеронт, а я Шалый. Послушай, оставь мне адрес, по которому я мог бы известить тебя, если случится что-нибудь неотложное.
— Таверне, сударь, — сказал Филипп, полагая, что к старику наконец вернулся здравый смысл.
— Ты шутишь! Таверне в восьмидесяти льё отсюда! Ты воображаешь, что если мне надо будет дать тебе важный, спешный совет, то я стану наугад гнать курьеров по дороге в Таверне? Полно! Я ведь не прошу тебя дать мне адрес твоего домика в парке, потому что кто-нибудь мог бы проследить за моими посланцами или узнать мою ливрею, но выбери другой какой-нибудь адрес на расстоянии четверти часа пути… Есть же у тебя фантазия, какого черта! Тот человек, который ради своей любви делает то, что ты сейчас сделал, должен всегда уметь найтись, черт возьми!
— Домик в парке! Любовь, фантазия! Сударь, мы играем в загадки, причем отгадок вы мне не говорите.
— Я не знаю чудовища более явного и более скрытного, чем ты! — с досадой воскликнул отец. — Мне никогда не приходилось также встречать более обидную скрытность! Право, можно подумать, что ты боишься, как бы я не выдал тебя. Это было бы странно!
— Сударь! — вне себя воскликнул Филипп.
— Хорошо, хорошо, держи свои тайны при себе; храни тайну о нанятом тобою домике прежнего начальника волчьей охоты.
— Я нанял домик начальника волчьей охоты? Я?
— Храни про себя тайну твоих ночных прогулок с двумя очаровательными приятельницами.
— Я!.. Мои прогулки! — прошептал, бледнея, Филипп.
— Храни тайну поцелуев, которым, как меду, дали жизнь цветы и прохладная роса.
— Сударь! — почти закричал Филипп, пьянея от безумной ревности. — Сударь, замолчите ли вы?
— Хорошо, хорошо, повторяю тебе: все, что ты делал, было мне известно, а говорил я тебе об этом? Мог ли ты заподозрить, что я все это знал? Твоя близость с королевой, милостиво встретившей твои ухаживания, твои прогулки в купальню Аполлона, Боже мой! Да ведь это жизнь и счастье для всех нас! Так не бойся же меня, Филипп… Доверься же мне.
— Сударь, вы внушаете мне отвращение! — воскликнул Филипп, закрывая лицо руками.
И действительно, несчастный Филипп чувствовал отвращение к человеку, который обнажал его раны и, не довольствуясь этим, растягивал края этих ран, бередил их с какою-то яростью. Он в самом деле испытывал отвращение к человеку, который приписывал ему счастье другого и, думая, что льстит ему, жестоко терзал его счастьем соперника.
Все, что отец узнал, все, что угадал, все, что недоброжелатели приписывали г-ну де Рогану, а более сведущие лица связывали с Шарни, — все это барон относил к своему сыну. По его мнению, человек, любимый королевою, был Филипп, которого она мало-помалу, незаметно вела к высокому положению фаворита. Вот причина полного душевного довольства, от которого за последние месяцы стало отрастать брюшко г-на де Таверне.
Филипп, натолкнувшись на эту новую трясину гнусности, содрогнулся при мысли, что его толкает туда тот самый человек, который должен был бы действовать с ним заодно ради их общей чести. Удар этот был так жесток, что Филипп в первую минуту был совершенно ошеломлен и не мог выговорить ни слова, пока барон продолжал болтать с еще большим оживлением.
— Знаешь, — продолжал он, — ты все сделал мастерски, ты направил всех по ложному следу… Сегодня вечером пятьдесят взглядов сказали мне: "Это Роган!" Сто Взглядов говорили: "Это Шарни!", а двести: "Это Роган и Шарни!" Ни один, слышишь ли, ни один не сказал: "Это Таверне!" Повторяю тебе, ты все сделал мастерски, и мои поздравления — самое меньшее, что тут можно сказать. Впрочем, милый мой, это делает честь и тебе и ей. Ей — потому что она выбрала тебя; тебе — потому что ты умеешь держать ее в своей власти.
Филипп, взбешенный этою последнею стрелой, устремил на безжалостного старика молниеподобный взгляд, служивший предвестником бури; но раздавшийся во дворе стук кареты и вслед за тем какой-то непонятный шум и беготня отвлекли его внимание.
До него донесся голос Шампаня:
— Мадемуазель! Это мадемуазель!
И несколько голосов повторяли наперебой:
— Мадемуазель!..
— Как мадемуазель? — сказал барон. — Какая еще мадемуазель?
— Это моя сестра! — прошептал изумленный Филипп, узнав Андре, которая выходила из кареты, освещенная факелом швейцара.
— Ваша сестра!.. — повторил старик. — Андре? Может ли это быть?
Вошедший в это время Шампань подтвердил слова Филиппа.
— Сударь, — обратился он к нему, — мадемуазель, ваша сестра, прошла в будуар, смежный с большой гостиной; она желает поговорить с вами.
— Пойдемте к ней! — воскликнул барон.
— Она имеет дело ко мне, — сказал Филипп с поклоном, — и если позволите, я пойду первым.
В эту минуту вторая карета с шумом въехала во двор.
— Кого там еще черт принес? — пробормотал барон. — Сегодня вечер неожиданностей.
— Господин граф Оливье де Шарни! — крикнул швейцар лакеям.
— Проведите господина графа в гостиную, — приказал Филипп Шампаню, — господин барон его примет… Я иду в будуар говорить с сестрой.
Оба медленно стали спускаться по лестнице.
"Что привело сюда графа?" — спрашивал себя Филипп.
"Что привело сюда Андре?" — думал барон.
XXVIII
ОТЕЦ И НЕВЕСТА
Гостиная находилась в главном корпусе дома, в нижнем этаже. Налево от нее был будуар, откуда по лестнице можно было пройти на половину Андре.
Направо была другая маленькая гостиная, через которую был вход в большую.
Филипп быстро прошел в будуар, где ждала его сестра. Еще в передней он ускорил шаги, чтобы скорее обнять любимую сестру.
Как только он открыл двустворчатую дверь будуара, Андре обвила его шею руками и расцеловала его с такой радостью, которая уже давно стала незнакома ее печальному, влюбленному и несчастному брату.
— Милосердное Небо! Что с тобой случилось? — спросил молодой человек у Андре.
— Счастье! Большое счастье, брат мой!
— И ты вернулась, чтобы объявить мне об этом?
— Я вернулась навсегда! — воскликнула Андре в таком порыве восторга, что ее восклицание прозвучало каким-то торжествующим возгласом.
— Тише, сестренка, тише, — сказал Филипп, — стены этого дома уже давно отвыкли от проявлений радости, и притом рядом в гостиной есть или сейчас будет одно лицо, которое может тебя услышать.
— Одно лицо? — проговорила Андре. — Кто же это?
— Прислушайся, — сказал Филипп.
— Господин граф де Шарни! — доложил лакей, вводя Оливье из маленькой гостиной в большую.
— Он! Он! — воскликнула Андре, с новой силой целуя брата. — О, иди к нему; я хорошо знаю, что привело его сюда!
— Ты это знаешь?
— И настолько хорошо, что не могу не заметить, кое-какой беспорядок в моем туалете, а так как я предвижу минуту, когда и мне надо будет войти в эту гостиную, чтобы собственными ушами выслушать то, что желает сказать господин де Шарни…
— Ты говоришь это серьезно, милая моя Андре?
— Слушай, слушай, Филипп, и позволь мне подняться к себе. Королева несколько поспешно увезла меня, и я пойду переменить это монастырское платье на… наряд невесты.
Шепнув это последнее слово на ухо брату, Андре весело поцеловала его и легкой, радостной походкой исчезла на лестнице, которая вела в ее комнаты.
Филипп остался один и, приложив ухо к двери, отделявшей будуар от гостиной, стал прислушиваться.
Граф де Шарни был в гостиной. Он медленно расхаживал по паркету и, казалось, скорее раздумывал о чем-то, чем ждал хозяина.
Но вот вошел г-н де Таверне-отец и приветствовал графа с изысканной, хотя несколько натянутой, любезностью.
— Чему обязан честью этого неожиданного посещения, господин граф? — спросил он. — Во всяком случае, прошу вас верить, что оно преисполняет меня радостью.
— Я приехал, сударь, как вы видите, с официальным визитом и прошу вас извинить меня, что я не привез с собою своего дядю, господина бальи де Сюфрена, как должен был бы сделать.
— Помилуйте, — пробормотал барон, — я вполне извиняю вас, любезный господин де Шарни.
— Я сознаю, что его присутствие было бы необходимо при той просьбе, с которой я собираюсь обратиться к вам.
— Просьбе? — переспросил барон.
— Я имею честь, — продолжал Шарни сдавленным от волнения голосом, — просить у вас руки мадемуазель Андре де Таверне, вашей дочери.
Барон подскочил в своем кресле. Он широко открыл загоревшиеся глаза, которые, казалось, готовы были пожирать каждое слово, произнесенное господином де Шарни.
— Моей дочери!.. — пробормотал он, — вы просите у меня руки Андре?
— Да, господин барон, если только мадемуазель де Таверне не чувствует отвращения к этому союзу.
"Вот как! — подумал старик, — неужели благоволение к Филиппу стало уже настолько явно, что один из его соперников хочет им воспользоваться, женившись на его сестре? Ей-Богу, это тоже недурно сыграно, господин де Шарни".
— Ваше предложение, — отвечал он громко, с улыбкой, — делает такую честь всей нашей семье, господин граф, что я с радостью соглашусь на него, насколько это в моей власти, и так как я непременно хочу, чтобы вы могли увезти отсюда полное согласие, то сейчас же прикажу пригласить сюда мою дочь.
— Сударь, — холодно прервал его граф, — мне кажется, что это будет излишне. Королеве угодно было справиться у мадемуазель де Таверне на этот счет, и ответ вашей дочери был благоприятен для меня.
— А, — проговорил барон со все возрастающим изумлением, — так королева…
— Соблаговолила сама отправиться в Сен-Дени, да, господин барон.
— В таком случае мне остается только сказать вам, господин граф, каково приданое мадемуазель де Таверне. У меня наверху хранятся документы о состоянии ее матери. Вы женитесь не на богатой девушке, господин граф, и прежде чем кончать дело…
— Это лишнее, господин барон, — сухо проговорил Шарни. — Моего состояния хватит на двоих, а мадемуазель де Таверне не такая девушка, чтобы можно было торговаться о ее приданом. Но тот вопрос, который вы намеревались обсуждать со мной, господин барон, я со своей стороны, считаю необходимым выяснить, дав вам отчет о состоянии моих дел.
Не успел он договорить, как дверь будуара отворилась и появился Филипп, бледный и встревоженный, держа одну руку на груди и судорожно стиснув другую.
Шарни церемонно раскланялся с ним и получил в ответ такой же поклон.
— Сударь, — сказал Филипп, — отец мой был прав, предлагая вам переговорить о семейных делах; мы оба должны дать вам некоторые объяснения. Пока господин барон поднимется к себе наверх за бумагами, о которых он упомянул, я буду иметь честь более подробно обсудить с вами этот вопрос.
Неодолимо властным взглядом Филипп приказал барону выйти, и тот неохотно покинул гостиную, предвидя какую-то помеху.
Филипп проводил барона до выходной двери из маленькой гостиной, чтобы убедиться, что в этой комнате никого не будет. Затем он так же взглянул в будуар и только тогда, уверенный, что никто, кроме собеседника, не услышит его, сказал графу, скрестив руки на груди:
— Господин де Шарни, как могло случиться, что вы осмелились сделать предложение моей сестре?
Оливье отступил и покраснел.
— Не для того ли, — продолжал Филипп, — чтобы лучше скрыть свои любовные отношения с той женщиной, которую вы преследуете, с той женщиной, которая вас любит? Не для того ли, чтобы, видя вас женатым, никто не мог говорить, что у вас есть любовница?
— Право сударь, вы… — с замешательством начал Шарни, изменившись в лице.
— Не для того ли, — продолжал Филипп, — чтобы, став мужем женщины, которая во всякое время будет иметь доступ к вашей любовнице, иметь большую возможность видеть обожаемую любовницу?
— Сударь, вы переступаете все границы!
— А быть может, для того, — продолжал Филипп, подходя к Шарни, — и скорее всего это именно так, чтобы я, сделавшись вашим шурином, не выдал то, что я знаю о ваших недавних любовных похождениях?
— То, что вы знаете! — воскликнул в ужасе Шарни. — О, берегитесь, берегитесь!
— Да, — продолжал все с большим жаром Филипп, — про нанятый вами домик начальника волчьей охоты; про ваши таинственные прогулки в версальском парке… ночью… про пожимание рук, про вздохи и особенно про обмен нежными взглядами у маленькой калитки парка…
— Сударь, во имя Неба! Сударь, вы ничего не знаете… Скажите, что вы ничего не знаете!
— Я ничего не знаю?! — воскликнул Филипп с беспощадной иронией. — Как же мне не знать, если я был за кустами у калитки за купальней Аполлона, когда вы вышли из этой калитки под руку с королевой!
Шарни сделал два шага, как пораженный насмерть человек, ищущий какой-нибудь опоры.
Филипп смотрел на него в суровом молчании. Он предоставлял ему страдать, предоставлял искупать этим кратковременным мучением те часы неописуемого блаженства, которыми его попрекнул.
Шарни сумел оправиться от своей слабости.
— Что же, сударь, даже после того, что вы мне рассказали, — проговорил он, — я прошу у вас, именно у вас руки мадемуазель де Таверне. Если бы это было с моей стороны только низким расчетом, как вы только что предположили, если бы я собирался жениться только в своих интересах, я был бы таким негодяем, что боялся бы человека, владеющего тайной королевы и моей. Но королева должна быть спасена, сударь, это необходимо.
— А разве королеве грозит гибель, — сказал Филипп, — оттого, что господин де Таверне видел, как она пожимала руку господину де Шарни и поднимала к небу глаза, увлажненные слезами счастья? Разве ей грозит гибель оттого, что я знаю о ее любви к вам? О, это недостаточная причина, чтобы принести в жертву мою сестру, сударь, и я не допущу этого.
— Сударь, — ответил Оливье, — знаете ли вы, почему королева погибла, если этот брак не состоится? Сегодня утром, в то время, как арестовали господина де Рогана, король застал меня на коленях перед королевой.
— Боже мой!..
— И королева на ревнивые расспросы короля отвечала, что я опустился перед ней на колени, чтобы просить у нее руки вашей сестры. Вот почему, сударь, если я не женюсь на вашей сестре, королева погибла. Понимаете вы теперь?
Двойной звук заставил Оливье оборвать свою речь: крик и тяжелый вздох.
Оливье поспешил туда, откуда послышался вздох: он увидел в будуаре Андре, одетую в белое платье, как невеста. Она все слышала и упала в обморок.
Филипп побежал на крик, раздавшийся в маленькой гостиной. Он увидел тело барона де Таверне, которого как гром поразило известие о любви королевы к Шарни, означавшее крушение всех его надежд.
Сраженный апоплексическим ударом, он испустил последний вздох.
Предсказание Калиостро исполнилось.
Филипп понял все, понял, насколько постыдна была эта смерть; он молча оставил труп и вернулся в гостиную к Шарни, который, весь дрожа, не смея к ней прикоснуться, смотрел на лежавшую перед ним прекрасную холодную и бездыханную девушку. Через две открытые двери можно было видеть два тела, лежавшие друг против друга на тех местах, где их сразило сделанное ими открытие.
Филипп, у которого в глазах стояли слезы и все кипело внутри, нашел тем не менее в себе мужество обратиться к господину де Шарни:
— Господин барон де Таверне только что скончался. После него я глава семьи. Если мадемуазель де Таверне останется в живых, я отдаю вам ее руку.
Шарни взглянул на тело барона с отвращением и на тело Андре с отчаянием. Филипп рвал на себе волосы, обращая к Небу возглас, способный тронуть сердце самого Господа на его предвечном престоле.
— Граф де Шарни, — сказал он, когда буря в душе его немного улеглась, — я принимаю обязательство от имени моей сестры, которая меня не слышит; она принесет свое счастье в жертву королеве, а я, быть может, когда-нибудь буду иметь счастье отдать ее величеству свою жизнь. Прощайте, господин де Шарни, прощайте, зять мой.
И, поклонившись г-ну де Шарни, который не знал, как ему уйти, не проходя мимо одной из жертв, Филипп поднял Андре, стал согревать ее тело в своих объятиях и таким образом открыл проход графу, который поспешно вышел через будуар.
XXIX
СНАЧАЛА ДРАКОН, ПОТОМ ЕХИДНА
Пора нам вернуться к тем действующим лицам нашего рассказа, которых мы на время оставили, подчиняясь развивающейся интриге и соблюдая историческую верность фактов.
Олива собиралась бежать при помощи Жанны, когда Босир, извещенный анонимным письмом, Босир, жаждавший снова завладеть Николь, оказался прямо в ее объятиях и похитил ее у Калиостро, в то время как г-н Рето де Билет напрасно ждал ее в конце улицы Золотого Короля.
Госпожа де Ламотт, убедившись, что ее провели, поставила на ноги всех своих доверенных людей, чтобы разыскать счастливых любовников, в поимке которых так сильно был заинтересован г-н де Крон.
Она, понятно, предпочитала сама охранять свою тайну, а не предоставлять другим ключ к ней; для успешного исхода подготавливаемого ею дела было необходимо, чтобы Николь оставалась недосягаемой.
Невозможно описать тревогу, которую она испытала, когда все посланные один за другим возвращались с известием о бесплодности розысков.
И в это время в своем тайном убежище она получала приказание за приказанием явиться к королеве и дать отчет о своем поведении в деле с ожерельем.
Под густой вуалью она ночью отправилась в Барсюр-Об, где у нее был маленький домик; приехав туда окольными путями и никем не узнанная, она могла не спеша обдумать свое положение в его настоящем свете.
Она, таким образом, выигрывала два-три дня, которые могла провести наедине с собой; она дала себе время, а вместе с ним силу, чтобы поддержать внутренними укреплениями здание своей клеветы.
Два дня одиночества были для этой непостижимой души днями борьбы, в исходе которой были укрощены тело и дух; теперь совесть — это опасное для виновных оружие — послушно умолкла; теперь кровь должна была привыкнуть проходить через сердце, не бросаясь в лицо и не выдавая тем стыд или растерянность.
Королева и король, отдавшие приказ отыскать Жанну, узнали о том, что она находится в Барсюр-Об, только тогда, когда она уже приготовилась к войне. Они послали за ней нарочного, который должен был привезти ее. В это время она узнала об аресте кардинала.
Другая на ее месте была бы сражена такой решительной атакой, но Жанне нечего было жалеть. Что значила свобода на тех весах, где ежедневно взвешиваются жизнь или смерть?
Узнав о заключении кардинала в тюрьму и об огласке, приданной делу Марией Антуанеттой, она хладнокровно принялась рассуждать:
"Королева сожгла свои корабли; обратной дороги для нее нет. Отказавшись войти в соглашение с кардиналом и заплатить ювелирам, она ставит на карту все. Это доказывает, что она не принимает меня в расчет и не подозревает, какими силами я располагаю".
Вот какие доспехи отковала себе Жанна в то время, как перед ней неожиданно предстал какой-то человек — не то полицейский, не то гонец — и объявил, что ему поручено доставить ее ко двору.
Гонец, имея такой приказ, собирался препроводить ее прямо к королю, но Жанна со знакомой нам ловкостью, сказала:
— Сударь, вы любите королеву, не правда ли?
— Можете ли вы в этом сомневаться, госпожа графиня?
— В таком случае, заклинаю вас вашей любовью и почтением к ней вести меня сначала к королеве.
Офицер хотел было представить ей свои возражения.
— Вы, наверное, лучше меня знаете, в чем дело, — перебила его графиня. — Поэтому вы поймите, что мне необходимо тайно поговорить с королевой.
Гонец, весь пропитанный духом клеветы, которым был насыщен последние месяцы воздух Версаля, подумал, что действительно окажет услугу королеве, если проведет к ней г-жу де Ламотт раньше, чем покажет ее королю.
Можно вообразить всю гордость и высокомерное торжество, которые выказала королева, когда оказалась в обществе этого демона: хотя она еще не узнала его вполне, но подозревала его пагубное влияние на ее дела.
Пусть читатель представит себе Марию Антуанетту, все еще неутешную вдову своей любви, погибшей от скандала; Марию Антуанетту, подавленную несправедливостью обвинения, которое она не могла опровергнуть; пусть читатель представит ее себе в ту минуту, когда она после стольких страданий собиралась наступить ногою на голову ужалившей ее змеи!
Глубокое презрение, плохо сдерживаемый гнев, ненависть женщины к женщине, сознание неизмеримого превосходства своего положения — вот каково было оружие противниц. Королева начала с того, что позвала двух своих дам в качестве свидетельниц; ее соперница вошла с опущенными глазами, со стиснутыми губами, с медленным и торжественным поклоном. Сердце, полное тайных замыслов, ум, полный планов, отчаяние как последняя движущая сила — таковы были ресурсы второго противника. Заметив придворных дам, г-жа де Ламотт сказала себе:
"Прекрасно! Этих двух свидетельниц сейчас попросят удалиться".
— А, вот и вы наконец, сударыня! — воскликнула королева. — Наконец-то вас нашли!
Жанна второй раз поклонилась.
— Вы, значит, прячетесь? — нетерпеливо спросила королева.
— Прячусь! Нет, ваше величество, — ответила Жанна кротким и едва слышным голосом: казалось, одно уже вызванное в ней величием королевского сана волнение умеряло обычную звучность ее голоса. — Я не пряталась. Если б я хотела сделать это, меня бы не нашли.
— Но все же вы убежали? Назовем это как вам угодно!
— То есть я покинула Париж, да, ваше величество.
— Без моего разрешения?
— Я боялась, что ваше величество не дадите мне маленького отпуска, который мне нужен был, чтобы устроить свои дела в Барсюр-Об; я жила там уже шесть дней, когда получила приказание явиться к вашему величеству… К тому же надо сознаться, я не считала себя настолько необходимой вашему величеству, чтобы быть обязанной предупреждать о недельной отлучке.
— Вы совершенно правы; отчего же вы боялись получить отказ? О каком отпуске вы должны у меня спрашивать? Какой отпуск я могу вам дать? Разве вы занимаете здесь какую-нибудь должность?
В этих последних словах было слишком много презрения. Жанна была задета за живое, но затаилась, как раненная стрелою дикая кошка, и смиренно сказала:
— Ваше величество, я не занимаю никакой должности при дворе, это правда, но вы почтили меня таким драгоценным доверием, что я в моей благодарности за него видела для себя более прочные узы, чем видят другие в долге.
Жанна долго искала подходящего слова и, найдя слово "доверие", особенно подчеркнула его.
Королева отвечала с еще большим презрением, чем в начале разговора:
— Мы сейчас разберемся с этим доверием. Видели вы короля?
— Нет, ваше величество.
— Вы его увидите.
Жанна поклонилась.
— Это будет для меня великой честью, — сказала она.
Королева старалась тем временем несколько успокоиться, чтобы с преимуществом для себя начать допрос.
Жанна воспользовалась этим перерывом и промолвила:
— Боже мой! Как ваше величество суровы ко мне! Я вся дрожу!
— Это еще не все, — резко сказала королева. — Вы знаете, что господин де Роган в Бастилии?
— Мне сказали это, ваше величество.
— Вы догадываетесь, за что?
Жанна пристально посмотрела на королеву и, повернувшись в сторону двух дам, присутствие которых, казалось, смущало ее, ответила:
— Я этого не знаю, ваше величество.
— Но знаете, что вы говорили мне об одном ожерелье, не правда ли?
— О бриллиантовом ожерелье; да, ваше величество.
— И что предложили мне от имени кардинала условия, чтобы облегчить уплату за это ожерелье?
— Совершенно верно, ваше величество.
— Приняла я эти условия или отказалась от них?
— Ваше величество отказались.
— А, — произнесла королева с довольным видом, к которому примешивалось некоторое удивление.
— Ваше величество даже дали двести тысяч ливров в счет уплаты, — добавила Жанна.
— Так… а что было потом?
— Потом ваше величество не смогли уплатить, потому что господин де Калонн отказал вам в деньгах, и отослали футляр с ожерельем ювелирам Бемеру и Боссанжу.
— Через кого я отослала его?
— Через меня.
— А что вы с ним сделали?
— Я, — медленно проговорила Жанна, чувствуя все значение произносимых ею слов, — я отдала бриллианты господину кардиналу.
— Господину кардиналу! — воскликнула королева. — Зачем же вы это сделали, вместо того чтобы отдать их ювелирам?
— Потому, ваше величество, что господин де Роган интересовался этим делом, занимавшим вас, и я бы оскорбила его, не доставив ему случая уладить все самому.
— Но как же вы получили расписку от ювелиров?
— Господин де Роган вручил мне эту расписку.
— А то письмо, которое вы, говорят, якобы от моего имени передали ювелирам?
— Господин де Роган просил меня передать его.
— Следовательно, в этом деле на каждом шагу замешан господин де Роган! — воскликнула королева.
— Я не знаю, что ваше величество хотите сказать, — отвечала Жанна с рассеянным видом. — В чем замешан господин де Роган?
— Я говорю, что расписка ювелиров, переданная или посланная вам для меня, подложна!
— Подложна! — с чистосердечным удивлением произнесла Жанна. — О, ваше величество!
— Я говорю, что письмо, удостоверяющее получение ожерелья, будто бы подписанное мною, подложно.
— О! — воскликнула Жанна, разыгрывая еще большее удивление.
— Я говорю, наконец, — продолжала королева, — что нужно устроить вам очную ставку с господином де Роганом, чтобы разъяснить нам это дело.
— Очную ставку! — сказала Жанна. — Но, ваше величество, к чему эта очная ставка с господином кардиналом?
— Он сам просил об этом.
— Он?
— Он всюду вас искал.
— Но, ваше величество, этого не может быть!
— По его словам, он хочет доказать, что вы обманули его.
— О! Если так, ваше величество, то я сама прошу об очной ставке.
— Она состоится, сударыня, не беспокойтесь. Итак, вы уверяете, что вам неизвестно, где ожерелье?
— Как я могу это знать?
— Вы отрицаете, что помогали господину кардиналу в его интригах?..
— Ваше величество имеет полное право лишить меня милости, но не имеет никакого права оскорбить меня. Я происхожу из дома Валуа, ваше величество.
— Господин кардинал подтвердил перед королем одну клевету, для которой он надеется представить вполне прочные доказательства.
— Я не понимаю.
— Кардинал заявил, что писал мне.
Жанна взглянула королеве в глаза и ничего не ответила.
— Вы слышите меня? — спросила королева.
— Да, слышу, ваше величество.
— И что же вы можете ответить?
— Я отвечу, когда мне дадут очную ставку с господином кардиналом.
— А до тех пор, если вы знаете правду, помогите нам.
— Правда, ваше величество, заключается в том, что вы нападаете на меня без основания и гневаетесь на меня без причины.
— Это не ответ.
— Тем не менее я не дам здесь иного, ваше величество.
И Жанна снова взглянула на дам.
Королева поняла, но не уступила. Любопытство не одержало верх над уважением к себе. В недомолвках Жанны, в ее смиренном и вместе с тем дерзком поведении сквозила уверенность, свойственная тому, кто обладает тайной. Быть может, королева могла бы лаской выведать эту тайну.
Но она отвергла это средство, как недостойное ее.
— Господин де Роган посажен в Бастилию за то, что хотел сказать слишком много, — сказала Мария Антуанетта. — Берегитесь, сударыня, как бы вам не подвергнуться той же участи за то, что вы слишком упорно молчите.
Жанна вонзила себе ногти в ладони, но улыбнулась.
— Что значит преследование для чистой совести? — сказала она. — Разве Бастилия убедит меня, что я виновна в преступлении, которого я не совершала?
Королева бросила на нее гневный взгляд.
— Будете вы говорить? — спросила она.
— Я ничего не имею сказать никому, ваше величество, кроме как вам одной.
— Мне? А разве вы не со мною говорите?
— Не с вами одной.
— А, вот оно что! — воскликнула королева. — Вы желаете вести дело при закрытых дверях! Заставив меня вынести позор всеобщего подозрения, вы теперь сами боитесь позора — сознаться в своей вине публично.
Жанна выпрямилась.
— Не будем более говорить об этом, — сказала она. — То, что я делала, я делала ради вас.
— Какая дерзость!
— Я почтительно готова претерпеть оскорбление от моей королевы, — проговорила Жанна, не меняясь в лице.
— Вы будете сегодня ночевать в Бастилии, госпожа де Ламотт.
— Пусть так. Но перед сном я, по своей привычке, буду молить Бога, чтобы он сохранил честь и счастье вашего величества, — ответила обвиняемая.
Королева встала взбешенная и прошла в соседнюю комнату, с силою хлопнув дверью.
"Победив дракона, — сказала она себе, — я сумею раздавить ехидну!"
"Я вижу насквозь ее игру, — подумала про себя Жанна, — и, кажется, победа за мной".
XXX
КАК СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ГОСПОДИН ДЕ БОСИР, РАССЧИТЫВАЯ ПООХОТИТЬСЯ НА ЗАЙЦА,
САМ БЫЛ ЗАТРАВЛЕН АГЕНТАМИ ГОСПОДИНА ДЕ КРОНА
Госпожа де Ламотт по требованию королевы была взята под стражу, что доставило чрезвычайное удовольствие королю, который инстинктивно ненавидел эту женщину.
Между тем следствие по делу об ожерелье велось со всей горячностью, какую только можно ожидать от разорившихся торговцев, надеющихся поправить свои дела; от обвиняемых, которым не терпится оправдаться; от почтенных судей, которые держат в руках жизнь и честь королевы, да к тому же обладают самолюбием и пристрастностью.
Со всех уст во Франции сорвался крик, и по его оттенкам королева могла распознать и сосчитать своих приверженцев или врагов.
С той самой минуты, как г-н де Роган был арестован, он не переставал требовать очной ставки с г-жой де Ламотт. Его желание было удовлетворено. Принц жил в Бастилии как вельможа, в снятом им доме. Все, что бы он ни попросил, было к его услугам, кроме свободы.
Вначале дело казалось ничтожным, если учесть общественное положение обвиняемых. Поэтому всех удивило, что одному из Роганов могло быть предъявлено обвинение в краже; поэтому офицеры и комендант Бастилии выражали кардиналу почтение и сочувствие, которого заслуживало его несчастье. В их глазах это был не обвиняемый, а человек, впавший в немилость.
Все изменилось, когда распространился слух, что г-н де Роган пал жертвой придворных интриг. Тогда все стали выражать принцу уже не просто симпатию, а восторг.
А г-н де Роган, один из знатнейших людей королевства, не понимал, что всеобщая любовь к нему проистекала единственно из того, что его преследователи — люди еще более высокого рода, чем он. Господин де Роган, последняя жертва деспотизма, был на самом деле одним из первых революционеров во Франции.
Его разговор с г-жой де Ламотт ознаменовался примечательным эпизодом. Графине разрешалось говорить тихо всякий раз, когда дело касалось королевы, и ей удалось шепнуть кардиналу:
— Удалите всех, и я дам вам желаемые разъяснения.
Тогда г-н де Роган пожелал, чтобы их оставили наедине и он мог тихо расспросить графиню.
В этом ему отказали, но позволили переговорить с графиней его защитнику.
На вопрос относительно ожерелья она ответила, что не знает, куда оно девалось, но что его вполне могли бы отдать ей.
И когда сраженный смелостью этой женщины защитник стал ей возражать, она задала вопрос: разве услуга, оказанная ею королеве и кардиналу, не может быть оценена в миллион?
Защитник повторил эти слова кардиналу, который побледнел и опустил голову, поняв, что попал в сети этого адского птицелова.
Но если сам он и начинал подумывать о том, чтобы замять это дело, губившее королеву, то враги и друзья убеждали его не прекращать военных действий.
Ему напоминали, что затронута его честь, что речь идет о краже, что без решения парламента невиновность его не будет доказана.
Однако, чтобы доказать эту невиновность, надо было доказать связь между кардиналом и королевой, а следовательно, ее преступление.
Жанна на все эти соображения ответила, что никогда не станет обвинять ни королеву, ни кардинала; но если на нее будут продолжать сваливать ответственность за пропажу ожерелья, то она сделает то, чего хотела избежать, то есть докажет, что королеве и кардиналу выгодно обвинять ее во лжи.
Когда это требование было передано кардиналу, он выразил свое полное презрение к особе, собиравшейся его выдать. Он добавил, что до известной степени понимает поведение Жанны, но совершенно не может постичь поведение королевы.
Эти слова, сообщенные Марии Антуанетте с соответствующими комментариями, вызвали в ней сильнейшее раздражение и негодование. Она пожелала, чтобы все таинственное в этом процессе было подвергнуто специальному расследованию. Тогда-то стало ясно, сколь пагубны были ночные свидания, вовсю расписываемые клеветниками и распространителями слухов.
Вот когда над головой несчастной королевы нависла угроза. Жанна в присутствии приближенных королевы утверждала, что не понимает, о чем идет речь, а перед приверженцами кардинала была не так сдержанна и твердила одно:
— Пусть меня оставят в покое, или я заговорю.
Эти недомолвки, эта скромность делали ее какой-то героиней и так запутывали дело, что самые неустрашимые и опытные в разборе судебных документов лица трепетали, перелистывая дело, и ни один следователь не отваживался вести допрос графини.
Оказался ли кардинал более слабым, более откровенным? Открыл ли он одному из друзей то, что он называл своей любовной тайной? Это неизвестно, но маловероятно, так как принц был человеком необыкновенно благородным и преданным. Однако, хотя он хранил рыцарское молчание, слух о его разговоре с королевой распространился. Все, что говорил граф Прованский; все, что знали или видели Шарни и Филипп; все эти скрытые деяния, неуловимые ни для кого, кроме поклонника вроде брата короля или соперников в любви вроде Филиппа и Шарни, — вся таинственность этой чистой и оклеветанной любви рассеялась как легкий аромат и, смешавшись с атмосферой пошлости, потеряла свое первоначальное благоухание.
Нетрудно представить себе, что королева нашла горячих защитников, а г-н де Роган — усердных приверженцев.
Уже не задавали вопрос: "Украла ли королева бриллиантовое ожерелье?"
Такой вопрос сам по себе достаточно позорен; но этого уже было недостаточно. Теперь спрашивали:
"Не была ли королева вынуждена позволить украсть ожерелье кому-то, кто проник в тайну ее преступной любви?"
Вот как удалось г-же де Ламотт обойти возникшее затруднение. Вот каким образом королеве пришлось вступить на путь, имевший один исход — бесчестие. Но она не пала духом и решила бороться; король ее поддержал.
Министры также всеми силами поддерживали ее. Королева понимала, что г-н де Роган — порядочный человек, неспособный намеренно погубить женщину. Она вспомнила, с какой уверенностью он клялся, что был допущен на свидания в Версаль.
Она пришла к выводу, что кардинал не был ее личным врагом и для него, как и для нее, все дело сводилось к защите чести.
Отныне следователи все свое рвение обратили на то, чтобы выяснить роль графини в этом деле, а также на деятельные розыски пропавшего ожерелья.
Королева, соглашаясь на судебное следствие по обвинению в супружеской неверности, обрушила на Жанну грозное обвинение — кража, совершенная мошенническим образом.
Все говорило против графини: ее прошлое, ее прежняя нищета, ее странное возвышение; знать не принимала в свой круг эту выскочку, народ не желал ее считать своей, так как он инстинктивно ненавидит искателей приключений и не прощает им даже их удачи.
Жанна спохватилась, что избрала ложный путь: королева, не уклоняясь от обвинения и не отступая перед страхом огласки, тем самым побуждала кардинала последовать ее примеру, и эти две честные натуры в конце концов объединятся и откроют истину. Если же они и падут, то падение их будет так ужасно, что раздавит и уничтожит несчастную маленькую Валуа, принцессу, укравшую миллион, которого у нее даже не было в данное время под рукой, чтобы подкупить судей.
Вот каково было положение вещей, когда произошло одно событие, изменившее весь характер дела.
Господин де Босир и мадемуазель Олива жили счастливо и богато в укромном загородном доме; но однажды г-н де Босир, оставив свою подругу дома и отправившись поохотиться, попал нечаянно в общество двух агентов, которых г-н де Крон разослал по всей Франции, чтобы добиться наконец развязки всей этой интриги.
Влюбленная пара ничего не знала о том, что происходило в Париже; они думали только друг о друге. Олива толстела, как ласка в амбаре, а г-н де Босир, став счастливым, утратил беспокойное любопытство, отличающее вороватых птиц и хищных людей, — свойство, данное природой тем и другим для самосохранения.
Босир, как было сказано, в тот день пошел на охоту за зайцем. Он набрел на выводок куропаток, что заставило его перейти через дорогу. И вот таким образом, разыскивая не то, что ему следовало искать, он нашел то, чего не искал.
Агенты также искали Олива, а нашли Босира. Таковы обычные неожиданности охоты.
Один из этих сыщиков был умный человек. Узнав Босира, он вместо того чтобы грубо арестовать его, что ничего не принесло бы им, составил со своим товарищем следующий план:
— Босир охотится; значит, он пользуется свободой и имеет средства; у него в кармане найдется, быть может, пять или шесть луидоров, но очень возможно, что дома у него есть их двести или триста. Дадим ему вернуться домой; проникнем туда вместе с ним и потребуем выкуп. Если мы представим Босира в Париж, это принесет нам не более ста ливров — обычной платы за поимку преступника, и то еще нас, пожалуй, станут бранить за то, что мы переполняем тюрьмы такими нестоящими личностями. Сделаем же из Босира доходную статью для нас самих.
Они стали охотиться на куропатку, как г-н Босир, и на зайца, как г-н Босир, то науськивая собак на зайца, то вспугивая в люцерне куропатку и ни на шаг на отходя от своей жертвы.
Босир, видя, что в его охоту вмешиваются посторонние, сначала весьма удивился, потом весьма разгневался. Он был очень ревнив в отношении своей дичи, как всякий порядочный мелкопоместный дворянин, и, кроме того, очень недоверчиво относился к новым знакомствам. Вместо того чтобы самому допросить своих случайных приспешников, он подошел прямо к замеченному им на лугу сторожу и поручил ему спросить у этих господ, почему они охотятся на этой земле.
Сторож ответил, что эти господа, на его взгляд, нездешние, и добавил, что с удовольствием прекратит их охоту. Он так и сделал. Но неизвестные ответили, что они здесь вместе со своим другом, вот этим самым господином.
При этом они указали на Босира. Сторож привел их к нему, несмотря на недовольство помещика-охотника этой очной ставкой.
— Господин де Ленвиль, — сказал он, — эти господа уверяют, что охотятся с вами.
— Со мной! — вскричал разгневанно Босир. — Ах, вот как!
— А, — тихо сказал ему один из агентов, — вас, значит, зовут и господином де Ленвилем, любезный мой Босир?
Босир вздрогнул; он так хорошо скрывал свое имя в этой местности!
Он испуганно взглянул на агента, потом на его товарища. Их черты ему показались смутно знакомыми, и, не желая осложнять положения, он отпустил сторожа, согласившись признать охотников за своих товарищей.
— Значит, вы их знаете? — спросил сторож.
— Да, теперь мы узнаем друг друга, — ответил один из агентов.
И Босир остался в обществе двух охотников, испытывая затруднение: он не знал, как говорить с ними, не выдавая себя.
— Пригласите нас к себе завтракать, Босир, — сказал более ловкий из агентов.
— К себе!.. Но… — воскликнул Босир.
— Вы ведь не будете настолько невежливы с нами, Босир.
Босир совершенно потерял голову и скорее дал вести себя, чем сам повел их.
Как только агенты увидели домик, они принялись расхваливать его изящный вид, красивое местоположение, деревья вокруг и открывающийся пейзаж, как и требовалось от людей со вкусом; да и действительно Босир нашел прелестное местечко, чтобы свить себе с милой гнездышко.
Это была лесистая долина, пересеченная речкой; дом стоял на восточном склоне. Небольшая вышка, нечто вроде колоколенки без колоколов, служила для Босира наблюдательным пунктом, откуда он следил за всей округой в те дни, когда был мрачно настроен, когда его розовые мечты бледнели и ему чудился альгвасил в каждом землепашце, склоненном над плугом.
Веселый домик был виден только с одной стороны, а с других его закрывали деревья и холмистая местность.
— Как хорошо вы тут спрятались! — с восхищением сказал ему один из агентов.
Босир вздрогнул от этой шутки; он первый вошел в дом, приветствуемый лаем дворовых собак.
Агенты со всею церемонностью последовали за ним.
XXXI
ГОЛУБКИ ПОСАЖЕНЫ В КЛЕТКУ
Босир неспроста вошел через дворовую калитку: у него была мысль обратить внимание Олива на произведенный им шум и таким образом предупредить ее. Ничего не зная про дело об ожерелье, Босир достаточно знал насчет бала в Опере и истории с чаном Месмера, чтобы опасаться показывать свою подругу незнакомым людям.
Он поступил благоразумно; молодая женщина, читавшая на софе в своей маленькой гостиной фривольный роман, услышав лай собак, посмотрела во двор, увидела, что Босир не один, и поэтому не вышла ему навстречу, как делала обычно.
К несчастью, голубки были в когтях у ястребов. Пришлось заказать завтрак, и недогадливый лакей — деревенская прислуга не так-то легко превращается в Фронтенов — два или три раза спросил, надо ли спросить приказаний хозяйки.
Это слово заставило сыщиков насторожить уши. Они принялись мило подшучивать над Босиром по поводу этой прятавшейся от них дамы, общество которой для отшельника составляло приправу ко всем благам, что доставляются уединением и деньгами.
Босир не мешал им подшучивать, но не показывал им Олив&.
Подали завтрак, которому оба агента оказали честь. За столом было немало выпито и провозглашено много тостов за здоровье отсутствующей дамы.
За десертом, когда в головах стало немного шуметь, господа из полиции решили, что было бы бесчеловечно продолжать долее пытку их хозяина. Они ловко навели разговор на то, как приятно бывает людям с добрым сердцем встретиться со старыми знакомыми.
Босир, откупоривая бутылку заморского ликера, спросил незнакомцев, где и при каких обстоятельствах он с ними встречался.
— Мы, — ответил один из них, — были друзьями одного из ваших компаньонов в маленьком дельце, которое вы обделали вместе с несколькими приятелями, — дельце по португальскому посольству.
Босир побледнел. Когда упоминают о делах такого рода, всегда кажется, что в складках галстука чувствуешь конец веревки.
— А, неужели? — сказал он, весь дрожа от смущения. — Вы явились просить у меня от имени вашего друга…
— Право, это хорошая мысль, — сказал альгвасил своему товарищу, — такое вступление много приличнее. Просить о возмещении денежной суммы от имени отсутствующего друга — это вполне нравственно.
— И к тому же сохраняет за нами все права на остальное, — с кисло-сладкой улыбкой, заставившей Босира вздрогнуть с головы до ног, добавил приятель поборника нравственности.
— Итак?.. — продолжал он.
— Итак, любезный господин Босир, нам было бы приятно, если б вы вручили одному из нас долю нашего друга. Что-то около десяти тысяч ливров, кажется.
— По меньшей мере, так как мы не говорим о процентах, — добавил его положительный товарищ.
— Господа, — возразил Босир, у которого перехватило дыхание от этой решительной просьбы, — ведь живя в деревне, не держат у себя десять тысяч ливров.
— Это вполне понятно, любезный господин Босир, и мы требуем только возможного. Сколько вы можете дать сейчас?
— У меня есть пятьдесят-шестьдесят луидоров, не более.
— Мы начнем с того, что возьмем их и поблагодарим вас за вашу любезность.
"А, — подумал Босир, очарованный их снисходительностью, — они весьма сговорчивы. Или, случайно, они меня так же боятся, как и я их? Посмотрим".
И он рассудил, что если господа эти будут очень громко кричать, то этим только признают себя его соучастниками и это будет для них плохой рекомендацией в глазах местных властей. Босир заключил, что они удовольствуются названным и будут хранить полное молчание.
В своей неосмотрительной доверчивости он зашел так далеко, что стал себя бранить, почему не предложил тридцати луидоров вместо шестидесяти, но зато дал себе обещание избавиться от них как можно скорее, выплатив им эту сумму.
Но он ошибся в расчете: его гости чувствовали себя у него прекрасно; они наслаждались тем благословенным внутренним довольством, которое способствует приятному пищеварению; в эту минуту они были добры, потому что злобствовать им было бы утомительно.
— Какой прекрасный друг этот Босир, — сказал Положительный своему приятелю. — Приятно получить от него шестьдесят луидоров!
— Я сейчас дам вам их, — воскликнул хозяин, со страхом замечая, что его гостями все больше овладевает вакхическая вольность.
— Это не к спеху, — сказали оба товарища.
— Напротив, напротив, у меня совесть будет покойна только тогда, когда я расплачусь. Если человек деликатен, то уж по-настоящему.
И он хотел оставить их, чтобы идти за деньгами.
Но у этих господ были привычки сыщиков — укоренившиеся привычки, от которых трудно избавиться, когда их приобретешь. Эти господа не умели расставаться со своей добычей, коль она попадала в их руки. Так хорошая охотничья собака расстается с раненой куропаткой только для того, чтобы отдать ее охотнику.
Хороший сыщик тот, кто, захватив добычу, не сводит с нее глаз, не выпускает из рук. Он слишком хорошо знает, как прихотлива бывает иногда судьба по отношению к охотникам и как далеко может оказаться добыча, если ее не держать крепко.
Поэтому оба они с удивительным единодушием, несмотря на то, что головы их были уже отуманенные, принялись кричать:
— Господин Босир! Любезный Босир!
И при этом держали его за полы одежды из зеленого сукна.
— Что такое? — спросил Босир.
— Сделайте милость, не оставляйте нас, — говорили они, любезно принуждая его снова сесть.
— Но как же вы хотите, чтобы я принес ваши деньги, если вы не даете мне подняться наверх?
— Мы будем сопровождать вас, — ответил Положительный с пугающей нежностью.
— Но они… в комнате моей жены, — возразил Босир.
Это слово, которому он придавал то же значение, что юрист — отказу в принятии жалобы, подействовало на сбиров, как искра, поднесенная к пороху.
Таившееся в них недовольство — сыщик всегда недоволен чем-нибудь — приняло форму, образ, получило причину.
— Кстати, — воскликнул первый агент, — отчего это вы прячете вашу жену?
— Да; разве мы недостаточно приличны? — подхватил второй.
— Если бы вы знали, что мы для вас делаем, вы вели бы себя поучтивее, — продолжал первый.
— И дали бы нам все, что мы у вас просим, — смело добавил второй.
— Но, господа, вы заговорили таким тоном…
— Мы хотим видеть твою жену, — ответил Положительный.
— А я объявляю вам, что вышвырну вас за дверь! — закричал Босир, понадеявшись на то, что они пьяны.
Они ответили ему хохотом, который должен был образумить Босира. Но он не обратил на него внимания и заупрямился.
— Теперь, — сказал он, — вы не получите даже обещанных мною денег и уберетесь отсюда.
Они хохотали еще громче, чем в первый раз.
Босир задрожал от гнева и сказал глухим голосом:
— Я понимаю вас… Вы учините скандал и донесете на меня, но если вы это сделаете, то выдадите и себя вместе со мною.
Они продолжали пересмеиваться: шутка им показалась презабавной. Это был их единственный ответ.
Босир вздумал испугать их смелым поступком и бросился к лестнице уже не как должник, идущий за луидорами, а с видом взбешенного человека, кидающегося за оружием. Сбиры вскочили из-за стола и, верные своим правилам, побежали за Босиром, который тут же оказался у них в руках.
Он закричал; отворилась дверь, и на пороге комнаты второго этажа показалась растерянная, перепуганная женщина.
При виде ее агенты выпустили Босира и также вскрикнули, но это был крик радости, торжества, дикарского восторга.
Они узнали ту, что так сильно походила на королеву Франции.
Босир, вообразивший в первую минуту, что появление женщины их обезоружило, скоро испытал жестокое разочарование.
Положительный подошел к Олива и сказал тоном довольно невежливым, если учитывать упомянутое сходство:
— Ха-ха! Я вас арестую!
— Арестуете ее? — закричал Босир. — Почему?
— Потому что господин де Крон отдал нам такой приказ, — заявил другой агент, — а мы состоим на службе у господина де Крона.
Если бы молния ударила в эту минуту между двумя влюбленными, они меньше бы испугались, чем услышав эти слова.
— Вот что значит, — сказал Положительный Босиру, — быть недостаточно любезным.
Этот агент был слаб в логике, и его товарищ заметил ему:
— Ты не прав, Легриньё, — сказал он, — ведь если б Босир был полюбезнее, он показал бы нам эту даму и мы все равно задержали бы ее.
Босир опустил пылавшую голову на руки. Он даже не думал о том, что его двое слуг — лакей и кухарка — внизу у лестницы подслушивали эту странную сцену, происходившую на ступенях.
Ему пришла мысль, которая ему понравилась и ободрила его.
— Вы пришли затем, чтобы задержать меня? — спросил он у агентов.
— Нет, это вышло случайно, — наивно отвечали они.
— Все равно вы могли меня арестовать, а за шестьдесят луидоров согласны были оставить меня на свободе.
— О нет, мы намеревались спросить еще шестьдесят.
— И слову своему не изменим, — добавил другой, — за сто двадцать луидоров мы оставим вас на свободе.
— А… эту даму? — дрожа спросил Босир.
— О, это другое дело! — ответил Положительный.
— Она стоит двести луидоров, не правда ли? — поспешил сказать Босир.
Агенты снова рассмеялись зловещим смехом, который на этот раз Босир, увы, понял.
— Триста, — сказал он, — четыреста… тысячу луидоров! Но вы оставите ее на свободе.
Глаза Босира горели огнем.
— Вы ничего не отвечаете, — сказал он, — вы знаете, что у меня есть деньги, и хотите заставить меня платить. Это справедливо. Я дам две тысячи луидоров, сорок восемь тысяч ливров, целое состояние для вас обоих, но оставьте ее на свободе.
— Значит, ты очень любишь эту женщину? — спросил Положительный.
Теперь настала очередь Босира смеяться, и его иронический смех был так страшен, он так наглядно передавал безудержную любовь, пожиравшую это иссушенное сердце, что оба сбира испугались и решили принять меры предосторожности во избежание взрыва отчаяния, которое можно было прочесть в потерянном взгляде Босира.
Каждый из них выхватил по два пистолета и приставил их к груди Босира.
— И за сто тысяч экю, — сказал один из них, — мы бы не отдали тебе эту женщину… Господин де Роган заплатит нам за нее пятьсот тысяч ливров, а королева — миллион.
Босир поднял глаза к небу с выражением, которое смягчило бы любого жестокого зверя, кроме альгвасила.
— Идемте, — сказал Положительный, — у вас тут, наверное, есть какая-нибудь одноколка, что-либо с колесами; велите заложить эту карету для дамы, вы ей стольким обязаны.
— И так как мы добрые малые, — добавил другой, — то не будем злоупотреблять своей властью. Мы увезем также и вас для виду; по дороге мы отведем глаза в другую сторону, вы соскочите с одноколки, а мы заметим это только тогда, когда вы опередите нас на тысячу шагов. Разве это не добрый поступок, а?
Босир твердо ответил:
— Куда едет она, поеду и я. В этой жизни я никогда не расстанусь с ней.
— И в другой также! — добавила Олива, леденея от страха.
— Ну тем лучше, — прервал Положительный, — чем больше арестованных привозят к г-ну де Крону, тем он довольнее.
Через четверть часа одноколка Босира отъезжала от дома, увозя двух пойманных влюбленных с их стражами.
XXXII
БИБЛИОТЕКА КОРОЛЕВЫ
Можно представить, какое впечатление произвела поимка этой парочки на г-на де Крона.
Агенты, вероятно, не получили миллиона, на который надеялись, но есть основания думать, что они остались довольны.
Что же касается начальника полиции, то, потерев руки в знак удовольствия, он отправился в Версаль в карете, за которой следовала другая, наглухо закрытая и запертая висячим замком.
Это было на следующий день после того, как Положительный и его друг передали Николь в руки начальника полиции.
Господин де Крон велел обеим каретам въехать в Трианон, вышел из своей и оставил другую под присмотром своего старшего помощника. Он пошел к королеве, у которой заранее испросил аудиенцию.
Королева, которая за последний месяц не пропускала без внимания ничего из того, что ей сообщала полиция, немедленно исполнила просьбу министра; она с утра прибыла с небольшой свитой в свой любимый дом, на случай если бы потребовалось сохранение тайны.
Как только г-н де Крон был введен к ней, по его сияющему лицу она догадалась, что у него есть добрые вести.
Бедная женщина! Она давно уже видела вокруг себя одни мрачные лица, на которых нельзя было ничего прочесть.
В первый раз после тридцати ужасных дней радостно забилось ее сердце, вынесшее столько смертельных волнений.
— Ваше величество, — сказал начальник полиции, поцеловав ее руку, — имеется ли в Трианоне такая комната, что вы могли бы видеть происходящее в ней, не будучи видимы сами?
— Это моя библиотека, — ответила королева, — за шкафами я велела устроить несколько просветов в соседнюю маленькую столовую. Иногда, закусывая там, я забавлялась с госпожой де Ламбаль или с мадемуазель де Таверне, когда она еще была при мне, тем, что смотрела на смешные гримасы аббата Вермона, когда ему попадался памфлет, где говорилось о нем.
— Отлично, ваше величество, — ответил г-н де Крон. —
У меня внизу стоит карета; пусть она въедет в здание, но так, чтобы никто, кроме вашего величества, не видел того, что в ней находится.
— Нет ничего легче, — ответила королева, — где ваша карета?
— На первом дворе, ваше величество.
Королева позвонила и сказала вошедшему лакею:
— Прикажите, чтобы карета, которую укажет вам господин де Крон, въехала в большой вестибюль, и затворите обе двери — пусть в нем было темно: я желаю, чтобы никто раньше меня не мог увидеть ту диковинку, которую мне привез господин де Крон.
Приказание было исполнено. К прихотям королевы относились с еще большим почтением, чем к ее приказаниям. Карета въехала под своды здания около помещения караула, и то, что заключалось в ней, было доставлено прямо в темный коридор.
— Теперь, ваше величество, — сказал г-н де Крон, — соблаговолите перейти со мной в вашу столовую и приказать, чтобы в библиотеку позволили войти моему чиновнику с той особой, что находится на его попечении.
Десять минут спустя королева, вся дрожа от волнения, стояла на наблюдательном посту за шкафами.
Она увидела, как в библиотеке появилась закрытая плащом фигура; когда же чиновник сдернул с нее плащ, то королева вскрикнула от ужаса. Это была Олива, одетая в один из любимейших нарядов Марии Антуанетты.
На ней было зеленое платье с широкими муаровыми черными полосами; высокая прическа, какую предпочитала королева; такие же кольца, как у королевы; зеленые атласные туфельки на огромных каблуках; это была Мария Антуанетта, в жилах которой текла не кровь императоров, а плебейская кровь женщины, которой дарил наслаждение г-н Босир.
Королеве представилось, что она видит себя в зеркале; она пожирала глазами это видение.
— Что скажет ваше величество об этом сходстве? — спросил г-н де Крон в восторге от впечатления, произведенного Олива.
— Я скажу… я скажу, сударь… — растерянно пробормотала королева и подумала: — "Ах, Оливье! Отчего вас нет здесь?"
— Что угодно приказать вашему величеству?
— Ничего, сударь, ничего; только чтобы король узнал…
— И граф Прованский увидел, не так ли, ваше величество?
— О, благодарю вас, господин де Крон, благодарю! Но что сделают с этой женщиной?
— Ведь этой женщине приписывают все, что произошло? — спросил г-н де Крон.
— Нити заговора, без сомнения в ваших руках?
— Почти все, ваше величество.
— А господин де Роган?
— Господин де Роган еще ничего не знает.
— О, — сказала королева, закрывая лицо руками, — я понимаю теперь, сударь, что эта женщина ввела в заблуждение кардинала!
— Пусть так, ваше величество, но и заблуждение господина де Рогана основано на преступлении другого лица!
— Ищите хорошенько, сударь: в ваших руках честь королевского дома Франции.
— Верьте, ваше величество, что она в надежных руках, — ответил де Крон.
— А процесс? — спросила королева.
— Следствие идет. Все отпираются, но я выжидаю удобную минуту, чтобы выставить ту улику, которая находится в вашей библиотеке.
— А госпожа де Ламотт?
— Она не знает, что я нашел эту женщину, и обвиняет господина де Калиостро в том, что он затуманил голову кардиналу, так что тот потерял рассудок.
— А господин де Калиостро?
— Я велел допросить господина де Калиостро, и он обещал прийти ко мне сегодня же утром.
— Это опасный человек.
— Он будет полезен. Укушенный такой ехидной, как госпожа де Ламотт, он впитает яд, а нам даст противоядие.
— Вы надеетесь на разоблачения?
— Я уверен, что они будут.
— Каким образом, сударь? О, скажите мне все, что может успокоить меня.
— Вот мои соображения, ваше величество: госпожа де Ламотт жила на улице Сен-Клод…
— Я знаю, я знаю, — краснея, сказала королева.
— Да, ваше величество оказали этой женщине честь своим состраданием.
— Она меня хорошо отблагодарила за это, не правда ли? Итак, она жила на улице Сен-Клод?
— А господин де Калиостро живет как раз напротив.
— И вы предполагаете?..
— Что если у одного или другого из этих соседей была тайна, то она должна быть известна обоим… Но простите, ваше величество, уже близится час, когда я жду в Париже господина де Калиостро, и я ни за что не хотел бы отложить этого объяснения…
— Поезжайте, сударь, поезжайте и еще раз будьте уверены в моей благодарности. Вот, — со слезами воскликнула она, когда г-н де Крон вышел, — начинается мое оправдание. Я прочту свою победу на всех лицах. Только одного лица я не увижу — лица единственного друга, которому я более всего желала бы доказать свою невиновность!
Между тем г-н де Крон спешил в Париж. Войдя к себе, он нашел ожидавшего его г-на де Калиостро.
Граф уже накануне узнал обо всем. Он направлялся к Босиру, убежище которого знал, собираясь убедить его покинуть Францию, но по дороге встретил его в одноколке между двумя агентами. Олива пряталась в глубине повозки, совершенно подавленная стыдом и заливаясь слезами.
Босир увидел едущего ему навстречу в почтовом экипаже графа и узнал его. Мысль, что этот загадочный и могущественный вельможа может быть полезным, изменила его намерение никогда не покидать Олива. Он напомнил агентам, что они предлагали ему бежать. Те взяли сто луидоров, которые были у него с собой, и отпустили, несмотря на рыдания Николь.
Целуя свою возлюбленную, Босир шепнул ей на ухо:
— Надейся! Я постараюсь спасти тебя.
И поспешно зашагал по дороге в том направлении, по которому ехал Калиостро.
Граф решил между тем остановиться: в любом случае ему не к чему было ехать за Босиром, раз тот возвращался. Когда Босир порой заставлял гоняться за собой, графу удобнее было ждать его.
И Калиостро ждал уже с полчаса за поворотом дороги, когда увидел приближавшегося любовника Олива, бледного, запыхавшегося, полумертвого и несчастного.
При виде остановившегося экипажа Босир радостно вскрикнул, как утопающий, ухватившийся за плывущую доску.
— Что случилось, сын мой? — спросил граф, помогая ему войти в карету.
Босир рассказал всю свою печальную повесть, которую Калиостро выслушал молча.
— Она погибла! — проговорил он.
— Как это? — воскликнул Босир.
Калиостро рассказал ему все, чего тот не знал: про интригу на улице Сен-Клод и в Версале. Босир едва не потерял сознания.
— Спасите, спасите ее! — говорил он, падая на колени прямо в карете. — И я отдам вам Олива, если вы еще ее любите.
— Друг мой, — возразил Калиостро, — вы заблуждаетесь, я никогда не любил мадемуазель Оливу… У меня была только одна цель — вырвать ее из распутной жизни, которую вы заставляли ее делить с вами.
— Но… — сказал удивленный Босир.
— Это вас удивляет? Знайте, что я один из синдиков общества нравственного обновления, а цель его — спасать от порока всякого, кто подает надежды на исцеление. Отняв у вас Олива, я мог вылечить ее… Вот почему я отобрал ее у вас. Пусть она скажет, слышала ли она когда-нибудь из моих уст хоть одно слово, говорящее об ухаживании; пусть она скажет, не были ли всегда мои услуги бескорыстны!
— Тем более оснований, сударь; спасите ее, спасите!
— Я попытаюсь, но все будет зависеть от вас, Босир.
— Требуйте у меня жизни, если хотите.
— Я не потребую так много. Возвращайтесь со мною в Париж, и, если вы будете до мелочей исполнять мои предписания, мы, быть может, и спасем вашу любовницу. Я ставлю для этого только одно условие.
— Какое, сударь?
— Я вам его скажу наедине, когда мы вернемся ко мне в Париж.
— Я заранее подписываюсь; только бы увидеть ее снова! Только бы увидеть!
— Вот об этом я и думаю. Менее чем через два часа вы увидите ее.
— И поцелую ее?
— Я полагаю; более того, вы ей передадите то, что я вам скажу.
И Калиостро с Босиром пустились в обратный путь.
Два часа спустя, уже вечером, они догнали одноколку.
А еще через час Босир за пятьдесят луидоров купил у агентов право поцеловать Николь и шепнуть ей на ухо предписания графа.
Агенты удивлялись этой страстной любви и надеялись при каждой остановке получать по пятьдесят луидоров.
Но Босир более не являлся, и карета Калиостро быстро увозила его в Париж, где готовилось столько событий.
Вот сведения, которые необходимо было сообщить читателю, прежде чем показать ему г-на Калиостро за деловой беседой с г-ном де Кроном.
Теперь мы можем ввести его в кабинет начальника полиции.
Назад: XVII КОРОЛЕМ НЕ МОГУ БЫТЬ, ГЕРЦОГОМ — НЕ ХОЧУ, РОГАН Я ЕСМЬ
Дальше: XXXIII КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ

