Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 20. Ожерелье королевы
Назад: XXII ПРОТОКОЛЫ
Дальше: XXXIX ПРИГОВОР
XXXIII
КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ
Господин де Крон о Калиостро знал все, что может узнать опытный начальник полиции о человеке, живущем во Франции, а это немало. Он знал все его прежние имена, все его тайны алхимика, магнетизера и прорицателя. Он знал, что тот изъявляет притязание на вездесущность и неразрывную цепь перевоплощений, и смотрел на него как на великосветского шарлатана.
Господин де Крон был человек со светлой головой, знавший все тонкости своей должности, находившийся в милости при дворе и равнодушный к этому, не вступавший в сделку со своей гордостью; это был человек, над которым не всякий мог приобрести власть.
Ему, как г-ну де Рогану, Калиостро не мог предложить горячие, только что вынутые из алхимического горна луидоры; к нему Калиостро не приставил бы дуло пистолета, как Бальзамо к г-ну де Сартину; от него Бальзамо не мог требовать возвращения Лоренцы… Напротив, Калиостро должен был дать ему отчет о своих поступках.
Вот почему граф, вместо того чтобы ждать, как развернутся дальнейшие события, счел необходимым попросить аудиенцию у сановника.
Господин де Крон сознавал преимущество своего положения и собирался воспользоваться им. Калиостро сознавал затруднительность своего положения и собирался выйти из него.
В этой шахматной партии, разыгрываемой в открытую, была ставка, о которой не подозревал один из игроков, и надо сознаться, игроком этим был г-н де Крон.
Как мы уже сказали, он в Калиостро видел только шарлатана и не знал, что это адепт. Столько людей споткнулись о камни, разбросанные философией на пути монархии, только потому, что не заметили их.
Господин де Крон ждал от Калиостро разоблачений, связанных с ожерельем и проделками г-жи де Ламотт, и это давало Калиостро преимущество перед ним. С другой стороны, он имел право допрашивать, сажать в тюрьму, и это было его важное преимущество.
Он принял графа с видом человека, сознающего свою значительность, но желающего быть вежливым с каждым, даже и не столь необыкновенным человеком.
Калиостро держался настороже. Ему хотелось казаться вельможей — единственная слабость, которую ему выгодно было позволить подозревать в себе.
— Сударь, — сказал ему начальник полиции, — вы просили у меня аудиенции. Я нарочно для нее приехал из Версаля.
— Сударь, я полагал, что вам будет небезынтересно расспросить меня о том, что происходит, и, как человек, которому известны ваши заслуги и вся важность ваших обязанностей, я пришел к вам.
— Расспросить вас? — проговорил г-н де Крон, разыгрывая удивление. — Но о чем, сударь, и в качестве кого?
— Сударь, — прямо заявил Калиостро, — вы заняты г-жой де Ламотт и исчезновением ожерелья.
— Уж не нашли ли вы его? — насмешливо спросил г-н де Крон.
— Нет, — серьезным тоном произнес граф. — Но если я и не нашел ожерелье, то, по крайней мере, знаю, что госпожа де Ламотт жила на улице Сен-Клод.
— Напротив вашего дома, сударь; я тоже это знал, — сказал начальник полиции.
— В таком случае вам известно, что делала госпожа де Ламотт… Тогда не будем более говорить об этом.
— Наоборот, — с равнодушным видом промолвил г-н де Крон, — поговорим.
— О, это имело значение только по отношению к малютке Олива, — сказал Калиостро, — но поскольку вам все известно о госпоже де Ламотт, мне нечего больше сообщить.
При имени Олива г-н де Крон вздрогнул.
— Что вы сказали про Олива? — спросил он. — Кто эта Олива?
— Вы не знаете? Эта особа очень примечательная, и я удивляюсь, что мне приходится сообщать вам о ней. Вообразите себе хорошенькую девушку: красивая фигура, голубые глаза, безукоризненный овал лица — ну, словом, тип красоты, несколько напоминающий внешность ее величества королевы.
— А, — сказал г-н де Крон, — и что же?
— Так вот, эта девица вела дурную жизнь, что огорчало меня; она когда-то служила у одного старого моего друга, господина де Таверне…
— У барона, который на днях умер?
— Именно у того самого, который умер. Она, кроме того, принадлежала одному ученому — вы его не знаете, господин начальник полиции, — и он… Но я отклоняюсь и замечаю, что начинаю надоедать вам.
— Наоборот, прошу вас продолжать, сударь. Эта Олива, говорите вы…
— Вела дурную жизнь, как я имел честь доложить вам. Она жила почти в нищете, с одним бездельником, своим любовником, который обирал и бил ее. Словом, этот малый — такая дичь, которая чаще всего попадается вам, некий прохвост, которого вы едва ли знаете…
— Некто Босир, может быть? — спросил де Крон, довольный тем, что может показаться хорошо осведомленным.
— А, вы его знаете, это изумительно! — с восхищением проговорил Калиостро. — Отлично! Сударь, вы еще больше провидец, чем я. Так вот однажды, когда этот Босир сильнее обычного побил и обобрал эту девушку, она пришла ко мне искать убежища и защиты. По своей доброте я отвел ей первый попавшийся уголок во флигеле одного из своих особняков…
— У вас?.. Она была у вас? — с удивлением воскликнул г-н де Крон.
— Конечно, — ответил Калиостро, притворяясь в свою очередь удивленным, — почему же мне было не дать ей у себя приюта? Ведь я холост…
И он рассмеялся с добродушием, разыгранным так искусно, что г-н де Крон не заметил подвоха.
— Она была у вас? — повторил он. — Оттого-то так долго и искали ее мои агенты.
— Как, искали? — воскликнул Калиостро. — Эту малютку искали? Разве она сделала что-нибудь, чего я не знаю?
— Нет, сударь, нет; продолжайте, умоляю вас!
— Ей-Богу, я кончил. Я поместил ее у себя, вот и все.
— Да нет же, нет, господин граф, это не все, так как вы, кажется, недавно соединили имена Олива и госпожи де Ламотт.
— Да, из-за их соседства, — сказал Калиостро.
— Тут есть что-то другое, господин граф… Вы недаром сказали, что госпожа де Ламотт и мадемуазель Олива были соседками.
— О, я сказал это вследствие одного обстоятельства, которое излишне вам передавать. Нельзя же пересказывать первому сановнику королевства бредни праздного рантье.
— Вы меня заинтересовали, сударь, и больше, чем вы полагаете, потому что Олива, которую, по вашим словам, вы приютили у себя, я нашел в провинции.
— Вы ее нашли!..
— С господином де Босиром…
— Что ж, я так и думал! — воскликнул Калиостро. — Она была с Босиром? А, отлично! Отлично! Значит, напрасно я заподозрил госпожу де Ламотт.
— Как! Что вы хотите сказать? — спросил г-н де Крон.
— Я говорю, сударь, что, заподозрив в первую минуту госпожу де Ламотт, я полностью и окончательно признаю ее непричастность к этому делу.
— Заподозрили? В чем?
— Боже милостивый! Вы с таким терпением выслушиваете разные сплетни? Так знайте, что в то самое время, когда я начинал надеяться, что исправлю эту Олива, обращу ее к труду и честной жизни — я занимаюсь проповедью нравственности, сударь, — в это время кто-то похитил ее у меня.
— Похитил! У вас?
— У меня.
— Это странно.
— Не правда ли? И я готов был поручиться чем угодно, что это дело госпожи де Ламотт. Вот как бывают неосновательны людские суждения!
Господин де Крон приблизился к Калиостро.
— Послушайте, — сказал он, — прошу вас объясниться точнее.
— О сударь, теперь, когда вы нашли Олива с Босиром, ничто не заставит меня думать о госпоже де Ламотт, несмотря на ее настойчивое внимание, на обмен знаками, на переписку.
— С Олива?
— Да, конечно.
— Госпожа де Ламотт и Олива общались между собой?
— Наилучшим образом.
— Они виделись?
— Госпожа де Ламотт нашла для Олива возможность выходить каждую ночь.
— Каждую ночь? Вы уверены в этом?
— Насколько может быть уверен человек в том, что он видел и слышал.
— О сударь, вы даете мне такие сведения, что я за каждое слово готов заплатить по тысяче ливров! Какое счастье для меня, что вы сами делаете золото!
— Я его более не делаю, это обходится слишком дорого.
— Но вы друг господина де Рогана?
— Надеюсь.
— Так вы должны знать, насколько сильно замешан в его скандальном процессе этот дух интриг, носящий имя госпожи де Ламотт?
— Нет, я не желаю этого знать.
— Но, быть может, вам известно о последствиях этих прогулок Олива и госпожи де Ламотт?
— Сударь, есть вещи, которые осторожный человек должен всегда стараться не знать, — наставительным тоном сказал Калиостро.
— Я буду иметь честь спросить у вас только еще одно, — с живостью сказал г-н де Крон. — Имеете ли вы доказательства, что госпожа де Ламотт переписывалась с Олива?
— Хоть сотню.
— Какие же именно?
— Записки госпожи де Ламотт; она перебрасывала их Олива с помощью арбалета, который, вероятно, найдут в ее квартире. Несколько таких записок, обмотанных вокруг куска свинца, не достигли своей цели. Они падали на улицу, а мои люди или я подбирали их.
— Сударь, вы могли бы предъявить их на суде?
— Они такого невинного содержания, что я смело могу это сделать и не думаю, чтобы меня за это упрекнула госпожа де Ламотт.
— А… доказательства сговора и свиданий?
— У меня их тысяча!
— Назовите мне хотя бы одно, прошу вас.
— Вот наилучшее доказательство: по-видимому, госпожа де Ламотт нашла возможность проникать в мой дом, чтобы видеться с Олива; я сам видел там графиню именно в тот день, когда молодая особа исчезла.
— Именно в тот день?
— Ее видел не только я, но и все мои слуги.
— А!… Но зачем же она туда явилась, если Олива исчезла?..
— Я сам сначала спрашивал себя об этом и не мог объяснить это. Я видел, что госпожа де Ламотт вышла из почтовой кареты, ожидавшей ее на углу улицы Золотого Короля. Люди мои заметили, что этот экипаж долго стоял там, и, признаться, я подумал, что госпожа де Ламотт хочет окончательно увезти к себе Олива.
— Вы бы это допустили?
— Почему бы и нет? Госпожа де Ламотт — особа с добрым сердцем, судьба к ней благоволит. Она принята при дворе. Зачем бы я стал препятствовать ей избавить меня от Олива? Я был не прав, как вы видите, ибо кто-то другой похитил ее у меня, чтобы снова погубить.
— Так! — сказал г-н де Крон в глубоком размышлении. — Мадемуазель Олива жила в вашем доме?
— Да, сударь.
— Так! Мадемуазель Олива и госпожа де Ламотт были знакомы, виделись, выходили вместе?
— Да.
— Так! Госпожу де Ламотт видели у вас в день похищения Олива?
— Да, сударь.
— Так! Вы подозревали, что графиня хочет увезти к себе эту особу?
— Что же я мог другое думать?
— А что сказала госпожа де Ламотт, когда не нашла у вас Олива?
— Она показалась мне смущенной.
— Вы подозреваете, что увез ее этот Босир?
— Я полагаю так единственно потому, что услышал это от вас; иначе я бы его не заподозрил. Этот человек не знал местожительства Олива. Кто мог сообщить ему это?
— Сама Олива.
— Не думаю… Вместо того чтобы давать ему увозить себя, она скорее сама убежала бы от меня к нему, и будьте уверены, что он не вошел бы ко мне, если б госпожа де Ламотт не передала ему ключа.
— У нее был ключ?
— Вне всяких сомнений.
— В какой день увезли ее, скажите мне, пожалуйста? — спросил г-н де Крон, мысли которого внезапно прояснились благодаря источнику света, искусно предложенному ему Калиостро.
— О сударь, в этом я не ошибусь: это был канун дня святого Людовика.
— Верно! — воскликнул начальник полиции, — верно! Сударь, вы только что оказали выдающуюся услугу государству.
— Я очень счастлив, сударь.
— И вы получите за это подобающую благодарность.
— Прежде всего от моей совести, — сказал граф.
Господин де Крон поклонился ему.
— Могу ли я рассчитывать, — добавил он, — что вы представите нам доказательства, о которых мы говорили?
— Я готов исполнять все требования правосудия, сударь.
— Что ж, сударь, у меня есть ваше слово… Надеюсь иметь честь вновь встретиться с вами.
И он отпустил Калиостро.
"А, графиня, а, ехидна! — сказал себе, уходя, Калиостро. — Ты хотела меня обвинить… Но, кажется, ты укусила клинок; горе твоим зубам!"
XXXIV
ДОПРОСЫ
Пока г-н де Крон беседовал таким образом с Калиостро, г-н де Бретейль явился в Бастилию от имени короля, чтобы допросить кардинала.
Свидание между этими двумя врагами могло быть бурным. Господин де Бретейль знал гордость г-на де Рогана; он уже отомстил кардиналу так жестоко, что мог отныне придерживаться учтивости по отношению к нему. Он был с ним более чем любезен. Господин де Роган отвечать отказался.
Хранитель печатей настаивал, но кардинал де Роган объявил, что отдает себя решению парламента и судей.
Господину де Бретейлю пришлось отступить перед непоколебимой волей обвиняемого. Он велел позвать г-жу де Ламотт, которая была занята сочинением мемуаров.
Господин де Бретейль честно объяснил ей ее положение, которое она сама понимала лучше всех. Она отвечала, что имеет доказательства своей невиновности, которые предъявит, когда будет нужно, и г-н де Бретейль заметил, что ей нечего медлить с этим.
Жанна рассказала ему всю выдуманную ею басню; в ней она продолжала обвинять всех и вся намеками и утверждать, что ей неизвестно, откуда явились подложные документы, в составлении которых ее обвиняли.
Она также объявила, что теперь дело передано в ведение парламента и что она не скажет ни слова чистой правды иначе как в присутствии кардинала и в зависимости от тех обвинений, которые он выдвинет против нее.
Тогда г-н де Бретейль сказал ей, что кардинал объявляет ее виновной во всем.
— Во всем? — спросила Жанна, — и в краже?
— И в краже.
— Потрудитесь передать господину кардиналу, — холодно сказала Жанна, — что я советую ему оставить такой дурной способ защиты.
Вот и все, чего можно было от нее добиться. Но г-н де Бретейль не был удовлетворен. Ему нужны были более интимные подробности. Его логический ум требовал изложения причин, заставивших кардинала проявить такую дерзость по отношению к королеве, а королеву — обрушить на кардинала такой сильный гнев.
Ему необходимо было найти истолкование всех протоколов, собранных графом Прованским и вызвавших в обществе такой шум.
Хранитель печатей был умный человек и умел влиять на женщин; он обещал г-же де Ламотт все, что ей угодно, если она предъявит прямое обвинение против кого-либо.
— Берегитесь, — говорил он ей, — своим молчанием вы обвиняете королеву; если вы будете упорствовать в этом, то остерегайтесь: вы будете признаны виновной в оскорблении величества. Это бесчестье, это виселица!
— Я не обвиняю королеву, — сказала Жанна, — но почему обвиняют меня?
— Тогда скажите, кого вы считаете виновным, — непреклонно продолжал де Бретейль, — у вас есть только это средство обелить себя.
Но она хранила осторожное молчание, и это первое свидание с хранителем печатей не привело ни к чему.
Между тем прошел слух, что всплыли новые улики, что бриллианты проданы в Англии, где г-н де Билет был задержан агентами г-на де Верженна.
Первый натиск, который пришлось выдержать Жанне, был ужасен. На очной ставке с Рето, которого она считала своим союзником до гроба, она с ужасом услышала, как он смиренно сознался в совершенных подлогах, в том, что он написал расписку в получении бриллиантов и письмо от королевы, подделав подписи ювелиров и ее величества.
Спрошенный о мотиве, руководившем им при совершении этих преступлений, он ответил, что сделал это по просьбе г-жи де Ламотт.
Взбешенная, выведенная из себя, она отпиралась от всего и защищалась как львица; она уверяла, что никогда не видела и не знала никакого г-на Рето де Билета.
Но ее ожидали еще два сильных удара: ее губили два показания.
Первое дал разысканный г-ном де Кроном кучер фиакра, что в день и час, указанный Рето, возил на улицу Монмартр даму, одетую таким-то образом.
Кто же могла быть это соблюдавшая такую таинственность и осторожность дама, которую кучер посадил в фиакр в квартале Маре, как не г-жа де Ламотт, жившая на улице Сен-Клод?
А как отрицать тесные отношения, существовавшие между обоими соумышленниками, когда один свидетель утверждал, что накануне дня святого Людовика он видел г-жу де Ламотт, выходившую из почтовой кареты, на козлах которой сидел Рето де Вилет. Его легко было узнать по беспокойному выражению лица и бледности.
Этим свидетелем был один из главных слуг г-на де Калиостро.
Услышав имя графа, Жанна встрепенулась и забыла всякую осторожность. Она обрушила целый поток обвинений на Калиостро, который будто бы своими чарами и колдовством подчинил себе кардинала де Рогана и внушил ему преступные мысли против королевского величества.
Это было первым звеном обвинения в прелюбодеянии.
Господин де Роган, защищая Калиостро, защищался сам. Он так упорно отрицал все, что Жанна, вне себя, в первый раз выставила против кардинала обвинение в безумной любви его к королеве.
Господин де Калиостро сразу потребовал, чтобы его, Калиостро, заключили в тюрьму, тогда он сможет доказать всем свою невиновность. Его желание было исполнено. Обвинители и судьи все более горячились, как то всегда случается при первом проблеске истины, а общественное мнение тотчас стало на сторону кардинала и Калиостро против королевы.
Тогда-то несчастная Мария Антуанетта, чтобы объяснить, почему она упорно настаивает на судебном расследовании, приказала обнародовать полученные королем донесения о ее ночных прогулках и потребовала от г-на де Крона, чтобы он рассказал все, что ему было известно.
Искусно направленный удар обрушился на Жанну и едва не погубил ее совершенно.
Судебный следователь во время заседания следственной комиссии потребовал от г-на де Рогана, чтобы он сообщил все, что знает об этих прогулках в версальском парке.
Кардинал возразил, что не умеет лгать, и призывал в свидетели г-жу де Ламотт.
Эта последняя заявила, что в Версале не было никаких прогулок с ее согласия или ведома.
Она объявила ложными все протоколы и донесения о том, что она была в парке как в обществе королевы, так и с кардиналом.
Эти показания могли бы совершенно обелить Марию Антуанетту, если б можно было верить женщине, обвиняемой в подлоге и краже. В ее же устах это звучало не оправданием, а угодливостью, и королева не пожелала принять такого оправдания.
И в то время как Жанна громко кричала о том, что никогда она не была ночью в версальском парке, что ей никогда не было ничего известно о личных делах королевы или кардинала, появилась Олива в качестве живой улики. Эта улика заставила всех изменить мнение, она разрушала все сооружение лжи, нагроможденной графиней.
Как она не погибла, погребенная под обломками? Как могла она подняться, дыша еще большей ненавистью, став еще опаснее? Это чудо мы объясняем не только ее могучей волей, но и злым роком, преследовавшим королеву.
Каким страшным ударом была для кардинала очная ставка с Олива! Наконец г-н де Роган убедился, что обманут самым гнусным образом. Каково человеку с тонкими и благородными чувствами узнать, что искательница приключений, в компании с какой-то негодяйкой, довела его до того, что он громко высказывал свое презрение французской королеве, женщине любимой им и оказавшейся невиновной!
По нашему мнению, впечатление, произведенное на г-на де Рогана появлением Олива, могло бы быть самым драматическим и важным моментом этого дела, если бы, придерживаясь исторических фактов, нам не предстояло опуститься до описания грязи, крови и ужасов.
Когда г-н де Роган увидел Олива, эту королеву с уличного перекрестка, и вспомнил розу, пожатия рук и купальню Аполлона, он побледнел и охотно пролил бы всю кровь свою у ног Марии Антуанетты, если б она предстала в эту минуту рядом с Олива.
Какие угрызения совести он почувствовал, какие мольбы о прощении рвались из глубины его сердца, как страстно хотелось ему слезами омыть подножие трона, к которому он однажды бросил свое презрение вместе с сожалением об отвергнутой любви.
Но и это утешение не было дано ему; он не мог признать разительное сходство Оливы с королевой, не выдав этим своей любви к настоящей королеве; признание в своем заблуждении становилось обвинением, ложилось на него позорным пятном. Он не мешал Жанне все отрицать. Он замолчал.
И когда г-н де Бретейль вместе с г-ном де Кроном хотели заставить Жанну высказаться более подробно, она сказала:
— Лучшее средство доказать, что королева не гуляла ночью в парке, — это показать женщину, похожую на королеву и уверявшую, что была в парке. Ее показали, и отлично!
Этот гнусный намек имел успех. Он опять ставил под сомнение правду.
Но так как Олива, в своей чистосердечной тревоге, приводила всевозможные подробности и доказательства, не забывая ничего, и так как ее рассказу верили более, чем словам графини, то Жанна прибегла к отчаянному средству: она созналась во всем.
Она созналась, что возила кардинала в Версаль; что его высокопреосвященство непременно хотел видеть королеву, уверить ее в своей почтительной преданности. Она созналась, потому что чувствовала, что за ней стоит целая партия, которой она лишится, если будет упорствовать в своем запирательстве; она созналась, потому что, обвиняя королеву, приобретала приверженцев в лице ее многочисленных врагов.
И вот уже десятый раз в продолжение этого сатанинского дела роли переменились: кардинал становился жертвой обмана; Олива — распутной женщиной без всякого признака поэтичности и ума; Жанна — интриганкой, ибо она не могла выбрать лучшей роли для себя.
Но для успеха этого гнусного плана надо было, чтобы и королева играла какую-нибудь роль, и ей навязали самую отвратительную, презренную и унижающую ее достоинство роль — роль легкомысленной кокетки, гризетки, любительницы обманных проделок. Мария Антуанетта превращалась в Доримену, составляющую с Фрозиной заговор против Журдена — кардинала.
Жанна заявила, что эти прогулки происходили с позволения Марии Антуанетты, которая, прячась за деревьями, до упаду смеялась над страстными речами влюбленного г-на де Рогана.
Вот что выбрала себе в качестве последнего ретраншемента эта воровка, не знавшая, чем прикрыть свою кражу; она выбрала королевскую мантию Марии Терезы и Марии Лещинской.
Королева не могла выдержать тяжести этого последнего обвинения, лживость которого она не могла доказать, потому что Жанна, доведенная до крайности, объявила, что предаст гласности все любовные письма кардинала к королеве… И действительно, у нее были эти письма, дышавшие безумной страстью.
Королева не могла доказать лживость этого обвинения, потому что мадемуазель Олива, утверждавшая, что Жанна побуждала ее приходить в версальский парк, не имела доказательств, подслушивал кто-нибудь за деревьями или нет.
Наконец, королева не могла доказать свою невиновность еще и потому, что слишком многим людям было выгодно принять эту низкую ложь за истину.
XXXV
ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ПОТЕРЯНА
Как видим, при том обороте, который Жанна придала делу, узнать истину становилось невозможным.
Неопровержимо уличенная в краже бриллиантов показаниями двух десятков лиц, заслуживающих доверия, Жанна не могла примириться с ролью заурядной воровки. Ей нужен был чей-то позор рядом с ее собственным. Она убеждала себя, что огласка версальского скандала затмит преступление графини де Ламотт, что если даже она будет осуждена, то этот приговор ударит прежде всего по самой королеве.
Однако ее расчет не удался. Согласие королевы на открытое судебное разбирательство этого двойного дела и покорное подчинение кардинала допросам, суду и огласке — все это лишило их противницу того ореола невинности, который она так любовно старалась позолотить своими лицемерными недомолвками.
Но странное дело! Обществу предстояло стать свидетелем судебного дела, в котором никто не должен был оказаться невиновным, даже те, кого оправдает правосудие.
После бесчисленных очных ставок, во время которых кардинал выказывал неизменное спокойствие и учтивость даже по отношению к Жанне, между тем как она выходила из себя и старалась вредить всем, общественное мнение и, главным образом, точка зрения судей оказались непоколебимы.
Всякие неожиданности стали почти невозможны, все разоблачения были исчерпаны. Жанна заметила, что ей не удалось произвести никакого впечатления на судей.
В тиши тюремной камеры она стала рассчитывать, каковы ее силы и надежды.
Все окружавшие г-на де Бретейля или подчиненные ему советовали ей выгораживать королеву и без всякой жалости обвинять кардинала.
Те, кто принадлежал к партии кардинала: его могущественная семья, судьи, пекущиеся об интересах народа, духовенство, имевшее к своим услугам всевозможные средства, — весь этот синклит советовал г-же де Ламотт говорить всю правду, раскрыть все интриги двора и поднять такой шум, от которого коронованные лица почувствовали бы смертельное головокружение.
Эта партия старалась устрашить Жанну; она указывала ей на то, что та слишком хорошо знала сама: большинство судей склоняются на сторону кардинала и она падет в бесплодной борьбе… При этом ей говорили, что для нее, так как она уже и без того наполовину погибла, быть может, лучше было бы дать себя обвинить по делу о бриллиантах, чем поднимать вопрос о виновности в оскорблении величества, будить этот кровавый призрак, таящийся в основе всех феодальных кодексов, так как его, как ил со дна реки, нельзя тревожить в судебных делах, не вызывая вместе с ним и призрак смерти.
Эта партия казалась уверенной в победе и действительно была в ней уверена. Народ был с ней заодно, высказывая восторженную симпатию кардиналу. Мужчины удивлялись его терпению, а женщины — его скромности. Для многих Олива, живой человек, не существовала вовсе, несмотря на ее признания и сходство с королевой; если же и существовала, то ее изобрела сама королева исключительно для этого случая.
Жанна все это обдумывала. Даже ее защитники покидали ее, судьи не скрывали своего отвращения к ней; семья Роганов возводила на нее тяжелые обвинения, и общественное мнение относилось к ней с презрением. Она решила нанести последний удар, чтобы встревожить судей, устрашить друзей кардинала и усилить всеобщую ненависть к Марии Антуанетте.
Она избрала следующее средство: попытаться убедить судей, что она постоянно ограждала честь королевы, но если ее доведут до крайности, то она расскажет все.
Что касается кардинала, то надо было уверить всех, что она хранит молчание, единственно подражая его деликатности; но как только он заговорит, то, сочтя себя также свободной, она заговорит в свою очередь, и они оба разом обнаружат истину и свою невиновность.
Это в сущности, было лишь повторением всей ее системы самозащиты и всего поведения во время следствия. Но ведь известно, что приевшееся блюдо можно выдать за новое с помощью другой приправы. Вот что придумала графиня, чтобы освежить две свои стратагемы.
Она написала королеве письмо, сами выражения которого недвусмысленно говорили о его характере и значении:
"Ваше Величество!
Несмотря на всю тягость и суровость моего положения, у меня не вырвалось не единой жалобы. Все уловки, пущенные в ход с целью вырвать мои признания, лишь укрепили меня в решимости не набросить ни малейшей тени на честь моей королевы.
Тем не менее, при всей своей уверенности, что мое постоянство и скромность дадут мне возможность выйти из затруднительного положения, в котором я оказалась, сознаюсь, что усилия семьи раба (так королева называла кардинала в дни их согласия) вызывают у меня опасение, что я стану ее жертвой.
Долгое заключение, бесконечные очные ставки, отчаяние и стыд видеть себя обвиненной в преступлении, которого я не совершала, ослабили мое мужество: я боюсь, что моя твердость не выдержит стольких ударов одновременно.
Ваше Величество может одним словом положить конец этому злосчастному делу через посредство господина де Бретейля: он умный человек и сумеет в глазах министра (то есть короля) придать всему нужную окраску, то есть на королеву не будет наброшено ни малейшей тени. Лишь боязнь, что меня вынудят открыть все, диктует мне эти строки. Я убеждена, что Ваше Величество примет во внимание причины этого письма и прикажет прекратить мучительное положение, в котором я нахожусь.
Остаюсь с глубоким почтением нижайшей и покорнейшей слугой Вашего Величества графиня де Валуа де Ламотт".
Как видим, Жанна все рассчитала.
Либо это письмо дойдет до королевы и напугает ее тем упорством, которое графиня проявляла после стольких неудач, и королева, должно быть утомленная борьбой, решится покончить дело, освободив Жанну, так как тюремное заключение и процесс ни к чему не привели.
Либо, что гораздо вероятнее и что доказывается заключительными словами письма, Жанна не возлагала никаких надежд на письмо, что очень понятно: решившись на это судебное дело, королева не могла его прекратить, не произнеся тем самым приговор сама себе. Итак, нет сомнения: Жанна вовсе не рассчитывала, что ее письмо будет передано королеве.
Она знала, что вся тюремная стража предана коменданту Бастилии, то есть в конечном счете г-ну де Бретейлю. Она знала, что вся Франция пользовалась этим делом об ожерелье для политических спекуляций, чего не было со времен парламентов г-на де Мопу. Она была уверена, что тот, кому она вручит письмо, либо отдаст его коменданту, либо оставит у себя и покажет тем судьям, которые были одних с ним воззрений. Поэтому Жанна приняла все меры к тому, чтобы это письмо, в чьи бы руки оно ни попало, вызвало в сердцах ростки ненависти, недоверия и неуважения к королеве.
Одновременно с этим письмом к Марии Антуанетте она составила другое — к кардиналу:
"Я не могу понять, монсеньер, почему Вы упорствуете в нежелании говорить яснее. Мне кажется, что для Вас было бы лучше всего отнестись с безграничным доверием к нашим судьям; наша судьба улучшилась бы от этого. Что касается меня, то я решилась молчать, если Вы не хотите поддержать меня. Но почему Вы не хотите говорить? Объясните все обстоятельства этого таинственного дела, и я даю Вам клятву подтвердить все, что Вы скажете. Подумайте хорошенько, господин кардинал, о том, что если я решусь заговорить первая, а Вы станете отрицать правдивость моих слов, то я погибла, я не избегну мести той, которая хочет принести нас обоих в жертву.
Но Вы не должны бояться чего-либо подобного с моей стороны: моя преданность известна Вам. Если эта особа окажется неумолимой, то Ваше дело всегда будет и моим: я пожертвую всем, чтобы спасти Вас от последствий ее ненависти, или пусть нас обоих постигнет немилость.
P.S. Я написала этой особе письмо, которое, я надеюсь, заставит ее решиться если не на то, чтобы сказать правду, то, по крайней мере, на то, чтобы не преследовать нас, не имеющих на совести другого преступления, кроме ошибки или молчания".
Это искусно составленное письмо она передала кардиналу во время их последней очной ставки в большой приемной Бастилии, и все увидели, как кардинал покраснел, побледнел и содрогнулся от такой дерзости. Он вышел, чтобы взять себя в руки.
Что же касается письма к королеве, то графиня тут же передала его аббату Лекелю, священнику Бастилии, сопровождавшему кардинала в приемную и преданному семье Роганов.
— Сударь, — сказала она ему, — взяв на себя исполнение этого поручения, вы можете содействовать изменению участи господина де Рогана и моей. Ознакомьтесь с содержанием письма. Ваш сан обязывает вас уметь хранить тайну. Вы убедитесь, что я стучусь в единственную дверь, откуда мы — господин кардинал и я — можем ожидать помощи.
Духовник отказался.
— Я единственное духовное лицо, которое вы видите, — сказал он. — Ее величество подумает, что вы написали ей по моему совету и что вы мне во всем сознались… Я не могу сознательно губить себя.
— В таком случае, — сказала Жанна, отчаявшись в успехе своей хитрости, но желая запугать кардинала, — скажите господину де Рогану, что у меня осталось средство доказать свою невиновность — дать прочесть его письма королеве. Мне было противно воспользоваться этим средством, но я решусь на него для нашей общей пользы.
Видя, что священник испугался этой угрозы, она еще раз попыталась передать ему в руки свое ужасное письмо к королеве.
"Если он возьмет письмо, — говорила она себе, — я спасена, потому что тогда я во время заседания суда спрошу у него, что он сделал с письмом, отдал ли его королеве и просил ли ответа? Если окажется, что он его не отдал, королева погибла: колебание Роганов докажет ее преступление и мою невиновность".
Но аббат Лекель, едва прикоснувшись к письму, возвратил его, точно оно жгло ему руку.
— Обратите внимание, — сказала, бледнея от злости, Жанна, — что вы ничем не рискуете, так как я вложила письмо к королеве в конверт на имя госпожи де Мизери.
— Тем более — воскликнул аббат. — Два лица узнали бы тайну. Двойной повод для гнева королевы. Нет, нет, я отказываюсь.
И он отстранил руку графини.
— Заметьте, — сказала она, — вы толкаете меня на то, чтобы употребить в дело письма господина де Рогана.
— Хорошо, — ответил аббат, — употребляйте их в дело, сударыня.
— Но, — продолжала Жанна, дрожа от ярости, — я вам заявляю, что доказательство тайной переписки с королевой повлечет за собой для кардинала смертную казнь на эшафоте. Вы вольны говорить "хорошо". Я вас предупредила.
В эту минуту открылась дверь и на пороге показался кардинал, полный величия в своем гневе.
— Пусть по вашей вине один из Роганов сложит на эшафоте голову, сударыня, — ответил он. — Бастилия не в первый раз увидит подобное зрелище. Но если так, то я вам объявляю, что ничего не буду иметь против эшафота, на котором упадет моя голова, если только увижу тот эшафот, у которого над вами будет совершена позорная казнь как над воровкой, совершившей подлоги! Идемте, аббат!
После этих уничтожающих слов он повернулся спиной к Жанне и вышел с духовником, оставив в ярости и отчаянии это несчастное создание, при каждом движении все глубже вязнувшее в гибельной тине, которая вскоре должна была засосать и покрыть ее всю.
XXXVI
КРЕСТИНЫ МАЛЕНЬКОГО БОСИРА
Госпожа де Ламотт ошиблась во всех своих расчетах. Калиостро не ошибся ни в одном.
Попав в Бастилию, он заметил, что наконец-то у него есть предлог открыто готовить падение монархии, под которую он уже столько лет осторожно подкапывался, распространяя учение иллюминатов и оккультные науки.
Вполне уверенный в том, что его не могут ни в чем уличить, он, разыгрывая роль жертвы, добился развязки, наиболее благоприятствовавшей его целям, и свято исполнил свое обещание, данное всему свету.
Он собирал материалы для того знаменитого письма из Лондона, которое появилось через месяц после описываемого нами времени и было первым ударом тарана по стенам старой Бастилии, началом враждебных действий революции, первым ощутимым ударом, предшествовавшим потрясению 14 июля 1789 года.
В этом письме, где Калиостро, ниспровергнув короля, королеву, кардинала и тех, кто играет общественным мнением, обрушившись без сострадания на г-на де Бретейля, олицетворявшего министерскую тиранию, наш разрушитель высказал следующее:
"Да, на свободе я повторяю то, что говорил в заключении: нет такого преступления, которое бы не искупалось шестимесячным заключением в Бастилии. У меня спрашивают: вернусь ли я когда-нибудь во Францию? Непременно, ответил я, если только Бастилия сделается местом народного гулянья. Дай-mo Бог! У вас, французов, есть все необходимое для счастья: плодородная земля, мягкий климат, добрые сердца, очаровательная веселость, талантливость и способности ко всему; вы не имеете себе равных в искусстве нравиться, не нуждаетесь в учителях во всех других искусствах; вам, милые друзья мои, недостает лишь малости — быть уверенными, что если вы ни в чем не виноваты, то проведете ночь в своей постели".
Калиостро сдержал слово и относительно Олива. Она, со своей стороны, была свято предана ему. Она не проронила ни одного слова, которое могло бы скомпрометировать ее покровителя. Показания Оливы были роковыми только для г-жи де Ламотт; правдиво и неопровержимо она доказала свое невинное участие в мистификации, направленной, по ее словам, против неизвестного ей кавалера, которого она знала под именем Луи.
За все это время, пока заключенные сидели под замком и подвергались допросам, Олива ни разу не видела своего милого Босира, но не была им, однако, покинута и, как будет видно дальше, имела от своего возлюбленного тот залог, о котором мечтала Дидона, говорившая: "Ах, если б мне было дано видеть играющего на моих коленях маленького Аскания!"
В мае 1786 года на паперти церкви святого Павла на улице Сент-Антуан стоял между бедными какой-то человек. Он казался очень озабоченным и, с трудом переводя дыхание, неотрывно смотрел в сторону Бастилии.
К нему подошел мужчина с длинной бородой, один из немецких слуг Калиостро, тот самый, который играл у.
Бальзамо роль камердинера на его таинственных приемах в старинном доме на улице Сен-Клод.
Человек этот успокоил пылкое нетерпение Босира, тихонько сказав ему:
— Подождите, подождите, они придут!
— А, — воскликнул тот, — это вы!
И так как слова "они придут", очевидно, не удовлетворили беспокойного субъекта и он продолжал оживленно размахивать руками, немец сказал ему на ухо:
— Господин Босир, вы так шумите, что нас увидит полиция… Господин мой обещал сообщить вам новости, и я вам принес их.
— Ну, друг мой, ну, что же?
— Тише. И мать и ребенок здоровы.
— О-о! — воскликнул Босир в неописуемом восторге, — она разрешилась от бремени! Она спасена!
— Да, сударь; но, отойдите в сторону, прошу вас.
— Дочерью?
— Нет, сударь, сыном.
— Тем лучше! О друг мой, как я счастлив! Как я счастлив, как я счастлив! Поблагодарите хорошенько вашего господина; скажите ему, что моя жизнь и все, что я имею, принадлежит ему…
— Да, господин Босир, да, я скажу ему это, когда увижу его.
— Друг мой, отчего вы сейчас говорили… Да возьмите же эти два луидора.
— Сударь, я беру деньги только от своего господина.
— Ну, извините, я не хотел обидеть вас.
— Я верю, сударь. Но вы говорили мне…
— Да, я спрашивал, почему вы недавно сказали: "Они придут"? Кто придет?
— Я говорил о враче Бастилии и об акушерке Шопен, которые принимали роды у мадемуазель Олива.
— Они придут сюда? Зачем?
— Чтобы окрестить ребенка!
— Я увижу своего ребенка! — воскликнул Босир, подпрыгивая, как припадочный. — Вы говорите, что я увижу сына Олива? Здесь, сейчас?..
— Здесь и сейчас; но успокойтесь, умоляю вас; иначе двое или трое агентов господина де Крона, которые, по моим догадкам, прячутся под лохмотьями нищих, узнают вас и догадаются, что вы общались с узником Бастилии. Вы губите себя и подвергаете опасности моего господина.
— О, — воскликнул Босир с выражением благоговейного почтения и признательности, — я скорее умру, чем произнесу хотя бы один звук, который мог бы повредить моему благодетелю. Я задохнусь, если понадобится, но не скажу более ни слова. Что же они не идут!..
— Терпение!
— Счастлива она хотя немного там? — спросил Босир, сжимая руки.
— Совершенно счастлива, — ответил немец. — А вот подъезжает фиакр.
— Да, да.
— Он останавливается…
— Вот что-то белое, кружева.
— Это крестильная рубашка ребенка.
— Боже мой!
И Босир должен был прислониться к колонне, чтобы не упасть: он увидел выходивших из фиакра акушерку, врача и тюремщика Бастилии, которые должны были служить свидетелями при крестинах.
На пути этих трех лиц нищие гнусаво затянули свои просьбы о милостыне.
И странное дело: крестные отец и мать прошли мимо, расталкивая нищих, между тем как посторонний человек раздавал им мелочь и золото, плача от радости.
Когда маленькая процессия вошла в церковь, Босир вошел вслед за ней и отыскал себе среди священнослужителей и любопытных прихожан лучшее место в ризнице, где должно было совершиться таинство крещения.
Священник узнал акушерку и врача, которые уже неоднократно прибегали к помощи его ведомства в подобных обстоятельствах; он дружески кивнул им головой и улыбнулся.
Босир поклонился и улыбнулся вместе со священником.
Тогда заперли дверь ризницы и священник, взяв перо, раскрыл метрическую книгу и начал вносить в нее обычные слова регистрационной записи. Когда он спросил о фамилии и имени ребенка, врач сказал:
— Это мальчик; вот все, что я знаю.
И взрыв смеха четырех лиц сопроводил эти слова, показавшиеся Босиру обидными.
— Но ведь есть же у него какое-нибудь имя, хотя бы имя святого, — продолжал священник.
— Да, мать желала, чтобы его назвали Туссеном.
— Ну что же. Все святые тут будут! — возразил со смехом священник, довольный игрой слов, и ризница снова огласилась веселым смехом.
Босир начинал терять терпение, но мудрое воздействие немца еще не утратило своей силы. Он сдержался.
— Ну, — сказал священник, — с таким именем и, имея своими покровителями всех святых, можно обойтись без отца. Напишем: "Сего числа предъявлен нам был ребенок мужского пола, родившийся вчера в Бастилии, сын Николь Олива Леге и… неизвестного отца".
Босир вне себя бросился к священнику и с силой удержал его руку.
— У Туссена есть отец, — воскликнул он, — так же как и мать! У него есть нежный отец, который не отречется от своей крови. Пишите, прошу вас, что Туссен, родившийся вчера у девицы Николь Оливы Леге, — сын Жана Батиста Туссена де Босира, присутствующего здесь!
Можно представить изумление священника и восприемников! Перо выпало из рук достойного пастыря, а акушерка едва не выронила из рук ребенка. Босир взял его на руки и, покрывая жадными поцелуями, дал бедному малютке первое крещение, самое священное на этом свете после Господнего — крещение отцовскими слезами.
Присутствующие, при всей их привычке к драматическим сценам и при всем присущем вольтерьянцам того времени скептицизме, были растроганы. Один только священник оставался равнодушным и подверг сомнению это отцовство; быть может, он был недоволен, что запись приходилось переделывать.
Но Босир догадался, в чем была задержка: он положил на купель три луидора, которые гораздо лучше слез доказали его отцовское право и блестяще подтвердили его чистосердечие.
Священник поклонился, взял семьдесят два ливра и вычеркнул две строки, которые только что с шуточками начертал в книге.
— Однако, сударь, так как заявление господина врача Бастилии и госпожи Шопен было сделано с соблюдением требуемых формальностей, то благоволите сами письменно подтвердить, что вы объявляете себя отцом этого ребенка.
— Я! — воскликнул Босир вне себя от радости. — Да я готов написать это своей кровью!
И он с восторгом схватил перо.
— Берегитесь, — сказал ему потихоньку тюремщик Гюйон, который не забывал о своей обычной осторожности. — Мне кажется, милейший господин, что ваше имя дурно звучит в некоторых местах; его опасно вписывать в метрическую книгу, проставляя при этом число, которое доказывает разом и ваше присутствие здесь, и вашу связь с одной из обвиняемых…
— Благодарю за совет, друг, — гордо возразил Босир, — я узнаю в вас честного человека, и совет ваш стоит этих двух луидоров, которые я прошу вас принять… Но отречься от сына моей жены…
— Она ваша жена?! — воскликнул врач.
— Законная? — спросил священник.
— Если Бог возвратит ей свободу, — сказал Босир, дрожа от блаженства, — то на другой же день Николь Леге будет носить имя де Босир, как ее сын и я.
— Пока что вы сильно рискуете, — повторил Гюйон, — вас, кажется, разыскивают.
— Ну уж я-то вас не выдам, — сказал врач.
— Я также, — сказала акушерка.
— Я также, — сказал священник.
— И если бы даже меня выдали, — продолжал Босир с экстазом мученика, — я готов подвергнуться колесованию, чтобы иметь утешение признать своего сына!
— Если его колесуют, — тихо сказал акушерке г-н Гюйон, который имел претензию на остроумие, — то не за то, что он назвал себя отцом маленького Туссена.
После этой шутки, вызвавшей улыбку у г-жи Шопен, приступили по всей форме к внесению имени ребенка в метрическую книгу и к признанию гражданских прав юного Босира.
Босир-отец написал свое заявление в великолепных, но немного пространных выражениях: таковы бывают донесения о подвигах, которыми авторы гордятся.
Он перечитал его, проверил, подписал и заставил четырех присутствующих также расписаться.
Потом снова прочитал и проверил, поцеловал своего сына, окрещенного по всем правилам, положил в складки его крестильной рубашки десять луидоров, повесил на шею предназначавшееся матери кольцо и гордый, как Ксенофонт во время знаменитого отступления, отворил дверь ризницы, решившись не прибегать даже к малейшей военной хитрости для спасения своей особы от сбиров, если бы нашелся бесчеловечный агент, который задержал бы его в такую минуту.
Толпа нищих оставалась все время в церкви. Если бы Босир мог вглядеться в них пристальнее, то, быть может, узнал бы между ними пресловутого Положительного, виновника его злоключений; но никто из них не пошевельнулся. Босир снова роздал милостыню, что было встречено бесчисленными пожеланиями: "Храни вас Бог!" И счастливый отец вышел из церкви святого Павла, причем со стороны его можно было принять за знатного господина, чтимого, ласкаемого, благословляемого и превозносимого бедными его прихода.
Свидетели крестин также удалились и направились к ожидавшему их фиакру, восхищенные увиденным.
Босир наблюдал за ними, стоя на углу улицы Кюльтюр- Сент-Катрин; он видел, как они сели в фиакр, и послал два-три трепетных поцелуя своему сыну. А когда фиакр скрылся из его глаз и он почувствовал, что достаточно насладился сердечными излияниями, то рассудил, что не следует испытывать ни Бога, ни полицию, и вернулся в свое убежище, известное только ему самому, Калиостро и г-ну де Крону.
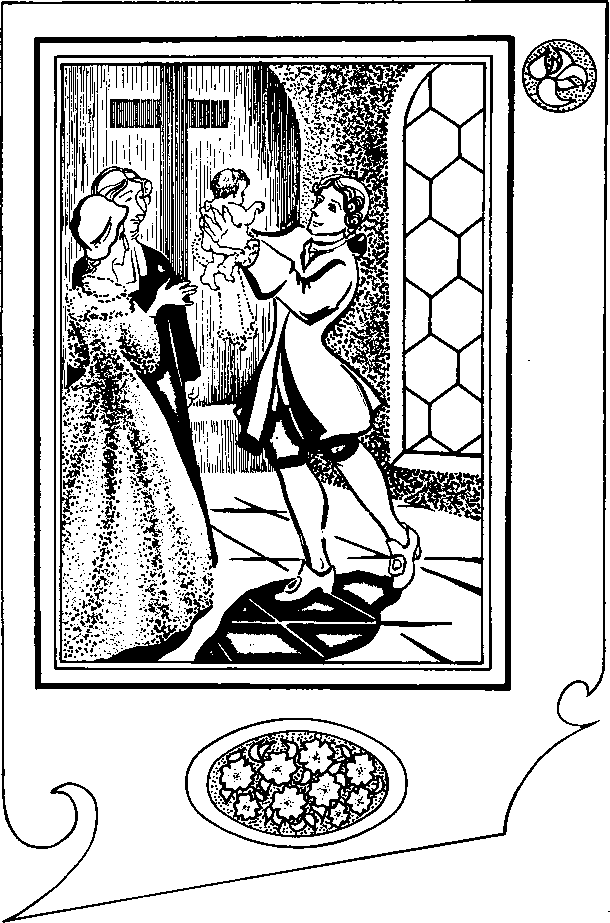
Надо сказать, что г-н де Крон сдержал слово, данное Калиостро, и не стал беспокоить Босира.
Когда ребенка привезли обратно в Бастилию и г-жа Шопен рассказала Олива все эти удивительные приключения, эта последняя надела на самый толстый свой палец кольцо Босира и, заплакав, поцеловала сына, для которого уже подыскивали кормилицу.
— Нет, — сказала она, — господин Жильбер, ученик господина Руссо, говорил мне однажды, что хорошая мать должна сама кормить своего ребенка… Я хочу сама кормить сына и быть хотя бы хорошей матерью, и так будет всегда.
XXXVII
ПОЗОРНАЯ СКАМЬЯ
Наконец, после долгих прений, настал день, когда вслед за речью генерального прокурора должен был быть объявлен приговор парламентского суда.
За исключением г-на де Рогана, все обвиняемые были переведены в Консьержери, чтобы быть ближе к залу судебных заседаний, которые начинались ежедневно в семь часов утра.
Перед лицом судей, возглавляемых первым президентом д’Алигром, обвиняемые держались так же, как и во все время следствия.
Олива была чистосердечна и застенчива; Калиостро вел себя спокойно, с видом превосходства и изредка показывал судьям свое таинственное величие, которое охотно подчеркивал.
Билет, пристыженный и униженный, плакал.
У Жанны был вызывающий вид; ее глаза метали искры, а слова были полны угроз и яда.
Кардинал держался просто, казался задумчивым и безучастным.
Жанна очень быстро освоилась с жизнью в Консьержери, снискав медовыми речами и маленькими секретами обходительности благорасположение жены смотрителя, а также ее мужа и сына.
Таким образом, она сделала себе жизнь более благоприятной и приобрела возможность поддерживать связи с теми, с кем хотела. Обезьяне всегда нужно больше места, чем собаке; точно так же и интригану в сравнении со спокойным человеком.
Судебные прения не открыли Франции ничего нового. В них по-прежнему говорилось все о том же ожерелье, украденном с такой дерзостью тем или другим из двух лиц, которых обвиняли в краже и которые в свою очередь обвиняли друг друга.
Решить, кто из них вор, — вот в чем состояла задача суда.
Увлекающийся характер французов, который их всегда приводит к крайностям, что особенно резко сказывалось в те времена, заставил их рядом с этим судебным делом создать другое.
Требовалось разрешить вопрос: была ли королева права, приказав арестовать кардинала и обвиняя его в дерзкой непочтительности.
Для всех занимавшихся во Франции политикой это добавочное дело заключало в себе главную суть всего процесса. Считал ли г-н де Роган себя вправе говорить королеве то, что он ей сказал, и действовать от ее имени, как он действовал; был ли он тайным доверенным лицом Марии Антуанетты, от которого она отреклась, как только дело получило огласку?
Словом, было ли в этом побочном деле поведение обвиненного кардинала по отношению к королеве искренним поведением наперсника?
Если он действовал искренне, то королева виновна в допущенной ею, пускай невинной, близости с кардиналом, близости, которую она отрицала, хотя на нее намекала г-жа де Ламотт. И в итоге беспощадное общественное мнение сомневалось, можно ли считать невинной близость, которую королева принуждена была отрицать перед мужем и подданными.
Вот каков был процесс, который заключительная речь генерального прокурора должна была довести до конца.
Генеральный прокурор начал свою речь.
Как представитель двора, он говорил от имени попранного, оскорбленного королевского достоинства; он защищал великий принцип нерушимости королевской власти.
Упоминая о некоторых обвиняемых, он затрагивал сущность самого процесса; говоря же о кардинале, он вдавался в рассмотрение второго, побочного дела. Он не мог допустить, чтобы в деле об ожерелье на королеве могла лежать хотя бы малейшая вина. А следовательно, вся вина лежала на кардинале.
Поэтому генеральный прокурор непреклонно потребовал:
приговорить Билета к галерам; приговорить Жанну де Ламотт к клеймению, наказанию плетьми и вечному заключению в исправительном заведении; признать Калиостро непричастным к делу; Олива просто-напросто выслать; принудить кардинала покаяться в оскорбительной для королевского величия дерзости, после покаяния запретить ему появляться перед королем и королевой, а также лишить его должностей и сана.
Эта обвинительная речь повергла членов парламента в нерешительность, а обвиняемых — в ужас. Королевская воля проявлялась в нем с такой энергией, что если бы это произошло на четверть века ранее, когда парламенты только начинали восставать против ига монархии и отстаивать свои прерогативы, та выводы королевского прокурора были бы превзойдены усердием судей и уважением их к еще почитаемому тогда принципу непогрешимости королевской власти.
Но только четырнадцать членов вполне согласились с мнением прокурора, и с этой минуты судьи разделились на партии.
Приступили к последнему допросу — формальности, почти ненужной для таких обвиняемых, потому что целью его было добиться признания в виновности до приговора; а от таких ожесточенных врагов, упорно боровшихся друг с другом столько времени, нельзя было ждать ни мира, ни перемирия. Они требовали не столько своего собственного оправдания, сколько обвинения противной стороны.
По обычаю, обвиняемый, представ перед судьями, садился на маленькую деревянную скамью, убогую, низенькую, постыдную, обесчещенную соприкосновением с обвиняемыми, которые переходили с нее на эшафот.
На нее-то сел совершивший подлоги Билет, который, плача, стал молить о прощении.
Он повторил то, что уже было известно, а именно: он виновен в подлоге, виновен в сообщничестве с Жанной де Ламотт. Он уверял, что раскаяние и угрызения совести были для него уже достаточной пыткой, которая должна смягчить судей.
Он никого особенно не интересовал, так как и был и казался обыкновенным мошенником. Когда ему позволили уйти, он, заливаясь слезами, вернулся в свою камеру в Консьержери.
После него у входа в зал появилась г-жа де Ламотт, введенная секретарем суда Фременом.
На ней была легкая накидка и линоновая рубашка; на голове — газовый чепчик без лент; на лицо спущен легкий белый газ; волосы — ненапудрены. Ее появление произвело сильное впечатление на собравшихся.
Она только что подверглась первому из ряда предстоявших ей унижений: ее провели по малой лестнице, как обычную преступницу.
В первую минуту ее ошеломила жара в зале, шум голосов и мелькание множества голов зрителей, и глаза ее мигали, как бы для того, чтобы привыкнуть к этой пестрой картине. Секретарь быстро подвел ее за руку к скамье, стоявшей посередине полукруга и напоминавшей грозный маленький обрубок, который зовется плахой, когда он стоит на эшафоте, а не возвышается в зале судебного заседания.
При виде этой позорной скамьи, предназначавшейся для нее, столь гордой своим именем Валуа и тем, что она держала в своих руках судьбу королевы Франции, Жанна де Ламотт побледнела и бросила вокруг гневный взгляд, точно желая устрашить судей, позволивших себе нанести ей такую обиду. Но, встретив на всех лицах выражение твердой воли и любопытства вместо сострадания, она затаила свое яростное негодование и села, чтобы не показалось, что она упала на скамью.
Во время допроса было замечено, что она придавала своим ответам туманный смысл, которым противники королевы могли бы пользоваться для защиты своего мнения. Она выказала определенность только тогда, когда отстаивала свою невиновность, и вынудила председателя обратиться к ней с вопросом о существовании писем, которые, по ее словам, кардинал писал королеве и королева кардиналу.
Весь ее змеиный яд должен был вылиться в ответе на этот вопрос.
Жанна начала с заверений о своем нежелании бросать какую-либо тень на королеву; она добавила, что никто лучше кардинала не мог бы ответить на этот вопрос.
— Предложите ему, — сказала она, — предъявить эти письма или копии с них и велите прочитать их, чтобы удовлетворить ваше любопытство. Что касается меня, я не берусь утверждать, написаны ли эти письма кардиналом к королеве или королевой к кардиналу; одни письма я нахожу слишком свободными и фамильярными для писем государыни к подданному, а другие — слишком непочтительными для писем подданного к королеве.
Глубокое, страшное молчание, которым был встречен этот выпад, показало Жанне, что она внушила врагам только отвращение, сторонникам — ужас, а беспристрастным судьям — недоверие. Она оставила скамью со слабой надеждой, что и кардиналу придется после нее туда сесть. Этого мщения, если можно так выразиться, ей было достаточно. Но что сталось с ней, когда, обернувшись, чтобы бросить последний взгляд на позорное место, на которое по ее милости должен был сесть Роган, она уже не увидела этой скамьи: по приказанию суда приставы убрали ее и заменили креслом. Из ее груди вырвался хриплый вой; она бросилась вон из зала, с бешенством кусая себе руки.
Началась ее пытка. Кардинал между тем подходил к залу медленными шагами; он только что приехал в карете, и для него была открыта парадная дверь.
Два пристава и два чиновника сопровождали его; комендант Бастилии шел рядом с ним.
При его входе по скамьям суда пронесся шепот, выражавший общую симпатию и уважение, и ему вторили извне сочувственные возгласы: это народ приветствовал обвиняемого и поручал его судьям.
Принц Луи был бледен и очень взволнован. Он был в длинном парадном одеянии, и на лице его можно было прочесть почтение и благосклонность обвиняемого к судьям, приговору которых он готов подчиниться и даже сам его просит.
Кардиналу, избегавшему смотреть на огороженное пространство, указали на кресло, и, после того как председатель, поклонившись ему, обратился к нему с ободрительными словами, весь суд с доброжелательностью, которая еще усилила бледность и волнение обвиняемого, попросил его сесть.
Когда он заговорил, его дрожащий голос, прерываемый вздохами, его печальный взгляд и смиренный вид вызвали глубокое сострадание у зрителей. Он говорил медленно, высказывал скорее извинения, чем доказательства, скорее мольбы, чем рассуждения, и когда он, красноречивейший оратор, умолк на полуслове, этот внезапный паралич ума и мужества произвел более сильное впечатление, чем любые доводы и защитительные речи.
Потом появилась Олива; для бедной девушки снова была принесена скамья подсудимых, которую до этого занимала Жанна де Ламотт. Многие содрогнулись при виде этого живого портрета королевы. Этот призрак Марии Антуанетты, французской королевы, на скамье для воровок и мошенниц навел ужас на самых яростных противников монархии. Но многих из них это зрелище раздразнило, как тигра, которому дали отведать крови.
В зале заговорили, что бедная Олива оставила у входа своего сына, которого сама кормила, а когда дверь открывалась, то плач сына г-на Босира как бы молил о жалости к матери.
После Олива появился Калиостро, наименее виновный из всех. Ему даже не предлагали сесть, хотя кресло все еще стояло рядом со скамьей.
Суд опасался защитительной речи Калиостро. Некоторое подобие допроса, вскоре прерванное президентом д’Алигром одним коротким "Хорошо!", удовлетворило требованиям формальности.
После этого суд объявил, что прения закончены и начинается совещание. Толпа стала медленно расходиться по улицам и набережным, намереваясь вернуться ночью, чтобы выслушать приговор, который, по слухам, не заставит себя долго ждать.
XXXVIII
ОБ ОДНОЙ РЕШЕТКЕ И ОДНОМ АББАТЕ
По окончании прений, после того как отзвучали допросы и утихли волнения, сопряженные с сидением на позорной скамье, все заключенные были помещены на ночь в Консьержери.
Как уже было сказано, вечером толпа образовала молчаливые, но оживленные группы на площади перед Дворцом правосудия, чтобы услышать приговор, как только он будет вынесен.
Странное дело! В Париже толпа узнает важные тайны раньше, чем они успевают созреть.
Итак, толпа ждала, лакомясь лакричной водой, сдобренной анисом, запасы которой разносчики пополняли под первой аркой моста Менял.
Было жарко. Июньские черные тучи набегали одна на другую подобно клубам густого дыма. На горизонте сверкали по временам слабые зарницы.
Между тем как кардинал, получивший разрешение гулять по террасам, соединяющим между собой дозорные башни, разговаривал с Калиостро о вероятном успехе их взаимной защиты; между тем как Олива в камере ласкала своего ребенка и укачивала его на руках; между тем как Рето, с сухими глазами, грызя ногти, медленно считал обещанные г-ном де Кроном экю и сопоставлял их с теми месяцами тюремного заключения, которые обещал ему парламент, — Жанна, удалившись в комнату жены смотрителя г-жи Юбер, старалась хоть каким-нибудь шумом, движением рассеять сжигавшие ее мысли.
Эта комната с высоким потолком, обширная, словно зал, и вымощенная плитами, словно галерея, освещалась большим стрельчатым окном, выходившим на набережную. Маленькие ромбовидные стекла перехватывали большую часть дневного света; кроме того, как бы для того чтобы запугать свободу в этой комнате, где обитают свободные люди, снаружи вплотную к стеклам была прикреплена громадная металлическая решетка, сгущавшая сумрак в комнате пересечениями железных прутьев и свинцовой сетки.
Впрочем, свет, просеянный сквозь это двойное сито, становился приятнее для глаз заключенных. В нем уже ничто не напоминало вызывающего блеска вольного солнца, он не мог оскорбить зрение тех, кому нельзя было выходить отсюда. Во всем, даже в дурных деяниях человека, если только их коснулась рука времени — этого уравновешивающего все посредника между человеком и Богом, — есть известная гармония, дающая успокоение и допускающая переход от скорби к улыбке.
В этой комнате с самого своего заключения в Консьержери г-жа де Ламотт жила в обществе г-жи Юбер, ее сына и мужа. Благодаря своей уживчивости и способности очаровывать она сумела вызвать любовь этих людей и нашла способ доказать им, что королева — великая преступница.
Со временем должен был настать день, когда в этой самой комнате другая смотрительница, также тронутая несчастьями заключенной, сочтет ее невиновной, видя ее терпение и доброту… И этой заключенной будет королева!
По словам самой г-жи де Ламотт, она искала общества жены смотрителя и ее знакомых, чтобы забыть о грустных мыслях, и своею веселостью оплачивала расположение к себе. Когда в тот день — в день закрытия заседаний суда, — Жанна вернулась к этим добрым людям, она нашла их озабоченными и смущенными.
От хитрой женщины не ускользала ни малейшая деталь; пустяк давал ей надежду или повергал в тревогу. Напрасно старалась она добиться истины у г-жи Юбер; та, так же как и домашние ее, отделывалась ничего не значащими словами.
В тот день Жанна увидела в углу у камина аббата, который время от времени разделял здесь семейную трапезу. Он был прежде секретарем у воспитателя графа Прованского; держался он очень просто, был умеренно язвителен и умел угодить. Давно отдалившийся от дома г-жи Юбер, он вновь стал его завсегдатаем со времени водворения г-жи де Ламотт в Консьержери.
В комнате находились также двое или трое старших служащих суда; все внимательно смотрели на г-жу де Ламотт, но говорили мало.
Она весело начала разговор.
— Я убеждена, — сказала она, — что там, наверху, беседуют оживленнее, чем мы здесь.
Этот вызов был встречен невнятными словами согласия со стороны смотрителя и его жены.
— Наверху? — спросил аббат, притворяясь непонимающим. — Где же, госпожа графиня?
— В зале, где совещаются мои судьи.
— О да, да, — сказал аббат.
И снова наступило молчание.
— Мне кажется, — продолжала она, — я держалась сегодня так, что произвела хорошее впечатление. Вы, вероятно, уже знаете это, не так ли?
— Да, конечно, сударыня, — робко проговорил смотритель.
Он встал, будто желая прервать разговор.
— Ваше мнение, господин аббат? — спросила Жанна. — Разве мое дело идет не хорошо? Подумайте, ведь не предъявлено никаких улик.
— Это верно, сударыня, — сказал аббат. — И вы можете на многое надеяться.
— Не правда ли? — воскликнула Жанна.
— Однако, — добавил аббат, — предположите, что король…
— Ну, король, и что он сделает? — запальчиво сказала Жанна.
— Э, сударыня, король может не пожелать, чтобы ему противоречили.
— Тогда придется осудить господина де Рогана, а это невозможно.
— Это действительно трудно, — послышалось со всех сторон.
— А в этом деле, — поспешила вставить Жанна, — кто говорит про господина де Рогана, говорит про меня.
— Вовсе нет, совсем нет, — возразил аббат, — вы заблуждаетесь, сударыня. Один обвиняемый будет оправдан… Я думаю, что это будете вы, и даже надеюсь на это. Но только один. Королю нужен виновный, иначе что же будет с королевой?
— Правда, — глухо сказала Жанна, обиженная противоречием, на которое ей пришлось натолкнуться, когда она выражала надежду более призрачную, чем действительную. — Королю нужен виновный?! Что же из этого? Для этого господин де Роган годится не менее меня.
Зловещее для графини молчание водворилось после этих слов.
Аббат первый прервал его.
— Сударыня, — сказал он, — король не злопамятен, и, утолив первый гнев, он не станет думать о прошлом.
— Но что вы называете утолением гнева? — спросила иронически Жанна. — И Нерон бывал в гневе, и Тит, каждый по-своему.
— Его удовлетворит… чье-либо осуждение, — поспешно сказал аббат.
— Чье-либо?.. — воскликнула Жанна. — Вот ужасное слово… Оно слишком неясно… Чье-либо… этим все, по-вашему, сказано!
— О, я говорю только о заключении в монастырь, — холодно ответил аббат. — По слухам, король готов охотнее всего применить это именно к вам.
Жанна посмотрела на этого человека с ужасом, тотчас уступившим место взрыву ярости.
— Заключение в монастырь! — сказала она, — То есть медленная смерть, позорная в мелочах, жестокая смерть под видом милосердия!.. Заключение in расе, не так ли? Муки голода, холода, наказаний! Нет, довольно пыток, довольно позора, довольно несчастья для невиновной, в то время как виновная могущественна, свободна, уважаема! Смерть немедля, но смерть, которую я сама изберу себе в судьи, чтобы она покарала меня за то, что я родилась на этот гнусный свет!
И не слушая ни убеждений, ни просьб, не давая себя остановить, она оттолкнула смотрителя, опрокинула аббата, отстранила г-жу Юбер и подбежала к поставцу, чтобы схватить нож.
Им удалось втроем удержать ее; тогда она пустилась стремительно бежать, как пантера, которую охотники встревожили, но не испугали, и, испуская гневные крики, слишком громкие для того, чтобы считать их естественными, она бросилась в соседнюю комнату и, подняв огромную фаянсовую вазу, в которой рос чахлый розовый куст, нанесла ею несколько ударов себе по голове.
Ваза разбилась, один осколок остался в руках этой фурии; кожа на лбу ее была рассечена, по лицу текла кровь. Жанну усадили в кресло, стали лить на нее душистую воду и уксус. После ужасных судорог, от которых дергалось все ее тело, она лишилась чувств.
Когда она очнулась, аббату показалось, что она задыхается.
— Послушайте, — сказал он, — эта решетка не пропускает ни света, ни воздуха. Нельзя ли дать немного подышать больной женщине?
Тогда г-жа Юбер, забыв обо всем, подбежала к шкафу около камина, достала оттуда ключ, отперла им решетку, и тотчас живительный воздух потоками ворвался в комнату.
— А! — сказал аббат. — Я не знал, что эта решетка открывается ключом. Для чего такие предосторожности, Бог мой?
— Таков приказ! — ответила г-жа Юбер.
— Да, я понимаю, — добавил аббат с явным умыслом, — это окно находится на высоте только семи футов от земли и выходит на набережную. Если бы заключенным удалось выбраться из внутреннего помещения Консьержери, то, пройдя через вашу комнату, они оказались бы на свободе, не встретив ни одного тюремщика или часового.
— Совершенно верно, — сказала жена смотрителя. Бросив украдкой взгляд на г-жу де Ламотт, аббат заметил, что она все слышала, что она даже вздрогнула и, выслушав его слова, подняла глаза к шкафу, где жена смотрителя прятала ключ от решетки; шкаф закрывался простым поворотом медной ручки.
Для аббата этого было достаточно. Его дальнейшее присутствие оказывалось бесполезным.
Он вышел, но тотчас вернулся, проделав то, что называется на сцене ложным уходом.
— Сколько народу на площади! — сказал он. — Вся толпа упорно устремляется к этой стороне дворца, между тем как на набережной ни души.
Смотритель выглянул в окно.
— Правда, — сказал он.
— Разве думают, — продолжал аббат, будто г-жа де Ламотт не могла слышать, а она отлично все слышала, — что приговор будет вынесен ночью? Ведь этого не будет, не так ли?
— Не думаю, — сказал смотритель, — чтобы его вынесли ранее завтрашнего утра.
— Ну что ж, — добавил аббат, — дайте этой бедной госпоже де Ламотт немного отдохнуть. После таких потрясений она наверняка нуждается в отдыхе.
— Мы уйдем в свою комнату, — сказал добродушный смотритель своей жене, — и оставим ее здесь в кресле, если она не пожелает лечь в постель.
Приподняв голову, Жанна встретила взгляд аббата, ждавшего ее ответа. Она притворилась, что снова засыпает.
Тогда аббат исчез, смотритель с женою также ушли, тихо заперев решетку и положив ключ на место.
Как только. Жанна осталась одна, она открыла глаза.
"Аббат советует мне бежать, — размышляла она. — Невозможно яснее указать мне на необходимость бегства и на способ к нему! Грозить мне осуждением до произнесения судом приговора — это поступок друга, желающего заставить меня вернуть себе свободу; это не может быть жестокостью человека, который хочет оскорбить меня.
Чтобы бежать, мне надо сделать только один шаг; я открываю этот шкаф, потом эту решетку, и вот я на безлюдной набережной.
Да, безлюдной!.. Никого! Даже луна прячется.
Бежать! О! Свобода! Счастье снова обрести богатство… счастье оплатить моим врагам за то зло, которое они мне причинили!"
Она бросилась к шкафу и схватила ключ. Она уже приближалась к решетке.
Но вдруг ей показалось, что на мосту стоит какая-то черная фигура, нарушающая темную прямую линию перил.
"Там во мраке стоит какой-то человек, — говорила она себе, — быть может, аббат; он наблюдает за моим бегством; он ждет меня, чтобы помочь мне. Да, но если это ловушка? Если спустившись на набережную, я буду захвачена при попытке к бегству, на месте преступления? Бегство — это признание в преступлении или, по крайней мере, признание, что я боюсь. Тот, кто спасается бегством от своей совести… Откуда явился этот человек? Кажется, он имеет какое-то отношение к графу Прованскому… Но кто поручится, что он не подослан королевой или Роганами?.. Как дорого дала бы их партия за всякий ложный шаг с моей стороны!.. Да, там кто-то сторожит!..
Заставить меня бежать за несколько часов до приговора! Разве не могли этого устроить ранее, если бы действительно желали мне добра? Боже мой! Как знать, не получили ли уже мои враги весть о моем оправдании, решенном на совещании судей? Как знать, не хотят ли отразить этот ужасный для королевы удар доказательством моей виновности или моим признанием в ней? Таким признанием и доказательством послужило бы мое бегство. Я остаюсь!"
С этой минуты Жанна прониклась убеждением, что избежала западни. Она улыбнулась, подняла голову с вызывающим и хитрым видом и положила ключ от решетки обратно в маленький шкаф около камина.
Потом она опять уселась в кресло между окном и горевшей свечой и, притворяясь спящей, продолжала издали следить за тенью сторожившего человека, который, вероятно утомившись ожиданием, исчез при первых лучах зари, в половине третьего утра, когда глаз уже начинал отличать воду от берега.
Назад: XXII ПРОТОКОЛЫ
Дальше: XXXIX ПРИГОВОР

