Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 20. Ожерелье королевы
Назад: V ПЛЕННИЦА
Дальше: XVII КОРОЛЕМ НЕ МОГУ БЫТЬ, ГЕРЦОГОМ — НЕ ХОЧУ, РОГАН Я ЕСМЬ
XI
ЖЕНЩИНА И ДЕМОН
Жанна заметила смятение Шарни, заботливость королевы и стремление обоих начать разговор.
Для такой наблюдательной женщины этого было более чем достаточно, чтобы догадаться о многом; с нашей стороны будет излишним объяснять то, что читатели уже поняли.
После подстроенной Калиостро встречи г-жи де Ламотт с Олива комедия трех последних ночей не нуждается в комментариях.
Входя к королеве, Жанна стала прислушиваться и наблюдать; ей хотелось прочесть на лице Марии Антуанетты доказательства верности своих подозрений.
Но королева с некоторых пор научилась всех остерегаться. Она ничем не выдала себя, и Жанна должна была ограничиться одними догадками.
Она приказала одному из своих лакеев проследить за г-ном де Шарни. Слуга вернулся и донес, что г-н граф вошел в домик на краю парка, возле буковой рощи.
"Нет никакого сомнения, — подумала Жанна, — это влюбленный, и он все видел".
Она услышала, как королева сказала г-же де Мизери:
— Я чувствую большую слабость, моя милая Мизери, и лягу сегодня около восьми часов.
И на какое-то возражение первой дамы покоев добавила:
— Я не приму никого.
"Дело достаточно ясно, — сказала себе Жанна, — надо быть дурой, чтобы не понять".
Королева, взволнованная недавней сценой с Шарни, вскоре отпустила всю свиту. Жанна обрадовалась этому впервые со времени своего появления при дворе.
"Карты смешались, — сказала она себе. — В Париж! Пора разрушать то, что я создала".
И она тотчас уехала из Версаля.
Приехав домой, на улицу Сен-Клод, она нашла там великолепный серебряный сервиз — подарок, присланный кардиналом в то утро.
Бросив равнодушный взгляд на это подношение, хотя и весьма ценное, она посмотрела из-за занавески на окна Олива, остававшиеся еще закрытыми. Чувствуя утомление, Олива спала. День был очень жаркий.
Жанна велела отвезти себя к кардиналу, которого нашла сияющим, дерзким, раздувшимся от радости и гордости; сидя за роскошным бюро, чудом искусства Буля, он неутомимо рвал и снова принимался писать какое-то письмо, которое начиналось каждый раз одинаково, но никогда не заканчивалось.
Услышав доклад камердинера, монсеньер кардинал воскликнул:
— Дорогая графиня!
И устремился ей навстречу.
Жанна соблаговолила принять поцелуи, которыми прелат покрыл ее руки. Она уселась поудобнее, готовясь наилучшим образом провести предстоящий разговор.
Монсеньер начал с уверений в благодарности, вполне красноречивых и искренних.
Жанна прервала его.
— Знаете, — сказала она, — что вы очень деликатный любовник, монсеньер, и я вам очень благодарна?
— За что?
— Не за прелестный подарок, который вы мне послали сегодня утром, но за выказанную вами предупредительность: за то, что вы послали его не в маленький домик. Право, это очень деликатно. Ваше сердце не продается, оно отдает себя.
— О чьей деликатности можно говорить, если не о вашей? — заметил кардинал.
— Вы не только счастливый человек, — сказала Жанна, — вы торжествующий бог.
— Я признаю это, и счастье страшит меня; оно меня как-то стесняет; оно сделало для меня невыносимым общество других людей. Это напоминает мне языческую басню о Юпитере, утомленном своим сиянием.
Жанна улыбнулась.
— Вы из Версаля? — жадно спросил он.
— Да.
— Вы… ее видели?
— Я… сейчас от нее.
— Она… ничего… не сказала?
— А что бы она могла сказать, по-вашему?
— Простите; это уже не любопытство, а безумие страсти.
— Не спрашивайте меня ни о чем.
— О, графиня!
— Нет, говорю я вам.
— Как вы это сказали! По вашему виду можно подумать, что вы принесли мне дурную весть.
— Монсеньер, не заставляйте меня говорить.
— Графиня! Графиня!
И кардинал побледнел.
— Слишком большое счастье, — сказал он, — подобно высшей точке колеса Фортуны: едва кончается взлет — тут же начинается падение. Но не щадите меня, если произошло какое-нибудь несчастье… но ведь его нет… не правда ли?
— Совершенно напротив, монсеньер, — ответила Жанна, — я назвала бы это большим счастьем.
— Это?.. Что именно? Что вы хотите сказать? В чем счастье?
— В том, что нас не обнаружили, — сухо отвечала Жанна.
— О! — с улыбкой откликнулся кардинал. — При соблюдении осторожности, при согласии двух сердец и одного ума…
— Один ум и два сердца, монсеньер, не могут помешать чьим-нибудь глазам видеть сквозь листву.
— Нас видели! — воскликнул с испугом г-н де Роган.
— Я имею основание предполагать это.
— Но… если видели, то и узнали?
— О, монсеньер, вы сами так не думаете; если бы нас узнали, если б эта тайна была в чьих-нибудь руках, Жанна де Валуа была бы уже на краю света, а вы, вы должны были бы умереть.
— Это правда. Все эти недомолвки, графиня, поджаривают меня на медленном огне. Нас видели, пусть так. Но видели людей, прогуливающихся по парку. Разве это не дозволяется?
— Спросите у короля.
— Король знает!
— Я говорю еще раз: если б король знал, вы были бы в Бастилии, а я в исправительном заведении. Так как одно избегнутое несчастье стоит двух обещанных счастий, то я пришла вам посоветовать — не искушать Бога еще раз.
— Что? — воскликнул кардинал. — Что значат ваши слова, милая графиня?
— Вы их не понимаете?
— Боюсь, что так.
— А я буду бояться, пока вы меня не успокоите.
— Что же надо сделать для этого?
— Не ездить более в Версаль.
Кардинал подскочил на месте.
— Днем? — сказал он, улыбаясь.
— Во-первых, днем, а во-вторых, ночью.
Господин де Роган вздрогнул и выпустил руку графини.
— Это невозможно, — сказал он.
— Теперь моя очередь взглянуть вам прямо в глаза, — отвечала она. — Вы, кажется, сказали, что это невозможно? Почему же, позвольте спросить?
— Потому что в сердце у меня любовь, которая окончится только вместе с моей жизнью.
— Я это вижу, — с иронией перебила Жанна, — и чтобы скорее достичь этой цели, вы упорно желаете снова пробраться в парк. Да, если вы побываете там, то вашей любви настанет конец одновременно с жизнью: обе будут прерваны одним ударом.
— Какие ужасы, графиня! Еще вчера вы были так отважны…
— Моя отвага — сродни отваге зверей. Я ничего не боюсь, пока нет опасности.
— А моя отвага — наша родовая черта. Я счастлив только перед лицом опасности.
— Очень хорошо; но тогда позвольте вам сказать…
— Ни слова, графиня, ни слова! — прервал ее влюбленный прелат, — жертва принесена, жребий брошен! Смерть — если надо, но оставьте мне любовь! Я вернусь в Версаль.
— Один? — спросила графиня.
— Вы хотите покинуть меня? — сказал г-н де Роган с упреком.
— Сначала я.
— Но она придет.
— Вы ошибаетесь, она не придет.
— Вы явились возвестить мне об этом от ее имени? — дрожа, проговорил кардинал.
— Вот уже полчаса, как я стараюсь подготовить вас к этому удару.
— Она не желает больше меня видеть?
— Никогда, и я посоветовала ей это.
— Сударыня, — взволнованно сказал прелат, — с вашей стороны очень жестоко вонзать нож в сердце, нежность которого вам известна.
— С моей стороны было бы гораздо хуже, монсеньер, дать двум безумным погибнуть, не подав им доброго совета. Я его даю, пусть, кто желает, пользуется им.
— Графиня, графиня, лучше умереть!
— Это зависит от вас и вовсе не трудно.
— Смерть так смерть, — сказал кардинал мрачным голосом, — я предпочитаю смерть грешника. Будь благословен ад, где я найду свою сообщницу!
— Святой отец, вы богохульствуете! — сказала графиня. — Подданный, вы развенчиваете свою королеву! Мужчина, вы губите женщину!
Кардинал схватил графиню за руку; речь его была похожа на бред.
— Сознайтесь, что она не говорила вам этого! — воскликнул он. — И что она не отречется от меня таким образом!
— Я говорю от ее имени.
— Она требует только отсрочки.
— Примите это как знаете, но повинуйтесь ее приказанию.
— Парк не единственное место, где можно видеться… есть тысяча более безопасных мест… Приезжала же королева к вам, наконец!
— Монсеньер, ни слова более; меня давит смертельная тяжесть — ваша тайна. Я не в силах нести ее дольше. И чего не сделает ваша неосторожность, случай или недоброжелательство какого-нибудь врага, то сделают угрызения совести. Я считаю ее способной в припадке отчаяния во всем признаться королю.
— Великий Боже, возможно ли! — воскликнул г-н де Роган. — Она может это сделать?
— Если бы вы ее видели, то сжалились бы над ней.
Кардинал поспешно встал.
— Что же делать? — сказал он.
— Утешить ее своим молчанием.
— Она подумает, что я ее забыл.
Жанна пожала плечами.
— Она обвинит меня в трусости.
— В трусости? Когда дело идет о ее спасении? Никогда.
— Разве женщина прощает человеку, который добровольно отказывается видеться с нею?
— Не судите о ней так, как стали бы судить обо мне.
— Я знаю ее величие и силу. Я люблю ее за мужество и благородное сердце. Она может положиться на меня, как и я полагаюсь на нее. Я увижусь с ней в последний раз, она узнает все мои затаенные мысли, и то, что она решит, выслушав меня, я выполню как священный обет.
Жанна встала.
— Как вам угодно, — сказала она. — Идите! Только вы отправитесь один. Возвращаясь сегодня, я бросила ключ от парка в Сену. Вы поедете, когда вам заблагорассудится, в Версаль, а я тем временем уеду в Швейцарию или Голландию. Чем дальше я буду от бомбы в момент ее взрыва, тем менее мне будут страшны ее осколки.
— Графиня, вы хотите покинуть меня, бросить! О Боже! С кем же я буду говорить о ней?
Тут Жанна вспомнила сцены из Мольера; еще ни один безумный Валер не подавал столь хитрой Дорине более удобных реплик.
— Ведь у вас есть парк и эхо, — сказала Жанна. — Поведайте им имя Амарилис.
— Графиня, сжальтесь. Я в полном отчаянии, — с искренним сердечным порывом сказал прелат.
— Ну, — воскликнула Жанна резким энергичным тоном хирурга, решившегося на ампутацию, — если вы в отчаянии, господин де Роган, то все же не допускайте себя до ребячеств, более опасных, чем порох, чума и сама смерть! Если вы так дорожите этой женщиной, то сохраните ее вместо того, чтобы терять, и если вы не совсем лишены сердца и памяти, то не делайте попыток увлечь в своем падении за собою тех, кто оказал вам дружескую услугу. Я не хочу играть с огнем. Клянетесь ли вы мне, что не сделаете ни одного шага, чтобы увидеть королеву? Даже увидеть ее, понимаете, — а тем более заговорить с ней — в продолжение двух недель? Клянетесь ли вы? Тогда я остаюсь и смогу еще служить вам. Или вы решаетесь всем пренебречь, чтобы нарушить ее запрещение и мое? Если я это узнаю — десять минут спустя тронусь в путь. Выпутывайтесь как знаете!
— Это ужасно, — пробормотал кардинал. — Какое страшное, головокружительное падение — низвергнуться с вершины такого счастья! О, я умру!
— Ну-ну, — шепнула ему на ухо Жанна, — ваша любовь ведь вся основана на самолюбии.
— Теперь это любовь, — возразил кардинал.
— Так пострадайте немного, — сказала Жанна, — это неизбежное условие в данном положении. Решайте же, монсеньер… Оставаться мне? Или ехать по дороге, ведущей в Лозанну?
— Оставайтесь, графиня, но найдите мне какое-нибудь успокаивающее лекарство. Рана слишком мучительна.
— Клянетесь вы слушаться меня?
— Слово Рогана!
— В таком случае лекарство найдется. Я запрещаю вам свидания, но не запрещаю писем.
— Правда? — воскликнул безумец, воскресая от этой надежды. — Я могу писать ей?
— Попытайтесь.
— И… она ответит мне?
— Я попробую добиться этого.
Кардинал осыпал поцелуями руки Жанны и назвал ее своим ангелом-хранителем.
Должно быть, он изрядно насмешил этим демона, жившего в сердце графини.
XII
НОЧЬ
В тот же день, в четыре часа пополудни какой-то всадник остановился на краю парка, за купальней Аполлона.
Всадник совершал прогулку для своего удовольствия; напоминая своей задумчивой красотой Ипполита, он ехал шагом, бросив поводья на шею коню.
Он остановился, как мы сказали, у того места, где г-н де Роган последние три дня оставлял свою лошадь. Земля в этом месте была взрыта подковами, а кусты вокруг дуба, к которому кардинал привязывал лошадь, объедены.
Всадник спешился.
— Да, опустошение изрядное, — сказал он и подошел к стене.
— Вот следы ног того, кто взбирался на стену; вот калитка, которую недавно открывали. Я так и думал. Тот, кто воевал с индейцами в саваннах, сумеет распознать следы лошади и человека. Итак, прошло уже две недели с тех пор, как вернулся господин де Шарни; за эти две недели он еще нигде не появлялся. Вот та дверь, которую граф избрал для входа в Версаль.
Проговорив это, всадник вздохнул так тяжело и глубоко, точно его душа готова была вырваться вместе с этим вздохом.
— Пусть же мой ближний наслаждается счастьем, — прошептал он, всматриваясь в красноречивые следы на траве и на стене. — Что Господь дает одним, в том отказывает другим. Господь знает, почему одним он посылает счастье, другим — несчастье… Да будет благословенна его воля!
Все же я желал бы каких-нибудь доказательств. Но какой ценой, каким образом получить их?
О, нет ничего легче. Ночью в кустах невозможно заметить человека, зато он со своего скрытого наблюдательного пункта может увидеть всех, кто явится сюда. Сегодня вечером я спрячусь в кусты.
Всадник подобрал поводья лошади, не спеша сел в седло и исчез за поворотом стены.
Что касается Шарни, то он, повинуясь приказанию королевы, заперся у себя, ожидая вестей от нее.
Настала ночь. Никто не являлся. Вместо того чтобы караулить у окна, выходящего в парк, Шарни смотрел в другое окно той же комнаты, выходившее на маленькую улицу. Королева сказала: "Ждите меня у двери охотничьего домика…" Но в этом домике окна и двери приходились вровень с первым этажом. Важно, что можно было видеть всякого, кто подойдет. Он всматривался в темную ночь, с минуты на минуту надеясь услышать галоп лошади или поспешные шаги курьера.
Пробило половину одиннадцатого. Никого. Очевидно, королева обманула Шарни. Она пошла на уступку под впечатлением первой минуты замешательства. Смущенная его словами, она обещала то, чего не могла сделать, и — страшно подумать — дала обещание, зная, что не сдержит его.
Шарни, переходя к подозрению с той быстротой, которая особенно свойственна сильно влюбленным людям, уже упрекал себя за легковерие.
Беснуясь от ярости, он предавался этим мрачным размышлениям, когда шорох брошенной в стекло горсти песка привлек его внимание и заставил стремительно подбежать к окну, выходившему в парк.
Внизу, в буковой аллее он заметил женщину в широкой черной накидке. Ее бледное встревоженное лицо было обращено к нему. Он не мог сдержать крика радости и вместе с тем сожаления. Женщина, ожидавшая и звавшая его, была королева!
Одним прыжком он выскочил из окна и упал к ногам Марии Антуанетты.
— А, вы здесь, сударь? Наконец-то, — сказала королева тихим взволнованным голосом. — Где же вы были до сих пор?
— Вы, вы, ваше величество! Вы сами — возможно ли? — прошептал Шарни, склоняясь к ее ногам.
— Так-то вы ждали меня?
— Я ждал вас со стороны улицы, ваше величество.
— Помилуйте, зачем идти по улице, когда так просто пройти через парк?
— Я едва смел надеяться увидеть вас, ваше величество, — сказал Шарни с выражением страстной благодарности в голосе.
— Нам здесь нельзя оставаться, здесь слишком светло, — прервала его она. — Ваша шпага при вас?
— Да.
— Хорошо! Откуда, говорите вы, входили люди, которых вы видели?
— Через эту калитку.
— В котором часу?
— Всякий раз в полночь.
— Нет основания, чтобы они не пришли и в эту ночь. Вы ни с кем не говорили?
— Ни с кем.
— Войдем в чащу и будем ждать.
— О ваше величество…
Королева прошла вперед и быстрым шагом направилась в нужную сторону.
— Вы понимаете, — вдруг проговорила она, точно желая опередить мысль Шарни, — что я и не подумала рассказать об этом деле начальнику полиции. С тех пор как я высказала ему свою жалобу, господин де Крон имел достаточно времени для того, чтобы осуществить правосудие. Если женщина, которая присваивает себе мое имя, употребив во зло свое сходство со мной, еще не задержана, если вся эта тайна еще не раскрыта, то, как вы понимаете, для этого могут быть две причины: или неспособность господина де Крона, что было бы еще не так важно, или его сговор с моими врагами. И мне кажется едва ли возможным, чтобы у меня, в моем парке, кто-нибудь позволил себе ту гнусную комедию, о которой вы мне рассказывали, если бы ее участники не были уверены в прямой поддержке и молчаливом сообщничестве. Вот почему виновные в этом представляются мне лицами настолько опасными, что я никому другому не хочу доверять это важное дело — обнаружить их. Что вы об этом думаете?
— Я прошу позволения у вашего величества не произносить больше ни одного слова. Я в отчаянии; у меня еще есть опасения, но подозрений больше нет.
— Вы, по крайней мере, честный человек, — с живостью проговорила королева, — вы умеете говорить правду в лицо. Это достоинство, которое иногда может обидеть неповинных, когда ошибаются на их счет; но такие раны излечиваются.
— О ваше величество, уже одиннадцать часов; я дрожу.
— Удостоверьтесь, что поблизости никого нет, — сказала королева, чтобы удалить своего спутника.
Шарни повиновался. Он обыскал всю чащу парка до самых стен.
— Никого, — сказал он, возвратившись.
— Где происходила сцена, о которой вы рассказывали?
— Ваше величество, только что, вернувшись с моих поисков, я почувствовал страшный удар в сердце, увидев вас. Вы стоите на том самом месте, где в эти ночи я видел… самозваную французскую королеву.
— Здесь! — воскликнула королева, с отвращением отходя от места, где она стояла.
— Под этим каштаном, да, ваше величество.
— Но в таком случае, сударь, — сказала Мария Антуанетта, — не будем тут стоять. Ведь если они придут, то явятся сюда.
Шарни последовал за королевой в другую аллею. Его сердце билось так сильно, что он опасался не услышать стука, когда отворят калитку.
В гордом молчании королева ожидала появления живого доказательства ее невиновности.
Пробило полночь. Калитка не отворялась.
Прошло полчаса, и за это время Мария Антуанетта более десяти раз спрашивала у Шарни, всегда ли обманщики являлись строго в назначенное для свидания время.
На колокольне святого Людовика в Версале пробило три четверти первого.
Королева нетерпеливо топнула ногой.
— Вот увидите, что они сегодня не придут! — сказала она. — Такие несчастья случаются только со мною!
Произнося эти слова, она пристально глядела на Шарни, стараясь подметить в его глазах малейшую искорку торжества или иронии, чтобы гневно обрушиться на него.
Но он, все больше бледнея по мере того, как подозрения снова зарождались в нем, хранил такой строгий и грустный вид, что выражение лица его в эту минуту напоминало светлое терпение мучеников и ангелов.
Королева взяла его под руку и привела обратно под каштан, где они стояли раньше.
— Вы говорите, что видели их здесь? — прошептала она.
— Здесь, ваше величество.
— Здесь женщина дала розу мужчине?
— Да, ваше величество.
Королева так устала, так ослабела от долгого пребывания в сыром парке, что прислонилась к стволу дерева и опустила голову на грудь.
Ноги ее подкосились, и так как она не опиралась более на руку Шарни, то скорее упала, чем опустилась на траву и мох.
Он продолжал стоять в мрачной и неподвижной позе.
Она закрыла лицо руками, так что Шарни не мог видеть, как скатилась слеза между длинными белыми пальцами королевы.
Но вот она подняла голову.
— Сударь, — заговорила она, — вы правы: я осуждена.
Я обещала доказать вам сегодня, что вы оклеветали меня. Богу это не угодно, и я преклоняюсь перед его волей.
— Ваше величество… — пробормотал Шарни.
— Я сделала то, — продолжала она, — чего не сделала бы ни одна женщина на моем месте. Я не говорю о королевах. О сударь, что значит для королевы сан, если она не может властвовать даже над одним сердцем? Что значит для нее сан, если она даже не может снискать уважения одного честного человека? Но, сударь, по крайней мере помогите же мне встать, чтобы я могла уйти; не презирайте меня настолько глубоко, чтобы отказаться подать мне руку.
Шарни как безумный бросился к ее ногам.
— Ваше величество, — сказал он, падая перед ней ниц, — если б я не был несчастным человеком, любящим вас, вы простили бы мне, не правда ли?
— Вы! — воскликнула с горьким смехом королева. — Вы! Вы меня любите и при этом считаете меня бесчестной!..
— О ваше величество…
— Вы!.. Хотя вы должны были бы кое-что помнить, вы обвиняете меня в том, что здесь я дала цветок, подальше поцелуй, а там — всю свою любовь другому человеку… Не лгите, сударь, вы меня не любите!
— Ваше величество, вот там я видел призрак, призрак влюбленной королевы. А здесь, где стою я, был призрак любовника. Вырвите мне из груди сердце; эти два адских образа живут в нем и терзают его.
Она взяла его за руку и порывисто привлекла к себе.
— Вы видели… вы слышали… Это ведь была я, не так ли? — сказала она сдавленным голосом. — О, это была я, не ищите другой разгадки. А что, если на этом самом месте, под этим самым каштаном, как я сидела тогда, видя вас у своих ног, как и того, другого, я возьму ваши руки в свои, привлеку вас к своей груди, заключу вас в объятия и скажу вам… Я, поступавшая так с другим — не правда ли? Я, говорившая те же слова другому — не правда ли?.. — если я скажу вам: господин де Шарни, я любила, я люблю, я буду любить только одного человека в мире… вас! Боже мой! Боже мой! Будет ли этого достаточно, чтобы убедить вас: не может быть бесчестной та, у которой в сердце вместе с императорской кровью горит божественный огонь такой любви, как эта?
Шарни застонал, как человек, расстающийся с жизнью. Королева, говоря с ним, опьяняла его своим дыханием; он чувствовал, как шевелились ее губы, пока она говорила; ее рука жгла ему плечо, ее грудь жгла ему сердце, ее дыхание обжигало ему губы.
— Дайте мне вознести благодарность Богу, — прошептал он. — О, если б я не думал о нем, я думал бы слишком много о вас.
Она медленно встала и устремила на него горящие, полные слез глаза.
— Возьмите мою жизнь! — проговорил он вне себя от счастья.
Она помолчала с минуту, не переставая смотреть на него.
— Дайте мне вашу руку, — сказала она, — и ведите меня всюду, где были другие. Сначала здесь… здесь, где была дана роза… — Она сняла со своего платья розу, еще хранившую в себе жар огня, сжигавшего ее грудь.
— Возьмите! — сказала она.
Он вдохнул благоухание цветка и спрятал его у себя на груди.
— Здесь, — продолжала она, — та, другая, дала поцеловать свою руку?
— Обе руки! — сказал Шарни и пошатнулся, точно в опьянении, когда его лица коснулись горячие руки королевы.
— Ну вот, это место очищено от заклятия, — сказала королева с очаровательной улыбкой. — Затем они, кажется, ходили к купальне Аполлона?
Шарни остановился, ошеломленный, полуживой, точно небесный свод обрушился на него.
— Это, — весело продолжала королева, — место, куда я всегда вхожу только днем. Пойдемте взглянуть вместе на калитку, через которую убегал этот любовник королевы.
Радостная, легкая, опираясь на руку счастливейшего из всех когда-либо благословенных Богом людей, она почти бегом прошла по лужайкам, отделявшим чащу парка от каменной ограды. Таким образом они дошли до калитки, за которой видны были следы лошадиных копыт.
— Это здесь, снаружи, — сказал Шарни.
— У меня есть все ключи, — отвечала королева. — Откройте, господин де Шарни, осмотрим.
Они вышли и нагнулись, чтобы лучше видеть; луна показалась из-за облака как будто для того, чтобы помочь им в их расследованиях.
Белый луч нежно коснулся прекрасного лица королевы, которая опиралась на руку Шарни, прислушиваясь и всматриваясь в окрестные кусты.
Когда она вполне убедилась, что все тихо, она нежным движением привлекла Шарни к себе и заставила его войти обратно в парк.
Калитка закрылась за ними.
Пробило два часа.
— Прощайте, — сказала она. — Возвращайтесь к себе. До завтра.
Она пожала ему руку и, не прибавив ни слова, быстро удалилась по буковой аллее в сторону дворца.
По ту сторону калитки, которую они только что закрыли, поднялся из чащи кустов какой-то человек и скрылся в лесу, окаймлявшем дорогу.
Человек этот уносил с собою тайну королевы.
XIII
ПРОЩАНИЕ
На другое утро королева, прекрасная, с сияющей улыбкой вышла из своих комнат, собираясь идти к мессе. Стража получила приказание допускать всех. День был воскресный, и, ее величество, проснувшись, сказала:
— Какой чудесный день! Какой хорошей кажется сегодня жизнь!
Казалось, она с большим, чем обыкновенно, удовольствием вдыхала аромат своих любимых цветов; с более великолепной щедростью, чем обычно, жаловала и одаряла; больше, чем всегда, спешила открыть свою душу Богу.
Она прослушала мессу, ни на секунду не отвлекаясь. Никогда еще она не наклоняла так низко свою величественную голову.
Пока она усердно молилась, толпа, как это бывало по воскресеньям, собиралась на пути из ее покоев в часовню; самые ступени лестницы были заполнены придворными кавалерами и дамами.
В числе последних блистала скромно, но изящно одетая г-жа де Ламотт.
А в двойной шпалере придворных с правой стороны можно было увидеть г-на де Шарни, который выслушивал приветствия многочисленных друзей по поводу выздоровления, возвращения и, главное, по поводу его сияющего вида.
Высочайшая благосклонность, словно тонкое ароматное курение, разносится в воздухе с такой легкостью и быстротой, что еще задолго до того, как бывает открыта курильница, знатоки определяют, узнают и оценивают это благовоние. Прошло только шесть часов, как Оливье стал другом королевы, а уже все наперебой называли себя его друзьями.
Принимая поздравления с добродушием истинного счастливца — причем для того, чтобы выказать ему больше чести и больше дружбы, все стоявшие в левой шпалере перешли на правую сторону — и волей-неволей оглядывая собиравшуюся вокруг него группу, Оливье заметил прямо перед собой одиноко стоявшего человека и в чаду упоения все же невольно был поражен его мрачной бледностью и неподвижностью.
Он узнал Филиппа де Таверне, который был затянут в мундир и держал руку на эфесе шпаги.
С тех пор как Филипп после дуэли побывал с визитами вежливости в передней своего противника, с тех пор как доктор Луи подверг Шарни заточению, никаких отношений между соперниками не существовало.
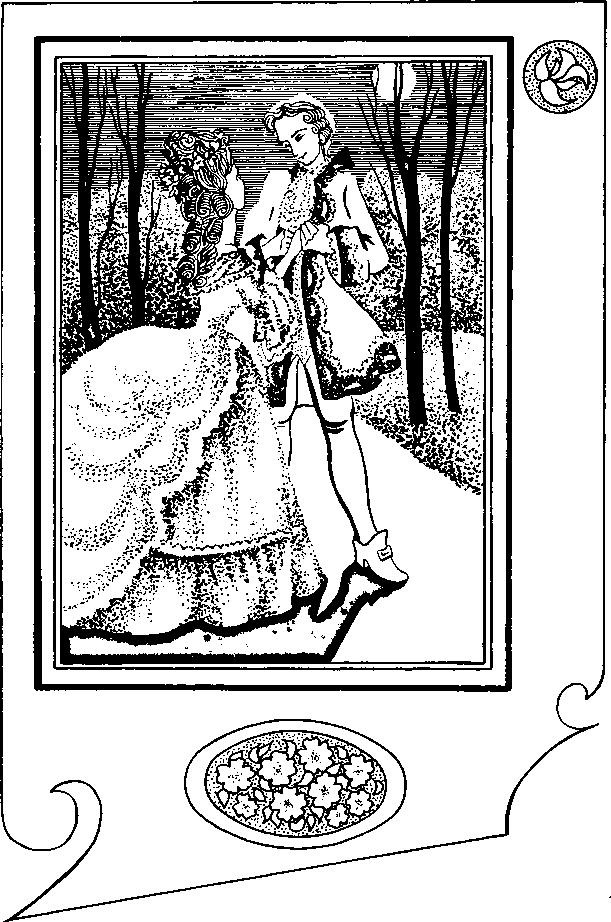
Шарни, видя, что Филипп смотрит на него спокойно, без доброжелательства, но и без угрозы, поклонился ему; Филипп ответил ему поклоном издали.
Потом, раздвинув рукою окружавшую его группу, Оливье сказал:
— Простите, господа, позвольте мне исполнить долг вежливости.
И, пройдя пространство, разделявшее правую и левую шпалеры придворных, он прямо подошел к Филиппу, который не двинулся с места.
— Господин де Таверне, — сказал он с еще более любезным поклоном, — на мне уже давно лежал долг поблагодарить вас за проявленное беспокойство о моем здоровье, но я приехал только вчера.
Филипп покраснел, взглянул на него и тотчас опустил глаза.
Шарни продолжал:
— В самые ближайшие дни, сударь, я буду иметь честь отдать вам визит и надеюсь, что вы не станете таить зло против меня.
— Никоим образом, сударь, — ответил Филипп.
Шарни собирался протянуть ему руку, чтобы Филипп вложил в нее свою, когда барабан возвестил о приближении королевы.
— Идет королева, сударь, — медленно проговорил Филипп, не ответив на дружеский жест Шарни.
Точкой в этой фразе был поклон, скорее меланхоличный, чем холодный.
Шарни, несколько удивленный, поспешил присоединиться к своим друзьям в правой шпалере.
Филипп остался на своей стороне, как часовой.
Королева приближалась; видно было, как она улыбалась то одному, то другому, принимала или приказывала принять прошения. Она еще издали увидела Шарни и, не спуская с него глаз, с тою дерзкой отвагой, которую она вкладывала в свои привязанности и которую ее враги называли бесстыдством, громко сказала:
— Просите сегодня, господа, просите… Сегодня я ни в чем не могу отказать.
Звучание и смысл этих волшебных слов пронзили Шарни до глубины сердца. Он вздрогнул от радости: это была его благодарность королеве.
А ее внезапно вывел из сладостного, но опасного созерцания шум шагов и звук чьего-то голоса.
Шаги раздались по каменным плитам слева от нее; взволнованный, но серьезный голос произнес:
— Ваше величество!
Королева увидела Филиппа и в первую минуту не смогла удержаться от легкого жеста удивления, оказавшись между этими двумя людьми, из-за которых, быть может, упрекала себя, потому что слишком сильно любила одного и недостаточно — другого.
— Вы, господин де Таверне?! — воскликнула она, поборов волнение. — Вы хотите что-то у меня попросить? О, говорите.
— Десятиминутную аудиенцию, когда вашему величеству угодно будет найти время, — сказал Филипп и поклонился; лицо его по-прежнему было суровым и бледным.
— Я дам вам ее сейчас же, сударь, — ответила королева, украдкой взглянув на Шарни и с невольным опасением видя его так близко от недавнего противника, — идите за мной.
И она пошла быстрее, услыхав за собой шаги Филиппа; Шарни остался на месте.
Она продолжала тем не менее принимать письма, прошения и ходатайства, отдала несколько приказаний и вошла в свои покои.
Четверть часа спустя Филипп был введен в библиотеку, где ее величество принимала по воскресеньям.
— А, господин де Таверне, войдите, — сказала она, приняв беззаботный тон, — войдите и извольте быть поприветливее. Надо вам признаться, я всегда испытываю беспокойство, когда кто-нибудь из Таверне желает со мной говорить. Все члены этой фамилии — вестники беды. Скорее успокойте меня, господин де Таверне, и скажите, что вы явились не с тем, чтобы сообщить о каком-нибудь несчастье.
Филипп, побледнев после этого предисловия еще больше, чем во время недавно разыгравшейся между ним и Шарни сцены, и видя, как мало благосклонности вкладывает королева в свои слова, сдержанно возразил:
— Ваше величество, имею честь заверить вас, что на этот раз я приношу королеве добрую новость.
— А, так это новость! — сказала королева.
— Увы, да, ваше величество.
— Ах, Боже мой! — продолжала она тем же веселым тоном, который делал Филиппа таким несчастным. — Вот вы уже говорите "увы!" Горе мне, горе, как сказал бы испанец! Господин де Таверне сказал "увы!".
— Ваше величество, — серьезным тоном продолжал Филипп, — двумя словами я настолько вас успокою, что ваше благородное чело не только не омрачится сегодня при приближении одного из Таверне, но и никогда не омрачится по вине кого-нибудь из членов фамилии Таверне-Мезон-Руж. С сегодняшнего дня последний из этой семьи, кого вашему величеству угодно было почтить некоторым расположением, исчезнет и никогда не вернется более к французскому двору.
Королева сразу оставила веселый тон, к которому прибегла как к средству против волнений, ожидаемых ею от этой встречи.
— Вы уезжаете! — воскликнула она.
— Да, ваше величество.
— Вы… также!
Филипп поклонился.
— Моя сестра, к своему сожалению, уже оставила ваше величество, — сказал он, — я же еще менее нужен королеве и потому уезжаю.
Королева опустилась в кресло в сильном смятении; она вспомнила, что Андре просила разрешения навсегда покинуть двор на другой день после той встречи у доктора Луи, когда Шарни получил от Марии Антуанетты первый знак расположения.
— Странно, — прошептала она задумчиво.
И не добавила ни слова.
Филипп продолжал стоять, как мраморное изваяние, ожидая, чтоб его отпустили.
Королева вскоре стряхнула с себя оцепенение.
— Куда же вы едете? — спросила она.
— Я хочу присоединиться к господину де Лаперузу, — сказал Филипп.
— Господин де Лаперуз сейчас на Ньюфаундленде.
— Я все подготовил, чтобы догнать его.
— Вы знаете, что ему предсказывают ужасную смерть?
— Не знаю, ужасную ли, — сказал Филипп, — но скорую — да.
— И вы едете?
На лице Филиппа появилась прекрасная улыбка, благородная и кроткая.
— Поэтому-то я и хочу присоединиться к Лаперузу, — сказал он.
Королева снова погрузилась в тревожное молчание.
Филипп продолжал почтительно ждать.
В благородной и храброй натуре Марии Антуанетты вновь, более чем когда-либо, пробудилась отвага.
Королева встала, подошла к молодому человеку и сказала, скрестив свои белые руки на груди:
— Почему вы уезжаете?
— Потому что меня очень занимают путешествия, — спокойно ответил он.
— Но вы же совершили путешествие вокруг света, — возразила королева, на минуту введенная в заблуждение этим героическим спокойствием.
— Вокруг Нового Света, да, ваше величество, — продолжал Филипп, — но не вокруг Старого и Нового вместе.
Королева сделала жест досады и повторила то, что она сказала Андре:
— Эти Таверне — железные характеры, стальные сердца. Вы с вашей сестрой страшны мне: вы друзья, которых в конце концов начинаешь ненавидеть. Вы уезжаете не ради путешествий — они вам уже надоели, — а чтобы покинуть меня. Ваша сестра говорила, что ее призывает влечение к монашеской жизни, но в ее сердце горит бурное пламя под слоем пепла. Она просто захотела уехать — и уехала. Дай Бог ей счастья! А вы! Вы ведь могли бы быть счастливы. И вы тоже уезжаете. Недаром же я вам сейчас только говорила, что Таверне приносят мне беду!
— Пощадите нас, ваше величество; если бы вы соблаговолили глубже заглянуть в наши сердца, вы в них увидели бы одну безграничную преданность.
— Послушайте, — гневно воскликнула королева, — вы — квакер, а она — философ, вы оба невозможные люди! Она воображает, что свет — это своего рода рай, в который можно войти только будучи святым, а вы считаете свет каким-то адом, куда проникают одни дьяволы… И оба вы покинули свет: одна потому, что нашла в нем то, чего не искала, а другой потому, что не нашел в нем того, чего искал. Не права ли я? Э, мой милый господин де Таверне, позвольте людям оставаться несовершенными и от королевских семей требуйте только, чтобы они были наименее несовершенными представителями рода человеческого — будьте снисходительны или, лучше сказать, не будьте эгоистичны.
Она вложила слишком много страсти в эти слова. Филипп получил преимущество.
— Ваше величество, — сказал он, — эгоизм становится добродетелью, когда он служит для того, чтобы ставить на высокий пьедестал предмет своего поклонения.
Она покраснела.
— Я знаю только одно, — сказала она, — что я любила Андре, а она меня покинула. Я вами дорожила, а вы меня покидаете. Для меня унизителен факт, что два таких совершенных — я не шучу, сударь, — человека оставляют мой двор.
— Ничто не может унизить такую высокую особу, как ваше величество, — холодно сказал Таверне, — стыд не достигнет чела, столь высокого, как ваше.
— Я стараюсь угадать, — продолжала королева, — что могло вас оскорбить.
— Меня ничто не оскорбило, ваше величество, — с живостью возразил Филипп.
— Вас утвердили в чине; ваша карьера продвигается успешно, я вас отличала…
— Я повторяю вашему величеству, что при дворе мне все нравится.
— А если б я вас попросила остаться… если б я вам приказала?
— Как ни прискорбно, я должен был бы ответить вашему величеству отказом.
В третий раз королева замкнулась в молчании: для ее логического ума это было то же самое, что для уставшего дуэлянта — отступить, чтобы использовать короткую передышку для нового выпада.
И, как всегда бывало у нее в подобных случаях, он не замедлил последовать.
— Быть может, вам здесь кто-нибудь не нравится? Вы ведь очень обидчивы, — сказала она, устремляя на Филиппа свой ясный взор.
— Нет, дело совсем не в этом.
— Мне казалось, что вы в дурных отношениях… с одним дворянином… с господином де Шарни… которого вы ранили на дуэли… — проговорила королева, постепенно воодушевляясь. — И так как вполне естественно избегать тех, кого мы не любим, то, увидев, что господин де Шарни вернулся, вы пожелали оставить двор.
Филипп ничего не ответил.
Королева, составив себе несправедливое мнение об этом честном и храбром человеке, заподозрила, что имеет дело с заурядной ревностью, и потому безжалостно продолжала:
— Вы только сегодня узнали, что господин де Шарни вернулся. Сегодня! И сегодня же вы просите об отставке?
Лицо Филиппа покрылось мертвенной бледностью. На него нападали, его топтали ногами — и он перешел в наступление.
— Ваше величество, — сказал он, — действительно, я только сегодня узнал о возвращении господина де Шарни, но все же это случилось ранее, чем думает ваше величество: я встретил господина де Шарни около двух часов ночи у калитки парка, ведущей к купальне Аполлона.
Королева побледнела в свою очередь; восхищенная и одновременно испуганная безупречной учтивостью, которую Филипп сохранял в своем гневе, она сдавленным голосом прошептала:
— Хорошо, уезжайте. Я вас более не удерживаю.
Филипп поклонился в последний раз и медленно вышел.
Королева в изнеможении упала в кресло.
— Франция! Страна благородных сердец! — воскликнула она.
XIV
РЕВНОСТЬ КАРДИНАЛА
Между тем кардинал пережил три ночи, весьма непохожие на те, воспоминание о которых неотступно преследовало его.
Ни от кого никаких известий! Никакой надежды на чье-либо посещение! Это мертвое молчание после волнений страсти было подобно темноте подземелья после радостного солнечного света.
Сначала кардинал убаюкивал себя надеждой, что его любовница, будучи прежде всего женщиной, а потом уже королевой, захочет узнать, какого характера было проявленное к ней чувство и нравится ли она любовнику после испытания так же, как до него. Физическая подоплека этого чисто мужского рассуждения стала обоюдоострым оружием, которое жестоко ранило кардинала, обернувшись против него самого.
Действительно, видя, что никто не является, и не слыша ничего, кроме молчания, по выражению Делиля, несчастный стал опасаться, что испытание окончилось для него неблагоприятно. Отсюда тоска, ужас, беспокойство, которых не может себе представить тот, кто не страдал общей невралгией, которая превращает каждое волокно, идущее к мозгу, в огненную змею, что корчится и вновь расслабляется по своей собственной воле.
Это тяжелое состояние скоро стало невыносимым для кардинала; с утра он десять раз посылал за г-жой де Ламотт к ней домой и десять раз в Версаль.
Наконец десятый посланный привез Жанну, которая вела в Версале свои наблюдения над королевой и Шарни; она внутренне радовалась, что кардинал проявляет это нетерпение, которому она скоро будет обязана успехом своего предприятия.
Увидев ее, кардинал вспылил.
— Как! — воскликнул он. — Вы можете быть такой спокойной!.. Как! Вы знаете, какую пытку я терплю и, называя себя моим другом, позволяете этой пытке переходить в смертельную!
— Э, монсеньер, — возразила Жанна, — терпение, прошу вас. То, что я делала в Версале, вдали от вас, гораздо полезнее того, что вы делали здесь, желая меня видеть.
— Нельзя быть такою жестокой, — сказал его высокопреосвященство, смягченный надеждой получить какие-нибудь известия. — Ну что же там говорят, что там делают?
— Разлука одинаково мучительна как для тех, кто страдает от нее в Париже, так и для тех, кто испытывает ее в Версале.
— Это приводит меня в восторг, и я вам очень благодарен за это, но…
— Но?
— Доказательства?
— О Боже мой! — воскликнула Жанна. — Что вы говорите, монсеньер! Доказательства! Что это за слово! Доказательства! В здравом ли вы уме, монсеньер, что требуете у женщины доказательств ее ошибок?
— Я не прошу документа для возбуждения судебного процесса, графиня; я прошу залога любви.
— Мне кажется, — сказала она, многозначительно поглядев на его высокопреосвященство, — что вы становитесь или очень требовательны, или очень забывчивы.
— О, я знаю, что вы мне скажете… Я знаю, что должен бы считать себя вполне удовлетворенным и очень польщенным… Но поставьте себя на мое место, графиня, и спросите у своего сердца. Как бы вы поступили, если бы вас так же отстранили, так же бросили, предварительно выказав вам некоторое видимое расположение?
— Вы, кажется, сказали "видимое"? — спросила Жанна все так же насмешливо.
— О, вы, конечно, можете безнаказанно обрушиться на меня, графиня, конечно, я не имею права жаловаться, но я жалуюсь…
— В таком случае, монсеньер, я не могу быть ответственной за ваше недовольство, если оно происходит от пустячных причин или совершенно беспричинно.
— Графиня, вы дурно со мной поступаете.
— Монсеньер, я повторяю ваши слова. Я исхожу из ваших рассуждений.
— Найдите в себе самой вдохновение, вместо того чтобы упрекать меня в моих безумствах; помогите мне, вместо того чтобы мучить меня.
— Я не могу вам помочь там, где не вижу возможности что-либо сделать.
— Не видите возможности что-либо сделать? — повторил кардинал, подчеркивая каждое слово.
— Да.
— Ну что ж, сударыня, — запальчиво произнес кардинал, — быть может, не все считают так, как вы!
— Увы, монсеньер, дело уже дошло до гнева, и мы перестали понимать друг друга. Простите, что я обращаю на это внимание вашего высокопреосвященства.
— До гнева! Да… Ваша черствость доводит меня до этого, графиня.
— А вы не считаете, что это несправедливо?
— О нет! Если вы мне более не помогаете, то потому, что не можете иначе поступить, я это вижу.
— Вы правы; но зачем же тогда обвинять меня?
— Потому что вы должны были бы сказать мне всю правду, сударыня.
— Правду! Я вам сказала все, что знаю.
— Вы мне не говорите, что королева вероломна, что она кокетка, что она заставляет людей обожать ее, а потом доводит их до отчаяния.
Жанна с удивлением взглянула на него.
— Объяснитесь, — сказала она, дрожа не от страха, а от радости. Действительно, в ревности кардинала она увидела выход из трудного положения — выход, которого случай мог ей и не предоставить.
— Сознайтесь, — продолжал кардинал, не сдерживая более своей горячности, — сознайтесь, умоляю вас, что королева отказывается меня видеть.
— Я этого не говорю, монсеньер.
— Сознайтесь, что если она отстраняет меня не по своей доброй воле — на что я еще надеюсь, — то для того, чтобы не возбудить тревоги в каком-нибудь другом любовнике, который обратил внимание на мои ухаживания.
— Ах, монсеньер! — воскликнула Жанна таким неподражаемо медоточивым тоном, который давал обширное поле для подозрений.
— Выслушайте меня, — продолжал г-н де Роган. — В последний раз, когда я виделся с ее величеством, мне показалось, что в кустах кто-то ходил.
— Глупости.
— И я выскажу вам все свои подозрения.
— Ни слова более, монсеньер, вы оскорбляете королеву; а кроме того, если б она и имела несчастье опасаться ревности своего любовника, чего я не думаю, неужели вы были бы настолько несправедливы, что упрекнули бы ее за прошлое, которым она жертвует ради вас?
— Прошлое! Прошлое! Это великое слово, графиня, но оно теряет силу, если это прошлое остается настоящим и должно стать будущим.
— Фи, монсеньер, вы говорите со мной, как с маклером, которого обвиняют в нечестной сделке. Ваши подозрения, монсеньер, настолько оскорбительны для королевы, что становятся оскорбительными и для меня.
— Тогда, графиня, докажите мне…
— Ах, монсеньер, если вы будете повторять это слово, я приму оскорбление на свой счет.
— Но, наконец… любит ли она меня хотя немного?
— Это вы можете узнать очень просто, монсеньер, — ответила Жанна, указывая кардиналу на стол и письменные принадлежности. — Садитесь сюда и спросите это у нее сами.
Кардинал с живостью схватил руку Жанны.
— Вы передадите ей эту записку? — спросил он.
— Если не я, то кто же другой взялся бы за это?
— И… вы обещаете мне ответ?
— Если вы не получите ответа, то каким же образом вы узнаете настоящее положение дела?
— О, в добрый час! Вот такою я вас люблю, графиня.
Он сел, взял перо и начал записку. Господин де Роган умел писать очень красноречиво и легко; однако он разорвал десять листов, прежде чем остался доволен своим посланием.
— Если вы будете так продолжать, — сказала Жанна, — вы никогда не закончите.
— Видите ли, графиня, дело в том, что я остерегаюсь своей нежности, а она прорывается против моей воли и, быть может, наскучит королеве.
— А, — иронически заметила Жанна, — если вы ей напишете как политический деятель, то она ответит запиской дипломата. Это ваше дело.
— Вы правы, вы настоящая женщина и сердцем и умом. К тому же, графиня, зачем нам таиться от вас, когда вы владеете нашей тайной?
Она улыбнулась.
— Действительно, вам почти нечего хранить в тайне от меня.
— Читайте через мое плечо, читайте так же быстро, как я буду писать, если это возможно, потому что мое сердце пылает и перо готово испепелить бумагу.
И он действительно написал; написал такое пламенное, безумное, переполненное любовными упреками и компрометирующими заверениями письмо, что, когда он закончил, Жанна, следившая за его мыслью вплоть до самой подписи, сказала себе: "Он написал то, чего я не посмела бы ему продиктовать".
Кардинал перечитал письмо.
— Хорошо ли так? — спросил он Жанну.
— Если она вас любит, — ответила ему предательница, — то вы это завтра увидите, а пока ничего не предпринимайте.
— До завтра, да?
— Я большего и не требую, монсеньер.
Она взяла запечатанную записку, позволила кардиналу поцеловать себя в оба глаза и к вечеру вернулась домой.
Там, раздевшись и отдохнув, она стала размышлять.
Дела обстояли так, как она и обещала себе с самого начала.
Еще два шага, и она у цели.
Кого из двух избрать себе щитом — королеву или кардинала?
Это письмо лишало кардинала возможности обвинить г-жу де Ламотт в тот день, когда она заставит его заплатить нужную сумму за ожерелье.
Если даже допустить, что королева и кардинал увидятся и договорятся, то как посмеют они погубить г-жу де Ламотт, хранительницу такой скандальной тайны?
Королева побоится огласки и все припишет ненависти кардинала; кардинал припишет все кокетству королевы; но если они объяснятся, то не иначе как при закрытых дверях. При первом же подозрении г-жа де Ламотт ухватится за этот предлог и уедет за границу, захватив с собой кругленькую сумму в полтора миллиона.
Кардинал, конечно, будет знать, а королева угадает, что Жанна присвоила бриллианты; но зачем им было бы предавать огласке эпизод, так тесно связанный с событиями в парке и в купальне Аполлона?
Но одного письма было недостаточно, чтобы воздвигнуть эту систему защиты. У кардинала много красноречия: он напишет еще семь или восемь раз.
Что же касается королевы, то кто знает, быть может, в эту минуту она сама с г-ном де Шарни готовит оружие, которое вложит в руки Жанны де Ламотт!
В худшем случае все эти тревоги и уловки окончатся бегством, и Жанна заранее обдумывала его.
Прежде всего — срок платежа, разоблачение со стороны ювелиров. Королева обратится прямо к господину де Рогану.
Каким путем?
Через посредство Жанны, это неизбежно. Жанна предупредит кардинала и предложит ему заплатить. Если он откажется, она пригрозит предать огласке его письма; он уплатит.
После уплаты опасности более не будет. Что же касается публичной огласки, то надо будет использовать до конца все возможности интриги. Здесь все в полном порядке. Честь королевы и князя Церкви, оцененная в полтора миллиона, — это слишком дешево. Жанна была почти уверена, что, если захочет, получит за нее три миллиона.
Но почему Жанна была так спокойна за успех своей интриги?
Потому, что кардинал был уверен: три ночи сряду он видел в боскетах Версаля королеву, и никакие силы в мире не могли бы убедить его в том, что он ошибается. Существовало только одно доказательство обмана, живое, неоспоримое, и это доказательство Жанна устранит.
Дойдя до этого пункта своих размышлений, она подошла к окну и увидела на балконе Олива, снедаемую беспокойством и любопытством.
"Ну, кто кого?" — подумала Жанна, посылая нежный привет своей сообщнице.
Графиня подала Олива условный знак, чтобы та вечером спустилась к ней вниз.
Обрадованная этим официальным сообщением, Олива вернулась в комнату; Жанна снова погрузилась в размышления.
Уничтожить орудие, когда оно больше не может служить, — в обычае у всех интриганов; они чаще всего неудачно справляются с этим: или разбивают инструмент таким образом, что он издает жалобный стон, выдающий их тайну, или разбивают его не окончательно, так что он еще может служить другим.
Жанна предполагала, что маленькая Олива при своей жизнерадостности не даст себя разбить, не издав стона.
Необходимо было сочинить для нее басню, чтобы убедить ее бежать а затем еще придумать вторую басню, которая убедит ее бежать с большей охотой.
На каждом шагу возникали препятствия; но бывают умы, находящие в борьбе с затруднениями такое же удовлетворение, какое находят другие в том, чтобы ходить по пути, усыпанному розами.
Как ни была очарована Олива обществом своей новой подруги, очарование это было лишь относительное, то есть она находила эти отношения восхитительными с точки зрения пленницы, выглядывающей из-за решетки тюрьмы. Но Николь по своей искренности не скрывала от приятельницы, что предпочла бы дневной свет, прогулки при солнце — одним словом, настоящую жизнь этим ночным прогулкам и мнимому королевскому сану.
Жанна, ее ласки и дружба — все это было только намеком на жизнь; а Босир и деньги — сама жизнь.
Подводя итог своим рассуждениям, Жанна решила поговорить с Николь о том, что совершенно необходимо уничтожить доказательства преступного обмана, имевшего место в Версальском парке.
Настала ночь, Олива сошла вниз. Жанна ждала ее у калитки. Они вдвоем пошли по улице Сен-Клод до пустынного бульвара, где нашли свою карету, которая, чтобы не мешать им разговаривать, поехала шагом по дороге, ведущей кружным путем в Венсен.
Николь переоделась в простое платье и шляпу с широкими полями, а Жанна была наряжена гризеткой; никто не мог бы их узнать. Кроме того, для этого надо было бы заглянуть в карету, на что имела право только полиция. Но пока полицию ничто не встревожило.
К тому же карета была не простая; на ее дверцах красовался герб Валуа — внушающий уважение часовой, чей запрет не посмел бы нарушить самый дерзкий агент.
Олива начала с того, что осыпала Жанну поцелуями, которые та ей с лихвой вернула.
— Ах, как я скучала, — воскликнула Олива, — я вас искала, звала…
— Я не имела возможности, мой дружок, видеться с вами; я могла этим и себя и вас подвергнуть слишком большой опасности.
— Как так? — спросила с удивлением Николь.
— Страшной опасности, моя милая; я до сих пор дрожу, думаю о ней.
— О, расскажите скорее!
— Ведь вы здесь очень скучаете?
— Увы, да.
— И ради развлечения захотели выходить из дому?
— В чем вы мне так дружески помогли.
— Я говорила вам о придворном, что ведает королевским буфетом, — немножко помешанном, но очень любезном человеке, влюбленном в королеву, на которую вы немного похожи.
— Да, я знаю.
— Я имела слабость предложить вам невинное развлечение: подшутить над бедным малым, одурачить его, заставив его поверить, что королева увлечена им.
— Увы, да, — прошептала Олива.
— Не буду напоминать вам о двух первых ночных прогулках в версальском парке в обществе этого бедного молодого человека.
Олива снова вздохнула.
— О тех двух ночах, когда вы так хорошо сыграли свою маленькую роль, что наш влюбленный принял все дело всерьез.
— Быть может, это было дурно, — проговорила Олива, — ведь мы в самом деле его обманывали, а он того не заслуживает, этот очаровательный кавалер.
— Не правда ли?
— Ода!
— Но подождите, беда еще не в том. Дать ему розу, допустить титуловать вас "ваше величество" и дать целовать ваши руки — это еще ничтожная забава… Но… моя милая Олива, оказывается, что это далеко не все.
Олива покраснела так сильно, что, если бы не ночь, Жанна заметила бы это. Правда, она, как умная женщина, смотрела на дорогу, а не на свою спутницу.
— Как?.. — пролепетала Николь. — Почему… не все?
— Было и третье свидание, — сказала Жанна.
— Да, — нерешительно проговорила Олива, — вы это знаете, так как были при нем.
— Извините, милый друг, я, как всегда, стояла в отдалении, сторожила вас или делала вид, что сторожу, для того чтобы придать более правдоподобия разыгрываемой вами роли. Поэтому я не видела и не слышала, что произошло в этом гроте. Я знаю только то, что вы мне рассказали. А вы на обратном пути сказали мне, что вы гуляли, разговаривали и что игра в розы и поцелуи ручек шла своим чередом. Я верю всему, что мне говорят, дружочек мой.
— Да, но… — вся дрожа, начала Олива.
— Так вот, прелесть моя, по-видимому, наш безумец хвастается, что получил от мнимой королевы больше, чем было в действительности.
— Что?
— По-видимому, он, опьяненный, одурманенный, потерявший голову, хвалился, будто получил от королевы неоспоримое доказательство разделенной любви. Несчастный малый положительно помешан.
— Боже мой! Боже мой! — прошептала Олива.
— Он помешан, во-первых, потому, что лжет, не правда ли? — спросила Жанна.
— Конечно… — прошептала Олива.
— Ведь вы, милая моя, конечно, не захотели бы подвергать себя такой страшной опасности, не сообщив мне о том.
Олива вздрогнула с головы до ног.
— Правдоподобно ли, — продолжала ее безжалостная подруга, — чтобы вы, любя господина Босира и будучи моим другом, чтобы вы, отвергая ухаживания господина графа де Калиостро, уступили капризу и дали этому сумасшедшему право… говорить?.. Нет, он потерял голову, я стою на своем.
— Но, — воскликнула Николь, — в чем же заключается опасность? Говорите!
— Вот в чем: мы имеем дело с сумасшедшим, то есть с человеком, который ничего не боится и ничего не щадит. Пока дело шло о подаренной розе или о поцелуе руки — это было ничего: у королевы есть розы в парке, и руку ей может поцеловать любой подданный… Но если правда, что на третьем свидании… Ах, милое дитя, с тех пор как у меня появилась эта мысль, мне не до смеха.
Олива от волнения конвульсивно стиснула зубы.
— Что же тогда случится, мой добрый друг? — спросила она.
— Случится вот что. Прежде всего, вы не королева, по крайней мере, насколько мне известно.
— Нет.
— И присвоили себе сан ее величества, чтобы сыграть… такого рода легкомысленную шутку…
— И что же?
— Что же? Это называется оскорблением величества. А такое обвинение заводит людей очень далеко.
Олива закрыла лицо руками.
— Впрочем, — продолжала Жанна, — так как вы не делали того, чем он хвастается, то вам достаточно будет доказать это. А первые два легкомысленных поступка влекут за собой наказание: тюремное заключение от двух до четырех лет и ссылку.
— Тюрьму! Ссылку! — вскричала Олива в ужасе.
— Тут нет ничего непоправимого; я приму предосторожности, чтобы скрыться в безопасное место.
— Разве вас также потревожат?
— А как же! Разве этот безумец не выдаст меня сейчас же? Ах, бедная моя Олива! Эта мистификация нам дорого обойдется.
Олива залилась слезами.
— Но мне то, мне-то, — говорила она, — не сидится ни минуты на месте! Что за бешеный характер! О, дьявол! Знаете, я просто одержима бесом. Из одной беды я попадаю в другую.
— Не отчаивайтесь, постарайтесь только избегнуть огласки.
— О, теперь я притаюсь в доме своего покровителя. А если я ему во всем сознаюсь?
— Прекрасная идея! Человеку, который держит вас чуть не под стеклом, стараясь скрыть от вас свою любовь; человеку, ожидающему одного вашего слова, чтобы открыто боготворить вас, — такому человеку вы сознаетесь, что позволили себе подобную неосторожность с другим! Заметьте, я говорю "неосторожность", а что заподозрит он?
— Боже мой, вы правы!
— Даже больше: это дело получит огласку, судебное расследование может пробудить у вашего покровителя сомнения. Кто знает, не выдаст ли он вас, чтобы приобрести благосклонность двора?
— О!
— Допустим, что он просто-напросто выгонит вас, что с вами будет?
— Я знаю, что погибла.
— А когда узнает об этом господин де Босир… — медленно проговорила Жанна, наблюдая за действием этого последнего удара.
Олива подпрыгнула на месте. Резким движением она разрушила все замысловатое сооружение своей прически.
— Он меня убьет. О нет, — шептала она, — я сама себя убью. Вы не можете меня спасти, — проговорила она с отчаянием, обернувшись к Жанне, — так как погибли сами.
— У меня, — отвечала Жанна, — есть в глуши Пикардии маленький клочок земли. Если б можно было до огласки, тайно от всех достичь этого убежища, то, быть может, еще была бы некоторая надежда.
— Но этот сумасшедший вас знает и всегда найдет.
— О, если бы вы уехали и были спрятаны, если бы вас нельзя было найти, то я уже не боялась бы этого безумца. Я громко сказала бы ему: "Вы не своем уме, если говорите такое; докажите!", что было бы для него невозможно; а тихонько я сказала бы ему: "Вы подлец!"
— Я уеду когда и как вы пожелаете, — сказала Олива.
— Я думаю, что это будет благоразумно, — подтвердила Жанна.
— Надо ехать сейчас?
— Нет, подождите, пока я все приготовлю. Спрячьтесь, не показывайтесь никому, даже мне. Прячьтесь даже от вашего отражения в зеркале.
— Да, да, положитесь на меня, милый друг.
— И начнем с того, что вернемся домой; нам больше нечего сказать друг другу.
— Вернемся. Сколько надо времени для приготовлений?
— Не знаю. Но запомните одно: с сегодняшнего дня до самого вашего отъезда я не покажусь больше у окна. Если же вы меня увидите, то знайте, что уедете в тот же день, и будьте готовы.
— О да, благодарю, мой добрый друг.
Они медленно возвращались на улицу Сен-Клод. Олива не осмеливалась заговорить с Жанной, а Жанна слишком глубоко задумалась, чтобы разговаривать с Олива.
Подъехав к дому, они обнялись; Олива смиренно попросила у своей подруги прощения за все несчастья, которые она навлекла на нее своей ветреностью.
— Я женщина, — отвечала г-жа де Ламотт, пародируя латинского поэта, — и ничто женское мне не чуждо.
XV
БЕГСТВО
Олива сдержала свое обещание.
Сдержала свое обещание и Жанна.
Со следующего дня Николь полностью скрыла от всех свое существование: никто не мог заподозрить, что кто-то живет в доме на улице Сен-Клод.
Она неизменно пряталась за занавеску или за ширмы, плотно закрывала окно, вопреки стремившимся ворваться в него веселым солнечным лучам.
Жанна, со своей стороны, приготовила все, зная, что на следующий день должен был наступить срок первого взноса в пятьсот тысяч ливров: она старалась обставить все таким образом, чтобы быть вполне неуязвимой в тот день, когда бомба взорвется.
Дальше этой страшной минуты ее соображения не простирались.
Она всесторонне обдумала вопрос о бегстве, которое хотя и было нетрудным, но явилось бы самым веским доказательством ее вины.
Оставаться, оставаться на своем месте не двигаясь, как на поединке в ожидании удара противника; оставаться, будучи готовой пасть, но с надеждой уничтожить своего врага, — таково было решение графини.
Вот почему на другой день после своей беседы с Олива она показалась около двух часов у своего окна, чтобы сообщить лжекоролеве, что следовало быть готовой бежать вечером.
Невозможно описать радость и страх Олива. Необходимость бежать означала опасность; возможность бежать означала спасение.
Она послала пылкий воздушный поцелуй Жанне и занялась приготовлениями, то есть собрала в маленький узелок кое-какие ценные вещи своего покровителя.
Подав сигнал, Жанна исчезла из дому, чтобы позаботиться о карете, которой будет вверена драгоценная участь мадемуазель Николь.
Это было все; самый любопытный наблюдатель не обнаружил бы других признаков сговора двух подруг, сигналы которых обычно были столь красноречивы.
Задернутые шторы, закрытые окна, мелькающий в них допоздна огонек. Потом какой-то шелест, какие-то таинственные звуки, какое-то движение; за ними последовали мрак и тишина.
Одиннадцать часов пробило на колокольне святого Павла. Ветер с реки доносил до улицы Сен-Клод мерный и заунывный бой часов, когда Жанна приехала на улицу Сен-Луи в почтовом экипаже, запряженном тремя сильными лошадьми.
Закутанный в плащ человек, сидевший на козлах, указывал дорогу кучеру.
Жанна дернула человека за край плаща и велела остановиться на углу улицы Золотого Короля.
Человек подошел к хозяйке.
— Пусть экипаж остается здесь, любезный господин Рето, — сказала Жанна, — мне потребуется не более получаса. Я сюда приведу одну особу; она сядет в экипаж, и вы отвезете ее, уплачивая двойные прогоны, в мой амьенский домик.
— Хорошо, госпожа графиня.
— Там вы передадите эту особу моему арендатору Фонтену, который знает, что надо делать.
— Хорошо, сударыня.
— Да, я забыла… Вы вооружены, любезный Рето?
— Да, сударыня.
— Эту даму преследует один помешанный… Быть может, будет сделана попытка остановить ее дорогою…
— Что мне делать?
— Вы будете стрелять во всякого, кто помешает вам продолжать путь.
— Хорошо, сударыня.
— Вы просили у меня двадцать луидоров вознаграждения за известное вам дело; я дам вам сто и оплачу ваше путешествие в Лондон, где вы будете ждать меня в течение трех месяцев.
— Хорошо, сударыня.
— Вот сто луидоров. Я, вероятно, вас более не увижу, потому что для вас будет благоразумнее отправиться в Сен-Валери и немедленно отплыть в Англию.
— Рассчитывайте на меня.
— Ради вас самих.
— Ради нас, — сказал господин Рето, целуя руку графини. — Итак, я буду ожидать.
— А я доставлю вам эту даму.
Рето сел в коляску на место Жанны, которая легкою походкой дошла до улицы Сен-Клод и поднялась к себе.
В этом мирном квартале все уже спали. Жанна сама зажгла свечу и подняла ее над балконом, что должно было служить для Олива сигналом спускаться вниз.
"Она девица осторожная", — сказала себе графиня, увидев, что в окнах Олива нет света.
Жанна три раза поднимала и опускала свечу.
Ничего. Но ей послышалось что-то вроде вздоха или слова "да", еле слышно долетевшего из-за листвы растений на окнах.
"Она сойдет вниз, не зажигая огня, — сказала себе Жанна, — тут нет еще беды".
И она спустилась на улицу.
Дверь не открывалась. Вероятно, Олива стесняли тяжелые узлы.
— Глупая, — сердито проворчала графиня, — сколько времени потеряно из-за тряпок.
Никто не появлялся. Жанна подошла к двери напротив.
Ничего. Она прислушалась, прижавшись ухом к большим шляпкам железных гвоздей, которыми была обита дверь.
Так прошло четверть часа. Пробило половину двенадцатого.
Жанна отошла к бульвару, чтобы посмотреть издали, не появится ли свет в окнах.
Ей показалось, что в просвете между листвой сквозь двойные занавески мелькнул слабый свет.
— Что она делает! Боже мой, что она делает, дура несчастная! Быть может, она не видела сигнала? Ну, не будем терять мужества и поднимемся снова наверх.
И действительно, Жанна поднялась к себе, чтобы снова прибегнуть к своему телеграфу при посредстве свечи.
Никакого знака в ответ не последовало.
— Должно быть, мерзавка больна и не может двинуться, — проговорила себе Жанна, в ярости теребя свои манжеты. — Ну, да все равно, живой или мертвой, она уедет сегодня.
Она опять сошла вниз с поспешностью преследуемой львицы. В руках у нее был ключ, который столько раз доставлял по ночам свободу Олива.
Но, вкладывая ключ в замочную скважину, она остановилась.
"А если там, у нее, наверху, есть кто-нибудь? — подумала графиня. — Невозможно… но я услышу голоса и успею спуститься. А если я встречу кого-нибудь на лестнице? О!"
Это опасное предположение чуть было не заставило ее отступить.
Но услышав, что ее застоявшиеся лошади бьют копытами по гулкой мостовой, она решилась.
"Без опасности, — подумала она, — нет ничего великого! А при смелости никогда не бывает опасности!"
Она повернула ключ в замке, и дверь отворилась.
Жанна знала расположение комнат; если б даже, ожидая Олива каждый вечер, она не изучила его, то сообразительность помогла бы ей. Лестница-была налево, и она бросилась туда.
Никого. Ни шума, ни света.
Она дошла до площадки перед комнатами Николь.
Там под дверью виднелась светлая полоса; за этой дверью слышны были чьи-то торопливые шаги.
Жанна, запыхавшись, но удерживая дыхание, прислушалась. Разговора не было слышно. Значит, Олива одна, она ходит, укладывается, нет сомнения. Значит, она не больна, а просто замешкалась.
Жанна тихо поскреблась в дверь.
— Олива! Олива! — позвала она. — Дружок, мой маленький дружок!
Шаги по ковру приблизились.
— Откройте! Откройте! — поспешно сказала Жанна.
Дверь отворилась, и целый поток света упал на Жанну, которая очутилась лицом к лицу с человеком, державшим в руках канделябр с тремя свечами. Она пронзительно закричала и прикрыла лицо.
— Олива! — сказал незнакомец. — Разве это не вы?
И он тихонько отодвинул накидку графини.
— Госпожа графиня де Ламотт! — воскликнул он в свою очередь, необыкновенно искусно прикинувшись изумленным.
— Господин де Калиостро! — прошептала Жанна, шатаясь и чуть не падая в обморок.
Изо всех опасностей, которые она могла предполагать, эта никогда не представлялась графине. На первый взгляд, ничего особенно страшного не произошло; но после небольшого размышления, после беглого взгляда на мрачную внешность этого глубоко скрытного человека опасность должна была показаться чудовищной.
Жанна едва не потеряла голову и попятилась: у нее явилось желание броситься по лестнице вниз.
Калиостро вежливо протянул ей руку, приглашая сесть.
— Чему мне приписать честь вашего посещения, сударыня? — сказал он уверенным голосом.
— Сударь… — пролепетала интриганка, не будучи в силах отвести глаза от графа, — я пришла… я искала…
— Позвольте мне позвонить, сударыня, и наказать тех из моих людей, которые имели неловкость или грубость допустить, чтобы такая высокопоставленная особа являлась одна, без доклада.
Жанна задрожала и остановила руку графа.
— Вы, вероятно, — невозмутимо продолжал он, — имели дело с этим глупым немцем, моим швейцарцом, который сильно пьет. Он не узнал вас. Наверное, он открыл дверь, никому ничего не сказав и не отдав никакого распоряжения, а потом опять заснул.
— Не браните его, сударь, — немного придя в себя, произнесла Жанна, не подозревая ловушки, — прошу вас.
— Это он ведь открыл вам, не правда ли, сударыня?
— Кажется, он… Но вы мне обещали не бранить его.
— Я сдержу свое слово, — с улыбкой сказал граф. — Но соблаговолите объясниться, сударыня.
С помощью предоставленной ей лазейки Жанна, избавленная от подозрения в том, что она сама открыла дверь, могла свободно измыслить цель своего прихода. Она не преминула сделать это.
— Я пришла, — начала она скороговоркой, — посоветоваться с вами, господин граф, относительно некоторых слухов…
— Каких слухов, сударыня?
— Не торопите меня, пожалуйста, — говорила она, жеманясь, — это деликатное дело.
"Ищи, ищи, — думал Калиостро, — а я уже нашел".
— Вы друг его высокопреосвященства монсеньера кардинала де Рогана.
"Ага, недурно, — подумал Калиостро. — Иди до конца нити, которую я держу в руках; но дальше я тебе запрещаю".
— Действительно, сударыня, я в добрых отношениях с его высокопреосвященством, — сказал он.
— И я пришла, — продолжала Жанна, — узнать от вас о…
— О чем? — спросил Калиостро с оттенком иронии.
— Я вам уже сказала, что дело мое деликатное, сударь, не злоупотребляйте этим. Вы, вероятно, знаете, что господин де Роган выказывает мне некоторое расположение, и я желала бы знать, насколько я могу рассчитывать… Впрочем, сударь, говорят, что вы читаете в самом глубоком мраке сердец и умов.
— Еще немного свету, сударыня, прошу вас, — сказал граф, — чтобы я мог лучше прочесть во мраке вашего сердца и ума.
— Сударь, говорят, что его высокопреосвященство любит другую; что его высокопреосвященство любит особу, поставленную очень высоко… Поговаривают даже…
Тут Калиостро устремил сверкающий молниями взгляд на Жанну, которая едва не упала навзничь.
— Сударыня, — сказал он, — я действительно читаю в потемках; но, чтобы хорошо читать, мне нужна помощь. Соблаговолите ответить мне на следующие вопросы: почему вы пришли искать меня сюда? Ведь я живу не здесь.
Жанна затрепетала.
— Как вы сюда вошли? В этой части дома нет ни пьяного швейцара, ни слуг.
И если вы искали не меня, то кого же вы здесь ищете? Вы не отвечаете? — сказал он дрожавшей всем телом графине. — В таком случае я помогу вашей сообразительности. Вы сюда вошли с ключом, который, я знаю, находится у вас в кармане. Вот он.
Вы искали здесь молодую женщину, которую, исключительно по доброте душевной, я прятал у себя.
Жанна пошатнулась, как вырванное с корнем дерево.
— А если бы это и было так? — очень тихо сказала она. — Какое же я совершила бы преступление? Разве не позволено женщине прийти повидаться с другой? Позовите ее, она вам скажет, предосудительна ли наша дружба.
— Сударыня, — прервал ее Калиостро, — вы мне это говорите, так как хорошо знаете, что ее здесь нет более.
— Что, ее здесь нет более?.. — воскликнула Жанна в ужасе. — Олива более здесь нет?
— Быть может, — сказал Калиостро, — вам неизвестно, что она уехала, вам, которая была пособницей в ее похищении?
— Я! Пособницей в ее похищении! Я! — воскликнула Жанна, к которой снова вернулась надежда. — Ее похитили, а вы меня обвиняете?
— Я делаю более, я вас уличаю, — сказал Калиостро.
— Докажите, — нагло сказала графиня.
Калиостро взял со стола лист бумаги и показал его.
"Мой господин и великодушный покровитель, — говорилось в адресованной Калиостро записке, — простите меня, что я Вас покидаю, но я давно люблю господина де Босира; он пришел, он увозит меня, я следую за ним. Прощайте. Примите выражение моей признательности".
— Босир! — сказала Жанна, остолбенев от изумления. — Босир! Но он не знал адреса Олива!
— Напротив, сударыня, — возразил Калиостро, показывая ей другую бумагу, вынутую им из кармана, — вот эту бумагу я поднял на лестнице, идя к Олива. Эта бумага, должно быть, упала из кармана господина Босира.
Графиня с трепетом прочла:
"Господин де Босир найдет мадемуазель Оливу на улице Сен-Клод на углу бульвара; он ее найдет и сейчас же увезет. Это ему советует женщина, искренний друг. Пора".
— О! — воскликнула графиня, комкая бумагу.
— И он ее увез, — холодно сказал Калиостро.
— Но кто написал эту записку? — сказала Жанна.
— Вы, вероятно, вы, искренний друг Олив!
— Но как он сюда вошел? — воскликнула Жанна, с яростью глядя на своего невозмутимого собеседника.
— Разве нельзя войти с вашим ключом? — сказал ей Калиостро.
— Но раз он у меня, его не было у господина Босира.
— Когда имеешь один ключ, то можно их иметь и два, — возразил Калиостро, смотря ей прямо в глаза.
— У вас есть улики, — медленно произнесла графиня, — а у меня — только подозрения.
— О, у меня они также есть, — сказал Калиостро, — и мои подозрения стоят ваших, сударыня.
С этими словами он отпустил ее едва приметным движением руки.
Она стала спускаться; но вдоль этой лестницы, еще недавно безлюдной и темной, теперь через равные промежутки стояли со свечами в руках два десятка лакеев, перед которыми Калиостро раз десять громко назвал ее госпожой графиней де Ламотт.
Она вышла, дыша яростью и местью, как василиск, извергающий пламя и яд.
XVI
ПИСЬМО И РАСПИСКА
Следующий день был последним сроком платежа, назначенным самой королевой ювелирам Бёмеру и Боссанжу.
Так как в письме ее величества им предписывалось соблюдать осторожность, то ювелиры ждали, пока к ним прибудут пятьсот тысяч ливров.
А поскольку для всех торговых людей, как бы богаты они ни были, получение пятисот тысяч ливров представляет дело большой важности, то компаньоны приготовили расписку, начертанную лучшим каллиграфом их фирмы.
Но расписка оказалась лишней: никто не пришел получить ее в обмен на пятьсот тысяч ливров.
Ночь прошла весьма тревожно для ювелиров, не перестававших ожидать какого-нибудь посланца; но надежды почти не было. У королевы, впрочем, бывали разные необыкновенные прихоти; ей приходилось соблюдать тайну, и посланный мог приехать после полуночи.
Утренняя заря развеяла несбыточные ожидания Бёмера и Боссанжа. Боссанж решил отправиться в Версаль; компаньон уже ждал его в глубине кареты.
Бёмер попросил провести его к королеве. Ему отвечали, что если у него нет приглашения на аудиенцию, то он не может быть допущен.
Удивившись и встревожившись, он стал настаивать, и так как он знал, с кем имеет дело, и ловко умел вручить кому следует в передних какой-нибудь бракованный камешек, то ему оказали содействие и поместили его на пути королевы с прогулки по Трианону.
Действительно, Мария Антуанетта, еще полная трепета после того свидания с Шарни, где она сделалась возлюбленной, не став любовницей, — Мария Антуанетта, говорим мы, возвращалась к себе, сияющая, с полным радости сердцем, как вдруг заметила несколько сокрушенное, но полное почтительности лицо Бёмера.
Королева послала ему улыбку, которую он истолковал в самом благоприятном для себя смысле и осмелился просить о краткой аудиенции. Королева назначила ему явиться в два часа, то есть после ее обеда. Он пошел сообщить эту превосходную новость Боссанжу, который остался в карете: у него был флюс, и он не хотел показывать королеве столь безобразную физиономию.
— Вне всякого сомнения, — говорили они друг другу, перетолковывая каждое движение, каждое слово Марии Антуанетты, — вне всякого сомнения, в ящике у ее величества лежит сумма, которую она не могла получить вчера; она назначила прием в два часа, потому что будет тогда одна.
И они, подобно героям известной басни, уже гадали, как будут увозить полученную сумму: в банковских билетах, золотом или серебром.
Пробило два часа, ювелир был на своем посту; его ввели в будуар ее величества.
— Что такое, Бёмер, — сказала ему королева еще издали, как только увидела его, — вы хотите говорить со мной о драгоценностях? Так знайте, что вы попали в очень неудачную минуту…
Бёмер подумал, что в комнате кто-нибудь спрятан и королева боится быть услышанной. Он принял понимающий вид и стал оглядывать комнату.
— Да, ваше величество.
— Что вы ищете? — спросила с удивлением королева. — У вас есть какая-то тайна, не так ли?
Он ничего не ответил, несколько растерявшись от такой скрытности.
— Та же тайна, что и прежде, какая-нибудь драгоценность на продажу? — продолжала королева. — Что-нибудь несравненное? Да не бойтесь же: никто нас не услышит.
— В таком случае… — пробормотал Бёмер.
— Ну что же?
— В таком случае я могу сказать вашему величеству…
— Да говорите скорее, любезный Бёмер.
— Я могу сказать вашему величеству, что королева вчера забыла про нас, — сказал он, показав в благодушной улыбке желтоватые зубы.
— Забыла? О чем вы? — спросила с удивлением королева.
— Вчера… был срок…
— Срок!.. Какой срок?
— О, простите, ваше величество, если я позволяю себе… Я знаю, что это нескромно. Быть может, ваше величество не были готовы. Это было бы большим несчастьем; но в конце концов…
— Послушайте, Бёмер, — воскликнула королева, — я не понимаю ни слова из того, что вы говорите. Объяснитесь же, милейший.
— Вероятно, ваше величество изволили забыть… Это вполне естественно, среди стольких забот.
— О чем я забыла, еще раз вас спрашиваю?
— Вчера был срок первого взноса за ожерелье, — робко сказал Бёмер.
— Так вы продали ваше ожерелье? — спросила королева.
— Но… — проговорил Бёмер в изумлении глядя на нее, — мне кажется, что да.
— И те, кому вы его продали, не заплатили вам, бедный Бёмер. Тем хуже для них. Эти люди должны поступить, как я: не будучи в состоянии купить ожерелье, они должны отдать его вам, оставив в вашу пользу задаток.
— Как?.. — пролепетал ювелир, который зашатался, как неосторожный путешественник, пораженный солнечным ударом в Испании. — Что я имею честь слышать от вашего величества?
— Я говорю, бедный мой Бёмер, что если десять покупателей возвратят вам ваше ожерелье, как возвратила его я, оставляя вам двести тысяч ливров отступного, то это составит два миллиона плюс ожерелье!
— Ваше величество, — воскликнул Бёмер, обливаясь потом, — вы говорите, что отдали мне ожерелье?
— Ну да, я говорю это, — спокойно подтвердила королева. — Что с вами?
— Как! — продолжал ювелир. — Ваше величество отрицаете, что купили у меня ожерелье?
— Послушайте! Что за комедию мы разыгрываем? — сурово сказала королева. — Или этому проклятому ожерелью суждено вечно у кого-нибудь отнимать рассудок?
— Но, — продолжал Бёмер, дрожа всем телом, — мне показалось, что я услышал из уст самой королевы… будто ваше величество отдали мне назад… ваше величество именно сказали: отдали назад бриллиантовое ожерелье?
Королева смотрела на Бёмера, скрестив руки.
— К счастью, — сказала она, — у меня есть чем освежить вашу память, потому что вы человек очень забывчивый, господин Бёмер, чтобы не сказать ничего более неприятного.
Она подошла к шифоньерке, вынула бумагу, раскрыла ее, пробежала глазами и медленно протянула несчастному Бёмеру.
— Слог довольно ясен, мне кажется, — сказала она.
И села, чтобы лучше видеть ювелира, пока тот читал.
Лицо его выразило сначала полнейшую недоверчивость, а затем все больший и больший испуг.
— Ну что, — спросила королева, — вы признаете эту расписку, которая с соблюдением должной формы подтверждает, что вы взяли обратно ожерелье?.. И, если только вы не забыли, что вас зовут Бёмером…
— Но, ваше величество, — воскликнул Бёмер, задыхаясь от бешенства и ужаса, — эту расписку подписал не я!
Королева отступила назад, бросив на ювелира испепеляющий взгляд.
— Вы отрицаете! — сказала она.
— Положительно… Пусть я лишусь свободы и жизни, но я никогда не получал ожерелья, я никогда не подписывал этой расписки. Если бы тут была плаха и палач стоял передо мной, я бы повторил то же самое: нет, ваше величество, это не моя расписка.
— В таком случае, сударь, — сказала королева, слегка бледнея, — выходит, что я вас обокрала, выходит, что ваше ожерелье у меня?
Бёмер порылся в бумажнике и, вынув письмо, в свою очередь протянул его королеве.
— Я не думаю, ваше величество, — сказал он почтительно, но изменившимся от волнения голосом, — я не думаю, чтобы ваше величество, имея намерение вернуть мне ожерелье, стали писать вот это письмо с признанием долга.
— Но, — воскликнула королева, — что это за лоскуток бумаги! Я этого никогда не писала! Разве это мой почерк?
— Здесь стоит подпись, — сказал уничтоженный Бёмер.
— "Марш Антуанетта Французская"… Вы с ума сошли!
Разве я французская принцесса? Разве я не эрцгерцогиня австрийская? Ну, не нелепо ли предположить, что это писала я! Полно, Бёмер, ловушка слишком груба; ступайте и скажите это вашим подделывателям подписей.
— Моим подделывателям подписей… — пролепетал ювелир, который едва не упал в обморок, услыхав эти слова. — Ваше величество подозреваете меня, Бёмера?
— Ведь вы же подозреваете меня, Марию Антуанетту! — высокомерно сказала королева.
— Но это письмо?.. — пытался он возразить, указывая на бумагу, которую она еще держала в руках.
— А эта расписка?.. — сказала она, показывая ему бумагу, которую он оставил при себе.
Бёмер принужден был опереться о кресло: пол уходил из-под его ног. Он глубоко вбирал в себя воздух, и багровый апоплексический румянец сменил на лице его мертвенную обморочную бледность.
— Отдайте мне расписку, — сказала королева, — я ее считаю подлинной; и возьмите обратно свое письмо, подписанное "Антуанетта Французская"; любой прокурор скажет вам, чего оно стоит.
И, бросив ему письмо, она вырвала из его рук расписку, повернулась к нему спиною и прошла в соседнюю комнату, предоставив самому себе несчастного, голова которого отказывалась служить ему; забыв всякий этикет, Бёмер опустился в кресло.
Однако через несколько минут он немного пришел в себя и, все еще ошеломленный, бросился вон из апартаментов королевы, вернулся к Боссанжу и рассказал ему о случившемся в такой форме, что возбудил немалые подозрения в своем компаньоне.
Но он продолжал так внятно и упорно твердить одно и то же, что Боссанж стал рвать на себе парик, а Бёмер — собственные волосы.
Но, во-первых, нельзя оставаться в карете целый день, а во-вторых, люди, вырвав волосы на голове или парике, в конце концов добираются до черепа, в котором есть или должны быть мысли. Поэтому оба ювелира остановились на мысли объединить усилия, чтобы постараться проникнуть к королеве, хотя бы помимо ее желания, и получить от нее что-нибудь похожее на объяснение.
Итак, они в самом жалком состоянии направились к дворцу; на пути им встретился один из офицеров королевы с известием, что ее величество требует кого-нибудь из них к себе. Можно представить, как радостно и поспешно они повиновались.
Их ввели к королеве немедленно.

