Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 20. Ожерелье королевы
Назад: XXVI БУМАЖНИК КОРОЛЕВЫ
Дальше: V ПЛЕННИЦА
Часть третья
I
ДОЛЖНИК И КРЕДИТОР
Кардинал смотрел на действия своего гостя в каком-то оцепенении.
— Итак, — сказал тот, — раз мы восстановили знакомство, монсеньер, то начнем разговор, если вам угодно.
— Хорошо, — ответил прелат, приходя понемногу в себя, — хорошо, поговорим о возврате долга, о котором… на который…
— На который я указывал в моем письме, не правда ли? Вашему высокопреосвященству, конечно, угодно поскорее узнать…
— О да… Ведь это только был предлог, не правда ли? По крайней мере, я так предполагаю.
— Нет, монсеньер, нисколько… Это факт, самый серьезный факт, могу вас уверить. Об этом погашении долга, конечно, стоит позаботиться, так как речь идет о пятистах тысячах ливров. А пятьсот тысяч ливров — это сумма.
— Та сумма, которую вы мне любезно одолжили! — воскликнул кардинал, слегка бледнея.
— Да, монсеньер, которую я вам одолжил, — сказал Бальзамо. — Мне приятно видеть, что у такого высокопоставленного лица, как вы, такая хорошая память.
Это был удар; кардинал почувствовал, что лицо его покрывается холодным потом.
— Был момент, когда я думал, — сказал он, пытаясь улыбнуться, — что Джузеппе Бальзамо, наделенный сверхъестественными качествами, унес с собой в могилу мое обязательство, подобно тому, как он бросил в огонь мою расписку.
— Монсеньер, — возразил с достоинством граф, — жизнь Джузеппе Бальзамо нельзя уничтожить, так же как и эту бумажку, которую вы считали погибшей. Смерть бессильна против жизненного эликсира, так же как и огонь бессилен против асбеста.
— Я не понимаю, — сказал кардинал, у которого потемнело в глазах.
— Вы сейчас поймете, монсеньер, я в этом уверен, — ответил Калиостро.
— Каким образом?
— Признав свою подпись.
Он подал кардиналу сложенную бумагу, и тот, еще не раскрыв ее, воскликнул:
— Моя расписка!
— Да, монсеньер, ваша расписка, — подтвердил Калиостро с легкой улыбкой, смягченной бесстрастным поклоном.
— Но вы же ее сожгли, сударь! Я сам видел огонь.
— Я бросил бумажку в огонь, это правда, — сказал граф, — но, как я уже вам говорил, монсеньер, случаю угодно было, чтобы вы написали ее на тонком кусочке асбеста, а не на обыкновенной бумаге. Таким образом, я нашел вашу расписку среди прогоревших углей.
— Сударь, — с некоторой надменностью ответил кардинал, считавший предъявление расписки доказательством недоверия, — поверьте, что я не отрекся бы от своего долга и без этой бумажки, так же как не отрекаюсь сейчас, когда она предъявлена; так что вы были не правы, обманывая меня.
— Обманывать вас, монсеньер? Клянусь вам, что у меня ни на минуту не было такого намерения.
Кардинал покачал головой.
— Вы хотели меня уверить, сударь, что обязательство уничтожено.
— Чтобы вы могли спокойно и счастливо наслаждаться пятьюстами тысячами ливров, — возразил в свою очередь Бальзамо, слегка пожимая плечами.
— Но в конце концов, сударь, — продолжал кардинал, — почему вы целых десять лет оставляли эту сумму невостребованной?
— Я знал, монсеньер, кому я ее вручил. Различные обстоятельства, игра, воры последовательно лишили меня всего моего состояния. Но, зная, что эти деньги в верных руках, я терпел и ждал до последней минуты.
— И эта последняя минута наступила?
— Увы, да, монсеньер.
— Так что вы больше не можете терпеть и ждать?
— Действительно, это для меня невозможно, — ответил Калиостро.
— И вы от меня требуете возвращения ваших денег?
— Да, монсеньер.
— Сегодня же?
— Если вам будет угодно.
Кардинал молчал, охваченный дрожью отчаяния. Потом изменившимся голосом он сказал:
— Господин граф, несчастные земные владыки не могут внезапно создавать капиталы с той же быстротой, как вы, волшебники, повелевающие духами мрака и света.
— О монсеньер, — сказал Калиостро, — поверьте, я бы не требовал эту сумму, если бы не знал заранее, что она у вас есть.
— У меня есть пятьсот тысяч ливров? У меня?! — воскликнул кардинал.
— Тридцать тысяч ливров золотом, десять тысяч серебром, остальное — бонами казначейства.
Кардинал побледнел.
— И они находятся здесь, в этом шкафу работы Буля, — продолжал Калиостро.
— О сударь! Вы и это знаете?
— Да, монсеньер, я знаю также, ценой каких жертв удалось вам добыть эту сумму. Я слышал, что она обошлась вам вдвое дороже своей стоимости.
— О, это совершенная правда!
— Но…
— Но?.. — воскликнул несчастный принц.
— Но я, монсеньер, — продолжал Калиостро, — в продолжение десяти лет двадцать раз подвергался опасности умереть от голода и от затруднительных обстоятельств, имея документ стоимостью в полмиллиона. И все же я ждал, чтобы вас не беспокоить. Поэтому я думаю, что мы более или менее расквитались.
— Расквитались, сударь! — воскликнул кардинал. — О, не говорите этого! Ведь за вами остается преимущество в том, что вы столь великодушно одолжили мне такую значительную сумму. Расквитались?! О нет, нет! Я и теперь, и вечно буду чувствовать себя вашим должником. Я только спрашиваю, господин граф, почему вы молчали десять лет, когда могли потребовать у меня эту сумму? Ведь в течение этих десяти лет у меня двадцать раз была возможность отдать вам эти деньги без всякого затруднения для себя.
— А в настоящую минуту? — спросил Калиостро.
— О, в настоящую минуту, я вовсе не скрываю, — воскликнул кардинал, — эта уплата, которой вы требуете… Ведь вы ее требуете, не правда ли?
— К сожалению, монсеньер!
— Она меня ужасно затрудняет.
Калиостро легким движением головы и плеч как бы хотел сказать: "Что делать, монсеньер, это так и по-другому быть не может!"
— Но вам, угадывающему все, — убеждал принц, — вам, кто умеет читать в глубине сердец и даже в глубине шкафов — что иногда еще хуже, — вам, вероятно, не нужно объяснять, почему мне так необходимы эти деньги, для какого таинственного и священного употребления я их предназначаю?
— Вы ошибаетесь, монсеньер, — возразил Калиостро ледяным тоном, — нет, я об этом даже не догадываюсь. Мои собственные тайны принесли мне достаточно огорчений, разочарований и невзгод, чтобы я стал заниматься еще и чужими тайнами, если только они меня не интересуют. Меня интересовало, есть ли у вас деньги или нет, поскольку я собирался потребовать с вас некую сумму. Но когда я узнал, что эти деньги у вас есть, мне было уже незачем знать, на что вы их предназначали. К тому же, монсеньер, если бы я сейчас узнал причину вашего затруднения, она могла бы показаться мне весьма серьезной и настолько достойной уважения, что я проявил бы слабость, согласившись еще подождать, а это в данных обстоятельствах, повторяю вам, причинило бы мне огромный ущерб. Так что я предпочитаю не знать.
— О сударь! — воскликнул кардинал, в котором последние слова графа пробудили гордость и обидчивость. — Не думайте, по крайней мере, что я хочу разжалобить вас своими личными затруднениями. У вас свои интересы; они представлены и гарантированы этим документом. Он подписан моей рукой, и этого достаточно. Вы получите свои пятьсот тысяч ливров.
Калиостро поклонился.
— Я хорошо знаю, — продолжал кардинал, страдая в душе от необходимости потерять в одну минуту деньги, собранные с таким трудом, — я знаю, сударь, что бумага эта — только признание долга, но не определяет срок платежа.
— Ваше высокопреосвященство соблаговолит извинить меня, — возразил граф, — но я ссылаюсь на буквальный текст расписки. А там написано:
"Удостоверяю, что получил от господина Джузеппе.
Бальзамо сумму в пятьсот тысяч ливров, которую обязуюсь выплатить по первому его требованию".
Подписано: Луи де Роган".
Кардинал вздрогнул всем телом; он забыл не только о долге, но и том, в каких выражениях этот долг был признан.
— Вы видите, монсеньер, — продолжал Бальзамо, — что я не требую чего-либо невозможного. Если вы не можете — другое дело. Но вот о чем я сожалею: ваше высокопреосвященство, кажется, изволили забыть, что эту сумму Джузеппе Бальзамо дал добровольно в крайнюю минуту, и кому же? Господину де Рогану, которого совсем не знал. Мне кажется, что это поступок, который достоин настоящего вельможи и которому господин де Роган, вельможа во всех отношениях, мог бы последовать, возвратив эту сумму. Но вы решили, что должно быть иначе. Не будем об этом больше говорить. Я беру обратно расписку. Прощайте, монсеньер.
Калиостро с холодным видом сложил бумагу, намереваясь положить ее в карман.
Кардинал остановил его.
— Господин граф, — сказал он, — никто из Роганов не допустит, чтобы кто бы то ни было на свете давал ему уроки великодушия. Притом здесь это был бы просто-напросто урок честности. Позвольте мне расписку, сударь, прошу вас, и я вам уплачу.
Теперь Калиостро, казалось, в свою очередь был в нерешительности. И действительно, бледное лицо, опухшие веки, дрожащая рука кардинала как будто возбудили в нем живое участие.
Кардинал, при всей своей гордости, обратил внимание на этот добрый порыв Калиостро. Была минута, когда он надеялся на благоприятный исход дела.
Но вдруг взгляд графа принял жесткое выражение. Какое-то облако затуманило его чело, и он протянул кардиналу расписку.
Господин де Роган, пораженный в самое сердце, не промедлил ни минуты. Он направился к шкафу, на который указал Калиостро, и взял оттуда пачку билетов ренты лесного ведомства. Потом он указал пальцем на несколько мешков, наполненных серебром, и выдвинул ящик с золотом.
— Господин граф, — сказал он, — вот ваши пятьсот тысяч ливров. Но я теперь должен вам еще двести пятьдесят тысяч ливров процентов, если вы не настаиваете на получении сложных процентов, которые составили бы еще более значительную сумму. Я велю моему управляющему сделать расчеты и представлю вам обеспечение этого платежа. Прошу вас только, дайте мне время.
— Монсеньер, — ответил Калиостро, — я одолжил пятьсот тысяч ливров господину де Рогану; господин де Роган должен мне пятьсот тысяч ливров и ничего больше. Если бы я желал иметь проценты, я бы оговорил это в расписке. Как доверенное лицо или наследник Джузеппе.
Бальзамо, если вам угодно (ибо Джузеппе Бальзамо действительно умер), я должен получить только сумму, обозначенную в расписке; вы мне ее платите, я получаю и благодарю вас. Примите свидетельство моего глубокого почтения. Итак, теперь я беру только ценные бумаги, монсеньер; но ввиду того, что мне настоятельно необходима вся сумма сегодня же, я пришлю за золотом и серебром, которое прошу держать наготове.
С этими словами, на которые кардинал не нашелся что ответить, Калиостро положил пачку ценных бумаг в карман и, почтительно поклонившись кардиналу, в руках у которого оставалась расписка, вышел.
— Несчастье пало на меня одного, — вздохнул г-н де Роган после ухода Калиостро, — потому что королева в состоянии уплатить; уж к ней-то, по крайней мере, не явится нежданный Джузеппе Бальзамо требовать старый долг в пятьсот тысяч ливров.
II
ДОМАШНИЕ РАСЧЕТЫ
Это было за два дня до первого платежа, назначенного королевой. Господин де Калонн до сих пор еще не сдержал своих обещаний: его смета не была еще подписана королем.
Дело в том, что министр был очень занят. Он несколько позабыл о королеве. Она же со своей стороны считала, что напоминать о себе контролеру финансов было бы ниже ее достоинства. Получив его обещание, она ждала.
Однако она начинала беспокоиться, осведомляться, искать способы поговорить с г-ном де Калонном, не компрометируя себя, когда вдруг получила записку от министра.
"Сегодня вечером, — писал он, — дело, которое Вашему величеству было угодно поручить мне, будет подписано в совете и деньги будут у королевы завтра утром".
Вся веселость вернулась к Марии Антуанетте. Она не думала более ни о чем, даже о трудном завтрашнем дне.
Видно было даже, что в своих прогулках она выбирает самые уединенные аллеи, как бы для того, чтобы оградить свои мысли от соприкосновения со всем материальным и светским.
Она еще прогуливалась с г-жой де Ламбаль и присоединившимся к ним графом д’Артуа, в то время как король, пообедав, отправился в совет.
Он был не в духе. Из России пришли дурные вести. В Лионском заливе погибло судно. Некоторые провинции отказывались платить налоги. Великолепная карта полушарий, которую он собственноручно отполировал и покрыл лаком, треснула от жары, и Европа оказалась разрезанной на две части под тридцатым градусом широты и пятьдесят пятым долготы. Его величество гневался на весь мир, даже на г-на де Калонна.
А тот, с улыбкой на устах, тщетно протягивал ему свой великолепный надушенный портфель. Молча и мрачно король начал набрасывать на листе белой бумаги беспорядочные штрихи. На барометре его настроения это обозначало: "Буря". Если же он рисовал человечков и лошадок, то это означало: "Ясная погода".
Дело в том, что манией короля было рисовать во время заседаний совета. Людовик XVI не любил смотреть в лицо людям: он был застенчив. Перо в руках придавало ему уверенность и важную осанку. В то время как он занимался таким образом, оратор мог развивать свои положения; король, украдкой поднимая на него глаза, понемногу черпал что-то из своих взглядов — ровно настолько, чтобы, оценивая мысль, не забыть человека, который ее высказал.
Если он говорил сам — а говорил он хорошо, — то рисунок спасал его речь от всякой манерности. Ему не приходилось прибегать к жестикуляции. Он мог, когда ему вздумается, прервать речь или увлечься ею. Штрих на бумаге заменял при необходимости словесные узоры.
Итак, король взял, по обыкновению, перо, а министры начали чтение проектов и дипломатических нот.
Король не издал ни одного звука при чтении иностранной корреспонденции, как бы ничего не понимая в этих делах.
Но когда стали читать подробную месячную смету расходов, он поднял голову.
Господин де Калонн начал читать памятную записку касательно займа, предполагавшегося на будущий год. Король принялся с яростью за свои штрихи.
— Вечно занимаем, — сказал он, — не зная, как отдадим, а ведь это задача, господин де Калонн.
— Ваше величество, заем — это способ отвести воду от источника: в одном месте она исчезнет, а в другом станет обильнее. Я скажу больше — она пополнится подземными ключами… И прежде всего, вместо того чтобы говорить, как мы заплатим, надо бы сказать, каким образом и под какое обеспечение мы будем занимать. Ведь задача, о которой упоминало ваше величество, не в том, чем заплатить, а в том, найдем ли мы кредиторов.
Король довел штриховку до непроницаемой черноты, но не прибавил ни слова: его лицо было вполне красноречиво.
Господин де Калонн изложил свой план при одобрении коллег, и король подписал проект, хотя и со вздохом.
— А теперь, раз мы имеем деньги, — смеясь сказал Калонн, — будем их и расходовать.
Король с гримасой посмотрел на министра, и штриховка превратилась в громадное чернильное пятно. Господин де Калонн передал ему смету расходов на пенсии, награды, поощрения, подарки и жалованье.
Проект был не длинный, но хорошо разработанный. Король перевернул страницы и посмотрел общую сумму.
— Миллион сто тысяч ливров на такие пустяки! Как же это может быть?
И он положил перо.
— Прочтите, ваше величество, до конца и соблаговолите заметить, что из миллиона ста тысяч ливров по одной только статье требуется пятьсот тысяч.
— Какая же это статья, господин генеральный контролер?
— Аванс ее величеству королеве, ваше величество.
— Королеве!.. — воскликнул Людовик XVI. — Пятьсот тысяч ливров королеве! О сударь, это невозможно!
— Прошу извинения, ваше величество, но цифра точная.
— Пятьсот тысяч ливров королеве! — повторил король. — Здесь какое-то недоразумение. На прошлой неделе… нет, две недели тому назад я приказал выплатить ее величеству содержание за три месяца.
— Ваше величество, королева нуждалась в деньгах. Все знают, как ее величество их расходует, и ничего нет необычайного…
— Нет, нет! — воскликнул король, в котором пробудилось желание заставить говорить о своей бережливости и в то же время снискать королеве аплодисменты, когда она поедет в Оперу. — Королева не хочет такой суммы, господин де Калонн! Королева сама мне говорила, что корабль предпочтительнее драгоценных украшений. Королева считает, что если Франция берет займы, чтобы прокормить своих бедных, то мы, богатые, должны помогать Франции. Итак, если королева нуждается в этой сумме, то тем больше будет ее заслуга, если она согласится подождать, и я вам ручаюсь, что она будет ждать.
Министры дружно зааплодировали этому патриотическому порыву короля, которого сам божественный Гораций не назвал бы в эту минуту Uxorius.
Лишь г-н де Калонн, знавший о затруднительном положении королевы, настаивал на выплате денег.
— Поистине, — сказал король, — вы проявляете большое участие к нам, чем мы сами. Успокойтесь, господин де Калонн!
— Королева упрекнет меня, ваше величество, в том, что я недостаточно ревностно ей служу.
— Я буду вашим защитником перед ней.
— Королева, ваше величество, просит только тогда, когда является крайняя необходимость.
— Если королева имеет необходимость, то, я надеюсь, она не так настоятельна, как нужда бедных. И ее величество первая с этим согласится.
— Ваше величество!..
— С вопросом покончено, — сказал решительно король. Он вновь взял перо и принялся за свои штрихи.
— Вы вычеркиваете это ассигнование, ваше величество? — проговорил в смущении г-н де Калонн.
— Вычеркиваю, — произнес величественно Людовик XVI. — И как бы слышу отсюда великодушный голос королевы, выражающий признательность за то, что я так хорошо понял ее сердце.
Господин де Калонн прикусил губу; Людовик, довольный этим героическим самопожертвованием, подписал все остальное со слепым доверием.
Затем он нарисовал великолепную зебру, окружив ее нолями, и повторил:
— Сегодня вечером я выиграл пятьсот тысяч ливров. Хороший день для короля, Калонн. Вы отнесете эту добрую весть королеве. Вы тогда сами увидите, вы увидите!
— Ах, Боже мой, ваше величество! — тихо проговорил министр. — Я был бы в отчаянии, если бы лишил вас удовольствия передать это сообщение. Каждому по заслугам.
— Хорошо, ответил король, — закроем наше заседание. Мы потрудились хорошо. На сегодня довольно. А вот и королева возвращается. Пойдемте ей навстречу, Калонн.
— Прошу прощения у вашего величества, но мне надо подписать бумаги.
И он со всей возможной поспешностью исчез в коридоре.
Король с сияющим лицом храбро шел навстречу Марии Антуанетте. Она напевала что-то в вестибюле, опираясь на руку графа д’Артуа.
— Мадам, — сказал король, — вы довольны своей прогулкой, не правда ли?
— Я в восторге, государь! А вы хорошо поработали?
— Судите сами: я выиграл вам пятьсот тысяч ливров.
"Калонн сдержал слово", — подумала королева.
— Представьте себе, — продолжал Людовик XVI, — Калонн требовал для вас кредита на полмиллиона.
— О! — воскликнула с улыбкой Мария Антуанетта.
— А я… я его вычеркнул! И вот пятьсот тысяч ливров, выигранных одним взмахом пера.
— Как вычеркнули? — проговорила, бледнея, королева.
— Бесповоротно! И этим я оказал вам большую услугу. Прощайте, мадам, прощайте.
— Государь, государь!
— Я страшно голоден. Я иду к себе. Не правда ли, я вполне заработал свой ужин?
— Государь, выслушайте меня!
Но Людовик XVI подпрыгнул на месте и убежал, сияя от своей шутки и оставив королеву ошеломленной, онемевшей и растерянной.
— Брат мой, пошлите за Калонном, — проговорила она наконец графу д’Артуа. — Это какая-то злая проделка.
В эту минуту королеве подали записку от министра:
"Вашему величеству уже известно, что король отказал в ассигновке. Это непостижимо, Ваше величество; я покинул совет больной и подавленный горем".
— Прочитайте, — сказала она, передавая записку графу д’Артуа.
— И еще находятся люди, утверждающие, что мы расхищаем финансы, сестра моя! — воскликнул принц. — Вот так поступок…
— Поступок супруга, — тихо проговорила королева.
— Примите выражение моего соболезнования, дорогая сестра. Это послужит мне предостережением. Ведь и я намеревался просить завтра.
— Пусть пошлют за госпожой де Ламотт, — сказала королева после долгого размышления, обращаясь к г-же де Мизери. — Где бы она ни была, и немедленно.
III
МАРИЯ АНТУАНЕТТА — КОРОЛЕВА,
ЖАННА ДЕ ЛАМОТТ — ЖЕНЩИНА
Курьер, отправленный в Париж за г-жой де Ламотт, нашел графиню — или, вернее, не нашел ее — у кардинала де Рогана. Жанна поехала к его высокопреосвященству. Она там обедала, потом ужинала, беседуя о злосчастном платеже, в то время, когда курьер спросил, нет ли графини у г-на де Рогана.
Швейцар, будучи человеком ловким, ответил, что его высокопреосвященство отсутствует и что г-жи де Ламотт в особняке нет, но сообщить ей о поручении королевы будет чрезвычайно просто, так как графиня, вероятно, пожалует сегодня вечером.
— Пусть она едет как можно скорее в Версаль, — сказал курьер.
Он отбыл, чтобы распространить то же сообщение во всех предполагаемых местах пребывания кочующей графини.
Как только посланный удалился, швейцар тут же исполнил поручение. Он послал свою жену предупредить г-жу де Ламотт, которая сидела у г-на де Рогана, где оба союзника на досуге философствовали по поводу превратностей, случающихся с большими деньгами.
Графиня с первых же слов поняла, что нужно ехать немедленно. Она попросила у кардинала пару хороших лошадей, он сам усадил ее в берлину без гербов; и пока он пытался обдумать это известие, графиня мчалась так быстро, что за час добралась до дворца.
Ее ждали и без задержки провели к Марии Антуанетте.
Королева сидела в своих покоях. Все приготовления для отхода ко сну были закончены, и ни одной женщины не было около нее, кроме г-жи де Мизери, которая сидела за книгой в маленьком будуаре.
Мария Антуанетта вышивала или делала вид, что вышивает, беспокойно ловя малейший звук извне, когда Жанна возникла на пороге.
— А, — воскликнула королева, — вот и вы! Тем лучше! Есть новость, графиня.
— Хорошая новость, ваше величество?
— Судите сами. Король отказал в пятистах тысячах ливров.
— Господину де Калонну?
— Всем. Король не хочет больше выдавать мне денег. Такие вещи случаются только со мной.
— Боже мой! — прошептала графиня.
— Это невероятно, не правда ли, графиня? Отказать, вычеркнуть уже сделанное представление! Ну, не будем больше говорить о том, чего уже не воротишь. Возвращайтесь как можно скорее в Париж.
— Хорошо, ваше величество.
— И скажите кардиналу, который с такой преданностью готов был доставить мне удовольствие, что я принимаю от него пятьсот тысяч ливров сроком до следующей ассигновки за три месяца. Это эгоистично с моей стороны, графиня, но так нужно… Я злоупотребляю его преданностью.
— Ах, ваше величество, — прошептала Жанна, — мы погибли: у кардинала нет больше денег.
Королева вскочила как от удара или оскорбления.
— Нет… денег!.. — пробормотала она.
— Ваше величество, господин де Роган получил вексель, о котором перестал уже думать. Это был долг чести, и он заплатил.
— Пятьсот тысяч ливров?
— Да, ваше величество.
— Но…
— Это последние его деньги. У него нет больше никаких источников.
Королева застыла, оглушенная несчастьем.
— Ведь я не сплю, не правда ли? — сказала она наконец. — Ведь это на меня обрушились все эти разочарования? Откуда вы знаете, графиня, что у кардинала нет больше денег?
— Он мне рассказывал об этом несчастье полтора часа назад. Оно тем более непоправимо, что эти пятьсот тысяч ливров были остатками его состояния.
Королева опустила голову на руки.
— Надо решиться, — сказала она.
"Как-то теперь поступит королева?" — подумала Жанна.
— Видите, графиня, это страшный урок. Это наказание за то, что я втайне от короля совершила сомнительный по своему значению поступок ради столь же сомнительного тщеславия или жалкого кокетства. У меня ведь, согласитесь, не было никакой необходимости в этом ожерелье.
— Это правда, ваше величество, но королева считается только со своими потребностями и склонностями.
— А я хочу прежде всего считаться со своим спокойствием, со счастьем моего семейного очага. Достаточно этой первой неудачи, чтобы понять, скольким неприятностям я себя подвергла и как полон несчастьями был избранный мною путь. Я отрекаюсь от него. Пойдем теперь открыто, свободно, просто.
— Ваше величество
— А для начала принесем наше тщеславие в жертву на алтарь долга, как сказал бы господин Дора.
Потом, вздохнув, она прошептала:
— А все-таки ожерелье это было прекрасно!
— Оно и теперь так же прекрасно, ваше величество… Ведь это те же деньги.
— С этой минуты оно для меня только груда камешков; а с камешками, когда ими наиграются, поступают так же, как дети это делают после игры в мельницу: выбрасывают и забывают о них.
— Что королева желает этим сказать?
— Королева хочет сказать, дорогая графиня, что вы возьмете футляр, принесенный господином де Роганом… и возвратите его ювелирам Бёмеру и Боссанжу.
— Возвратить его им?
— Да, именно.
— Но ведь ваше величество дали двести пятьдесят тысяч ливров задатка?!
— Я все же выиграю двести пятьдесят тысяч ливров. У меня такие же расчеты, как и у короля.
— Ваше величество, ваше величество! — воскликнула графиня. — Потерять таким образом четверть миллиона! Ведь может случиться, что ювелиры не захотят вернуть задатка, который они уже могли израсходовать.
— Я с этим считаюсь и отказываюсь от задатка с условием, что сделка будет расторгнута. С тех пор как я нашла этот выход, графиня, я чувствую себя так легко. С этим ожерельем здесь поселились заботы, печали, страхи, подозрения. В этих бриллиантах никогда не хватило бы огня, чтобы осушить слезы, которые, как тучи, гнетут меня. Графиня, унесите сейчас же этот футляр. Ювелиры будут в барыше. Двести пятьдесят тысяч ливров сверх условленной цены — это прибыль, которую они наживут на мне, разве это не выгодно? И эту выгоду они получат, а кроме того, у них остается ожерелье. Я думаю, что они не будут жаловаться и никто ничего об этом не узнает.
Кардинал действовал только с целью доставить мне удовольствие. Вы скажете ему, что мое удовольствие состоит в том, чтобы не иметь этого ожерелья; если он человек умный, то он поймет меня; если это добрый пастырь, он одобрит меня и укрепит в самоотречении.
Говоря это, королева протянула Жанне закрытый футляр, но та тихонько отстранила его.
— Ваше величество, — сказала она, — почему не попробовать добиться новой отсрочки?
— Просить?.. О нет!
— Я сказала — добиться, ваше величество.
— Просить — значит унижаться, графиня. Добиться — значит быть униженной. Я, может статься, поняла бы унижение ради любимого человека, ради того, чтобы спасти живое существо, скажем, свою собаку; но ради того, чтобы иметь право сохранить эти камни, которые жгут, как раскаленный уголь, хоть блеск их не ярче и не долговечнее, — о графиня, ничей совет не убедит меня согласиться на это. Никогда! Унесите футляр, дорогая моя, унесите!
— Но подумайте, ваше величество, какой шум поднимут эти ювелиры хотя бы из вежливости и из сочувствия к вам! Ваш отказ так же будет компрометировать вас, как и ваше согласие. Все общество будет знать, что бриллианты были в вашем распоряжении.
— Никто ничего не узнает. Я больше ничего не должна ювелирам; я их больше не буду принимать; они будут молчать, по крайней мере, ради моих двухсот пятидесяти тысяч ливров; а мои враги, вместо того чтобы говорить, что я покупаю на полтора миллиона бриллиантов, скажут только, что я бросаю деньги на поощрение торговли. Это уже не так неприятно. Унесите футляр, графиня, унесите и сердечно поблагодарите господина де Рогана за его милую любезность и доброе желание.
И повелительным жестом королева передала футляр Жанне, которая не без некоторого волнения ощутила в руках эту тяжесть.
— Вам нельзя терять времени, — продолжала королева, — чем меньше будут беспокоиться ювелиры, тем больше будет у нас уверенности в сохранении тайны; отправляйтесь скорее, чтобы никто не увидел этого футляра. Вы сперва заедете домой, чтобы визит к Бёмеру в такой час не возбудил подозрения полиции, интересующейся, разумеется, всем, что происходит у меня; затем, когда ваше возвращение запутает соглядатаев, вы поедете к ювелирам и привезете мне от них расписку.
— Да, ваше величество… Все будет исполнено, раз вы этого желаете.
Она заботливо спрятала шкатулку с футляром под плащ так, чтобы ничего не было заметно, и вскочила в карету со всем рвением, какого требовала августейшая соучастница ее действий.
Прежде всего, согласно приказанию, Жанна велела отвезти себя домой и отослала карету г-ну де Рогану, чтобы кучер, который привез ее, не мог проникнуть в тайну. Потом она приказала раздеть себя, чтобы облачиться в платье попроще, более подходящее для предстоящей ночной поездки.
Горничная быстро одела ее, заметив про себя, что хозяйка была задумчива и рассеянна во время этой процедуры, хотя обычно относилась к ней со всем вниманием придворной дамы.
Жанна в самом деле не думала о своем туалете, позволяя делать с собой что угодно; все ее размышления были направлены сейчас к одной странной идее, внушенной ей новыми обстоятельствами.
Она спрашивала себя, не совершит ли кардинал большой ошибки, допустив, чтобы королева отдала это украшение, и не повредит ли эта ошибка тому положению, о котором мечтал г-н де Роган, льстя себя надеждой скоро достичь его, раз он принимал участие в маленьких тайнах королевы.
Повиноваться приказанию Марии Антуанетты, не посоветовавшись с г-ном де Роганом, — не будет ли это изменой первейшему долгу товарищества? Пусть кардинал исчерпал все свои ресурсы; разве не предпочтет он продать себя, чем позволить королеве лишиться предмета, который она страстно желала?
"Я не могу поступить иначе, — сказала себе Жанна, — как посоветоваться с кардиналом.
Миллион четыреста тысяч ливров! — добавила она мысленно, — никогда у него не будет миллиона четырехсот тысяч ливров!"
Потом внезапно повернувшись к горничной, она сказала:
— Ступайте, Роза.
Горничная повиновалась, и г-жа де Ламотт продолжала свой безмолвный монолог:
"Какая сумма, какое состояние! Какая лучезарная жизнь! И все это счастье, весь блеск, связанный с такой суммой, олицетворены в маленькой бриллиантовой змейке, которая сверкает в этом футляре!"
Она открыла футляр, и вид этих струящихся огней ожег ей глаза. Она вынула из атласа ожерелье, обвила его вокруг пальцев и спрятала в своих маленьких ладонях, говоря:
— Вот они, миллион четыреста тысяч ливров, ибо это ожерелье стоит миллион четыреста тысяч ливров наличными деньгами, и ювелиры заплатили бы мне эту цену сегодня же.
Странная судьба, позволившая маленькой Жанне де Валуа, нищей и безвестной, дотрагиваться своей рукой до руки первой во всем мире королевы и держать в своих руках, хотя бы на один только час, миллион четыреста тысяч ливров, сумму, которая в этом мире никогда не путешествует одна, а всегда в сопровождении вооруженных стражников или с гарантиями высокопоставленных лиц — во Франции не ниже кардинала или королевы.
"И все это я держу в своих руках! Как это тяжело и как легко! Чтобы увезти золотом, драгоценным металлом, то, что стоит этот футляр, мне бы понадобилась пара лошадей. Чтобы увезти ценными бумагами… А эти бумаги разве всегда превращаются в золото? Необходимы подписи, контроль… Да притом это все-таки только бумага: огонь, воздух, вода — все может уничтожить ее. Эта бумага не имеет хождения по всей стране; она выдает свое происхождение, она раскрывает имя своего автора, имя своего предъявителя. Через некоторое время она теряет часть своей стоимости или вовсе обесценивается. Бриллианты же, наоборот, вещество прочное, способное противостоять всему; каждый их знает, ценит, любит и покупает — в Лондоне, Берлине, Мадриде, даже в Бразилии. Все понимают, что такое бриллиант, особенно бриллиант такого размера и такой воды, как эти! Как они прекрасны! Как восхитительны! Как хороши они и все вместе, и каждый сам по себе! Если их разрознить, они с учетом их размера, может быть, будут стоить дороже, чем стоят собранные вместе!"
— Но о чем же я думаю? — вдруг сказала она. — Решим скорее, идти к кардиналу или возвратить ожерелье Бёмеру, как мне поручила королева.
Она поднялась, продолжая держать горевшие тысячью огней бриллианты, которые вспыхивали и сияли у нее в руке.
"Итак, они вернутся к бесстрастному ювелиру, который их взвесит и примется чистить своей щеточкой. А они могли бы красоваться на шее Марии Антуанетты… Бёмер сначала запротестует, а потом успокоится, сообразив, что он наживет на этой операции, не выпуская из рук товара… Ах, я забыла самое главное — в каких выражениях должна быть написана расписка ювелира? Это очень важно; да, для того чтобы составить ее надлежащим образом, нужно немало дипломатии. Необходимо, чтобы текст не налагал никакого обязательства ни на Бёмера, ни на королеву, ни на кардинала, ни на меня.
Я никогда не сумею составить такую бумагу. Мне необходим совет…
Кардинал… О нет! Если бы он меня любил сильнее или был богаче и дарил мне бриллианты…"
Она уселась на софу; бриллианты обвивали ее руку; голова ее горела, в мозгу проносились какие-то неясные мысли, порой приводившие ее в ужас, так что она их отгоняла с лихорадочной энергией.
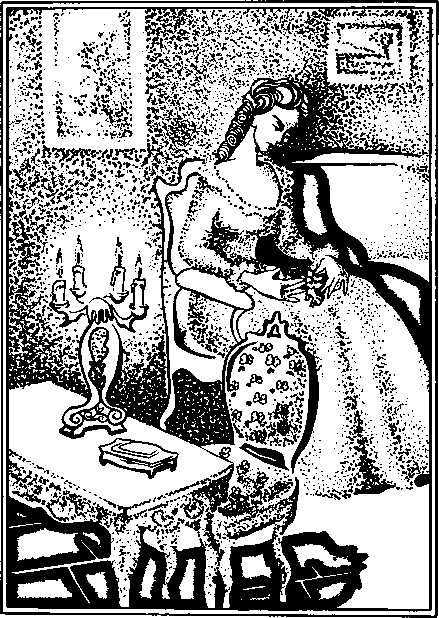
Но вот взгляд ее стал спокойнее и неподвижнее; он, казалось, был сосредоточен на какой-то неизменной мысли; она не замечала, что время бежит; что в ней зарождается непоколебимая смелость; что, подобно пловцам, поставившим ногу на тинистое дно, всяким движением, которое она делала, желая освободиться, она погружается еще глубже. В таком безмолвном и глубоком созерцании таинственной цели прошел целый час.
Наконец она поднялась, побледнев, как жрица в минуту экстаза, и позвонила горничной:
Было два часа ночи.
— Найдите мне фиакр, — сказала она, — или ручную тележку, если нет экипажа.
Служанка разыскала фиакр, сонно застывший на старой улице Тампля. Госпожа де Ламотт села в экипаж одна, отослав горничную.
Через десять минут фиакр остановился у двери сочинителя памфлетов Рето де Билета.
IV
РАСПИСКА БЁМЕРА И ПИСЬМО КОРОЛЕВЫ
Результат этого ночного посещения памфлетиста Рето де Билета сказался только на другой день, и вот каким образом.
В семь часов утра г-жа де Ламотт переслала королеве письмо, в которое была вложена расписка ювелиров. Этот важный документ гласил:
"Мы, нижеподписавшиеся, сим удостоверяем, что получили обратно проданное королеве за миллион шестьсот тысяч ливров бриллиантовое ожерелье, ввиду того что бриллианты не понравились королеве; ее величество нас вознаградила за наши хлопоты и издержки, оставив в нашу пользу ранее врученную нам сумму в двести пятьдесят тысяч ливров.
Подписано: Бёмер и Боссанж".
Королева, успокоившись относительно дела, так долго тревожившего ее, спрятала расписку в шифоньерку и перестала о ней думать.
Но странным противоречием этой расписке стал два дня спустя визит к ювелирам Бёмеру и Боссанжу кардинала де Рогана, который по-прежнему с некоторым беспокойством думал о взносе первого платежа согласно договоренности королевы с ювелирами.
Господин де Роган нашел Бёмера в его доме на Школьной набережной. Утром истекал срок первого взноса, и в случае задержки или отказа королевы в стане ювелиров должна была царить тревога.
Но все в доме Бёмера, наоборот, дышало спокойствием, и г-н де Роган был счастлив увидеть приветливые лица слуг и ластившуюся к нему, виляющую хвостом собаку.
Бёмер принял своего высокого клиента с пространными изъявлениями приветствия, указывавшими на полное внутреннее удовлетворение.
— Ну, — сказал кардинал, — сегодня срок платежа. Значит, королева уплатила?
— Нет, монсеньер, — ответил Бёмер. — Ее величество не могла дать нам денег. Вы знаете, что король отказал господину де Калонну. Все об этом говорят.
— Да, Бёмер, все об этом говорят, и именно этот отказ привел меня сюда.
— Но, — продолжал ювелир, — ее величество исполнена великодушия и доброй воли. Не будучи в состоянии заплатить, она дала нам гарантию уплаты, а большего нам и не надо.
— А, тем лучше, — воскликнул кардинал, — она дала вам гарантию, говорите вы? Это очень хорошо, но… как?
— Самым простым, деликатным и истинно королевским способом, — ответил ювелир.
— Может быть, через посредство этой хитроумной графини?
— Нет, монсеньер, нет. Госпожа де Ламотт даже не появилась, и мы, Боссанж и я, очень польщены такой деликатностью ее величества.
— Не появилась! Графиня не появилась?.. Но будьте уверены тем не менее, что она во многом причастна к этому, господин Бёмер. Все удачные решения наверняка исходят от графини. Вы понимаете, что я не умаляю достоинств ее величества…
— Монсеньер, вы можете судить, насколько ее величество поступила деликатно и великодушно по отношению к нам. Когда распространился слух об отказе короля подписать ассигновку в пятьсот тысяч ливров, мы написали госпоже де Ламотт.
— Когда?
— Вчера, монсеньер.
— Что же она ответила?
— Вашему преосвященству ничего об этом не известно? — спросил Бёмер с неуловимым оттенком почтительной фамильярности.
— Нет, вот уже три дня, как я не имел чести видеть госпожу графиню, — тоном истинного вельможи ответил принц.
— Так вот, монсеньер, госпожа де Ламотт ответила единственным словом: "Подождите!"
— Письменно?
— Нет, монсеньер, устно. В нашем письме мы просили госпожу де Ламотт испросить нам аудиенцию у вас и предупредить королеву, что срок платежа приближается.
— Слово "подождите" было вполне естественным, — заметил кардинал.
— Поэтому мы и стали ждать, монсеньер, и вчера вечером получили письмо от королевы через весьма таинственного посланного.
— Письмо? Вам, Бёмер?
— Или скорее, расписку по всей форме, монсеньер.
— Покажите мне ее, — сказал кардинал.
— О, я показал бы ее вам, если бы мы, мой компаньон и я, не дали друг другу клятвенного обещания никому ее не показывать.
— Почему же?
— Потому что эта скромность вменена нам в обязанность самой королевой, монсеньер: поймите, ее величество просит нас хранить это в тайне.
— Это дело другое. На вашу долю, господа ювелиры, выпало большое счастье: получать письма от королевы.
— За миллион триста пятьдесят тысяч ливров, монсеньер, — посмеиваясь, сказал ювелир, — можно получить и…
— Некоторые вещи, сударь, не оплатить ни десятью, ни ста миллионами, — сурово возразил прелат. — Итак, вы получили гарантию?
— Насколько это возможно, монсеньер.
— Королева признает долг?
— Вполне и по всей форме.
— И обязуется уплатить…
— Через три месяца пятьсот тысяч ливров; остальное в течение полугодия.
— А… проценты?
— О, монсеньер, они обеспечены нам одной фразой ее величества: "Пусть это дело останется между нами", — милостиво пишет ее величество. "Между нами"; ваше высокопреосвященство несомненно понимает такую просьбу? "Вы не раскаетесь в этом". И ее подпись! Отныне, вы видите, монсеньер, это дело становится для меня и для моего компаньона делом чести.
— Теперь я в расчете с вами, господин Бёмер, — сказал обрадованный кардинал. — Надеюсь вскоре вновь иметь с вами дело.
— Как только монсеньер соблаговолит почтить нас своим доверием.
— Но не забывайте, что милая графиня приложила руку к этому делу…
— Мы весьма признательны госпоже де Ламотт, монсеньер, и господин Боссанж и я, мы уже условились отблагодарить ее за доброту, когда полная стоимость ожерелья будет уплачена нам наличными деньгами.
— Замолчите, замолчите! — воскликнул кардинал. — Вы меня не поняли.
И он сел в карету, сопровождаемый выражениями почтения всего дома.
Теперь можно сбросить маску. Ни для кого из читателей уже не осталось покрывала на статуе Тайны. Умысел Жанны де Ламотт против своей благодетельницы понял каждый, видя, что она прибегла к перу памфлетиста Рето де Билета. Нет больше беспокойства у ювелиров, нет больше сомнений у королевы, нет больше подозрений у кардинала. Три месяца отпущены на совершение кражи и преступления; за эти три месяца зловещие плоды достаточно созреют, чтобы злодейская рука сорвала их.
Жанна возвратилась к г-ну де Рогану, который спросил ее, как удалось королеве настолько смягчить требования ювелиров.
Госпожа де Ламотт отвечала, что королева посвятила ювелиров в свои частные дела, обязав их хранить тайну; что королева должна избегать огласки, даже когда расплачивается за что-нибудь, тем более когда она просит открыть ей кредит.
Кардинал признал, что она права, и тут же спросил, помнит ли еще королева о его благих намерениях.
Жанна в таких ярких красках изобразила ему признательность королевы, что г-н де Роган пришел в восторг, польщенный скорее в своих чувствах поклонника, чем верноподданного, польщенный скорее в своей гордости, чем в своей преданности.
Придав разговору нужный оборот, Жанна затем решила мирно вернуться домой, вступить в переговоры с каким-нибудь торговцем драгоценностями, продать бриллиантов на сто тысяч экю и уехать в Англию или Россию — свободные страны, где она могла бы на эту сумму жить богато в течение пяти или шести лет; после этого, не опасаясь преследований, она начала бы выгодно продавать в розницу оставшиеся камни.
Но не все вышло по ее желанию. В первый же раз, как она показала бриллианты двум знатокам камней, удивление и сдержанность этих аргусов испугали графиню. Один предлагал ничтожную сумму, а другой слишком восторгался камнями, говоря, что он никогда не видал подобных бриллиантов, кроме как в ожерелье Бёмера.
Жанна задумалась. Еще один шаг, и она выдаст себя. Она поняла, что в подобном случае неосторожность означала крушение, а крушение — позорный столб и пожизненную тюрьму. Спрятав бриллианты в самый глубокий из своих тайников, она решила запастись таким верным орудием для обороны, таким грозным оружием для нападения, чтобы в случае войны ее противники были повержены, даже не вступив в бой.
Лавировать между желанием кардинала все знать, с одной стороны, и откровенностью королевы, которая всегда гордилась бы тем, что отказалась от ожерелья, — с другой, представляло страшную опасность. Стоило королеве и кардиналу обменяться двумя словами — и все бы раскрылось. Жанна успокаивала себя мыслью, что у кардинала, влюбленного в королеву, была, как и у всех влюбленных, повязка на глазах, и, следовательно, он непременно попадет во все ловушки, которые расставит ему хитрость под видом любви.
Но такую ловушку надо было поставить искусной рукой, чтобы захватить в нее обе заинтересованные стороны. Нужно было устроить так, что, если бы королева раскрыла кражу, она не посмела бы жаловаться, а если бы кардинал открыл обман, то почувствовал бы себя погибшим. Надо было направить удар против двух противников, на стороне которых уже заранее были симпатии зрительного зала.
Жанна не отступила. Она принадлежала к числу тех неустрашимых натур, которые в своих злодеяниях доходят до героизма и самое добро могут обратить во зло. Отныне она исключительно была занята одной мыслью: как помешать встрече королевы с кардиналом.
Пока она, Жанна, будет между ними — ничто не потеряно; если же за ее спиной они обменяются хотя бы одним словом, оно погубит благоденствие ее будущего, основанное на безгрешности ее прошлого.
— Они больше не увидятся, — сказала она. — Никогда.
"Однако, — возражала она себе, — кардинал захочет увидеться с королевой, станет делать к тому попытки.
Не будем дожидаться этого, — думала хитрая графиня, — внушим ему эту мысль. Он должен пожелать ее увидеть… Пусть попросит ее принадлежать ему, пусть скомпрометирует себя этой просьбой.
Да, но если скомпрометирован будет только он один?"
Мысль эта возбуждала в ней мучительную растерянность.
Если будет скомпрометирован он один, то у королевы останется выход: ведь ее голос звучит так громко, она так прекрасно умеет срывать личину с обманщиков!
Что делать? Чтобы королева не могла обвинять, надо устроить так, чтобы она не смела открыть рта; чтобы закрыть эти смелые и благородные уста, надо замкнуть их обвинением.
Не смеет обвинять перед судом своего слугу в краже тот, кто может быть уличен этим же слугой в преступлении, столь же порочащем, как и кража. Пусть только г-н де Роган будет скомпрометирован в глазах королевы, и можно почти наверное поручиться, что и королева будет скомпрометирована в глазах г-на де Рогана. Лишь бы случайность не свела вместе эти два лица, заинтересованные в том, чтобы раскрылась истина.
Сначала Жанна отступила было перед громадностью скалы, которую сама воздвигала над своей головой. Жить с замирающим в груди дыханием, в вечном страхе, ожидая, что скала обрушится! Да, но как избегнуть этого ужаса? Бежать, скрыться в изгнании, увезти в чужие страны бриллианты ожерелья королевы?
Бежать! Это легко. Хороший экипаж доедет за десять часов — время, нужное Марии Антуанетте, чтобы хорошенько выспаться; промежуток, отделяющий ужин кардинала с друзьями от его утреннего пробуждения. Лишь бы раскинулась перед Жанной широкая дорога, лишь бы помчались по ней в бесконечную даль горячие лошади — больше ничего не нужно. Десять часов — и Жанна будет свободной, здоровой, спасенной.
Но какой скандал! Какое бесчестье! Сбежавшая, хотя свободная; в безопасности, хотя изгнанная, — Жанна уже не знатная дама, а воровка, осужденная заочно; правосудие не настигло ее, но обличило; железо палача не выжгло на ней клейма, но общественное мнение треплет и уничтожает ее.
Нет. Она не убежит. Высшая дерзость и высшая ловкость подобны двум вершинам Атласа, похожим на близнецов. Одна ведет к другой, одна стоит другой. Кто видит одну, видит и другую.
Жанна решила выбрать дерзость и остаться. Это решение особенно окрепло в ней, когда она увидела возможность создать угрозу как для королевы, так и для кардинала на тот случай, если бы тому или другому вздумалось заметить, что в их тесном кругу была совершена кража.
Жанна задала себе вопрос: сколько могут принести ей за два года милость королевы и любовь кардинала? И оценила доход от этих двух удач в пятьсот или шестьсот тысяч ливров; а затем на смену милостям, известности и расположению придут отвращение, опала и забвение.
"На моем плане я выиграю семьсот-восемьсот тысяч ливров", — сказала себе графиня.
Мы увидим далее, как эта непостижимая душа проложила извилистый путь, который должен был провести ее к позору, а других к отчаянию.
Остаться в Париже, подвела итог графиня, и держаться стойко, помогая игре обоих актеров; заставлять их играть лишь те роли, которые полезны для ее интересов; выбрать среди удачных моментов наиболее благоприятный для бегства, будь то какое-нибудь поручение королевы, будь то подлинная немилость, которой надо будет немедленно воспользоваться.
Помешать кардиналу когда-либо увидеться с Марией Антуанеттой.
В этом-то особенная трудность: ведь г-н де Роган влюблен, он принц, он имеет право являться к ее величеству много раз в году; а королева кокетлива, жаждет поклонения и к тому же признательна кардиналу; она не станет уклоняться от встречи, если тот будет ее искать.
Средство разъединить две высокие особы дадут обстоятельства. Помочь этим обстоятельствам.
Самым удачным и ловким было бы возбудить в королеве гордость — этот венец целомудрия. Нет никакого сомнения, что несколько пылкая попытка кардинала оскорбит чуткую и обидчивую женщину. Такие натуры, как королева, любят поклонение, но боятся энергичного нападения и всегда отвергают его.
Да, это средство верное. Посоветовав г-ну де Рогану свободно объясниться в любви, вызвать в Марии Антуанетте отвращение, антипатию, которые навсегда отдалят не принца от принцессы, но мужчину от женщины, самца от самки. Таким способом приобрести оружие против кардинала и парализовать все его маневры в великий день начала военных действий.
Пусть так. Но еще раз: вызвать у королевы отвращение к кардиналу — значит нанести удар только по кардиналу; это значит предоставить добродетели королевы сиять по-прежнему, то есть отпустить на волю эту принцессу, предоставить ей ту свободу высказываний, которая облегчает любое обвинение, подкрепляя его весомостью власти.
Что нужно — так это улику против г-на де Рогана и против королевы; нужен обоюдоострый меч, разящий направо и налево; разящий, едва его выхватят из ножен; разящий, рассекая сами ножны.
Что нужно — так это обвинение, которое заставило бы побледнеть королеву, которое заставило бы покраснеть кардинала; обвинение, которое, распространившись, оградило бы от чьих угодно подозрений Жанну, наперсницу двух главных виновников.
Что нужно — так это комбинацию, под защитой которой Жанна могла бы при случае сказать: "Не обвиняйте меня, или я обвиню вас; не губите меня, или я погублю вас. Сохраните мне мое богатство — я сохраню вам честь".
"Да, тут стоит постараться, — подумала коварная графиня, — и я постараюсь. Мое время отныне оплачено".
И в самом деле, г-жа де Ламотт зарылась в мягкие подушки, подвинулась ближе к окну, нагретому ласковым солнцем, и перед лицом Бога и его светила углубилась в размышления.
Назад: XXVI БУМАЖНИК КОРОЛЕВЫ
Дальше: V ПЛЕННИЦА

