Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 20. Ожерелье королевы
Назад: XIII ПРИНЦЕССА ДЕ ЛАМБАЛЬ
Дальше: XXVI БУМАЖНИК КОРОЛЕВЫ
XVII
ИСКУСИТЕЛЬНИЦА
Госпожа де Ламотт вновь заняла свой пост; она держалась в сторонке как женщина скромная, но напрягла внимание как женщина, которой позволили остаться и слушать.
Господа Бёмер и Боссанж явились на аудиенцию в парадных платьях. Они вошли, отвешивая на ходу низкие поклоны, пока не приблизились к креслу Марии Антуанетты.
— Ювелиры, — прервала молчание королева, — являются только затем, чтобы говорить о драгоценностях. Но вы попадаете в неудачное время.
Заговорил г-н Бёмер: оратором в товариществе был он.
— Мадам, — сказал он, — мы явились вовсе не для того, чтобы предлагать товары вашему величеству: мы опасались быть неделикатными.
— О, — воскликнула королева, уже раскаиваясь, что проявила слишком большое мужество, — ведь посмотреть на драгоценности еще не значит купить их.
— Конечно, ваше величество, — отвечал Бёмер, стараясь уловить ее мысль. — Но мы явились сюда исполнить долг, и это придало нам смелости.
— Долг… — повторила с удивлением королева.
— Речь идет опять о том прекрасном бриллиантовом ожерелье, которое ваше величество не удостоили взять.
— А, об ожерелье… Опять мы к нему возвращаемся! — воскликнула со смехом королева.
Но Бёмер остался серьезным.
— Оно действительно великолепно, господин Бёмер, — продолжала королева.
— Настолько великолепно, — робко заметил Боссанж, — что только ваше величество достойны носить его.
— Меня утешает одно, — сказала Мария Антуанетта с легким вздохом, не укрывшимся от г-жи де Ламотт, — что оно стоило… полтора миллиона, не правда ли, господин Бёмер?
— Да, ваше величество.
— И что в наше прекрасное время, — продолжала королева, — когда сердца народов охладели, как и Божье солнце, нет ни одного государя, который мог бы купить бриллиантовое ожерелье ценой в полтора миллиона ливров.
— Полтора миллиона ливров! — как верное эхо повторила г-жа де Ламотт.
— Поэтому, господа, того, что я не могла и не должна была купить, не получит никто… Вы мне ответите, что все камни его в отдельности очень хороши. Это правда; но я не стану завидовать никому из-за двух-трех бриллиантов, я могла бы позавидовать из-за шестидесяти.
Королева потирала руки с некоторым удовольствием, к которому примешивалось желание немного подразнить господ Бёмера и Боссанжа.
— Именно в этом ваше величество заблуждается, — сказал Бёмер, — и нас привел сюда долг, обязывающий сообщить вашему величеству, что ожерелье продано.
— Продано! — воскликнула, оборачиваясь, королева.
— Продано! — повторила г-жа де Ламотт, которой быстрое движение ее покровительницы внушило некоторое сомнение в искренности самоотречения королевы.
— Кому же? — спросила королева.
— Ваше величество, это государственная тайна.
— Государственная тайна? Ну, нам остается только посмеяться над ней, — весело воскликнула Мария Антуанетта. — Часто то, о чем не говорят, — это то, о чем нечего сказать, не правда, Бёмер?
— Ваше величество…
— О, государственными тайнами нас не удивишь. Берегитесь, Бёмер, если вы не поведаете мне своей тайны, то я заставлю какого-нибудь агента господина де Крона похитить ее у вас.
И она принялась смеяться от души, откровенно выразив свое мнение относительно мнимой тайны, не позволяющей Бёмеру и Боссанжу открыть имя покупателей ожерелья.
— С вашим величеством, — важно сказал Бёмер, — мы не смеем поступать как с обыкновенными клиентами. Мы явились сказать вашему величеству, что ожерелье продано, потому что оно действительно продано; и мы принуждены утаить имя покупателя, потому что покупка в самом деле совершена секретно при посредстве прибывшего инкогнито посла.
Услышав слово "посол", королева снова разразилась смехом.
— Восхитительнее всего в Бёмере то, — сказала она, повернувшись к г-же де Ламотт, — что он сам способен поверить тому, что сейчас сказал мне. Ну, Бёмер, назовите мне хотя бы страну, откуда явился этот посол? Нет, это уж слишком, — смеясь, продолжала она, — скажите мне первую букву ее названия, больше мне ничего не надо.
И она продолжала неудержимо хохотать.
— Это господин посол Португалии, — сказал Бёмер, понизив голос словно для того, чтобы спасти этот секрет, по крайней мере, от ушей г-жи де Ламотт.
При этом точном и определенном указании королева сразу перестала смеяться.
— Португальский посол! — повторила она. — Но у нас нет здесь такого, Бёмер.
— Он специально приехал, ваше величество.
— К вам… инкогнито?
— Да, ваше величество.
— Кто же?
— Господин да Суза.
Королева молчала, покачивая головой; через несколько мгновений она сказала, по-видимому приняв решение:
— Ну что же, тем лучше для ее величества португальской королевы; бриллианты очень хороши. Не будем больше говорить об этом.
— Напротив, если ваше величество соблаговолит позволить мне говорить… Позволит нам… — поправился Бёмер, взглянув на своего компаньона.
Боссанж поклонился.
— Вы не видели эти бриллианты, графиня? — воскликнула королева, взглянув на Жанну.
— Нет, ваше величество.
— Великолепные бриллианты!.. Жаль, что эти господа не принесли их.
— Вот они, — поспешно произнес Боссанж.
И он вынул из недр шляпы, которую держал под мышкой, маленький плоский футляр, в котором лежало ожерелье.
— Посмотрите, посмотрите, графиня… Вы женщина, вас это развлечет, — сказала королева.
И она немного отодвинулась от севрского столика, на который Бёмер положил камни так искусно, что дневной свет, падая на них, заиграл на их гранях еще ярче.
Жанна вскрикнула от восхищения. И действительно, ничто не могло быть великолепнее: перед ней сверкали как бы огненные языки, то зеленые, то красные, то подобные самому свету. Бёмер слегка покачивал футляр, заставляя струиться самые прекрасные из этих текучих огней.
— Бесподобно! Бесподобно! — воскликнула Жанна, вся во власти исступленного восторга.
— Полтора миллиона ливров, которые могут поместиться на ладони, — произнесла королева с напускным философским спокойствием, какое г-н Руссо из Женевы проявил бы в подобных обстоятельствах.
Но Жанна увидела в этом пренебрежении нечто другое, так как не теряла надежды убедить королеву.
— Господин ювелир был прав, — сказала она, вдоволь налюбовавшись бриллиантами, — на свете есть только одна королева, достойная носить это ожерелье: это ваше величество.
— И тем не менее мое величество не будет его носить, — ответила Мария Антуанетта.
— Мы не могли позволить ему уйти из Франции, ваше величество, не повергнув к вашим стопам наше глубокое сожаление. Это драгоценность, которую знает теперь вся Европа и которую все оспаривают друг у друга. Наша национальная гордость смирится с тем, что после отказа от него французской королевы им украсит себя та или иная государыня, только в том случае, если мы получим от вас, ваше величество, вторичный, окончательный, бесповоротный отказ.
— Я уже раз произнесла этот отказ, и он был предан гласности, — отвечала королева. — Меня слишком превозносили за это, чтобы я могла раскаиваться в своем поступке.
— Ваше величество, — сказал Бёмер, — если народ нашел прекрасным, что вы предпочли корабль ожерелью, дворянство — а ведь это также французы — ничего не нашло бы удивительного в том, что французская королева купила и ожерелье и корабль.
— Не будем больше говорить об этом, — сказала Мария Антуанетта, бросая последний взгляд на футляр.
Жанна вздохнула, чтобы поддержать вздох королевы.
— А, вы вздыхаете, графиня. Но будь вы на моем месте, вы поступили бы как я.
— Не знаю, — прошептала Жанна.
— Вы довольно налюбовались? — поспешно спросила королева.
— Я любовалась бы вечно, ваше величество.
— Не мешайте этой любопытной, господа: она восхищается. Ведь это ничего не отнимает у бриллиантов, которые, к несчастью, стоят по-прежнему полтора миллиона ливров.
Эти слова подсказали графине, что представился удобный случай.
Королева жалеет, значит, ей хотелось купить ожерелье. А если ей хотелось этого, значит, хочется и теперь, так как желание ее не было осуществлено. Такова была, вероятно, логика Жанны, так как она добавила:
— Полтора миллиона ливров, ваше величество, которые на вашей шее заставили бы умереть от зависти каждую женщину, будь она Клеопатрой или Венерой.
И, выхватив из футляра великолепное ожерелье, она так ловко, так искусно застегнула его на атласной нежной шее Марии Антуанетты, что последняя мгновенно оказалась охваченной фосфорическим пламенем, отливавшим всеми цветами.
— О, ваше величество, как вы великолепны! — воскликнула Жанна.
Мария Антуанетта поспешно подошла к зеркалу: она была ослепительна.
Ее тонкая, гибкая, как у Джейн Грей, шея, эта нежная, изящная, как стебель лилии, шея, которой, как и цветку у Вергилия, было предназначено пасть под ножом, грациозно поднималась, обрамленная золотистыми завитыми локонами, над светящимся потоком бриллиантов.
Жанна осмелилась приоткрыть плечи королевы, так что последние ряды ожерелья легли на перламутр груди. Королева была лучезарна, женщина была великолепна. Влюбленные или подданные — все поверглись бы перед ней в прах.
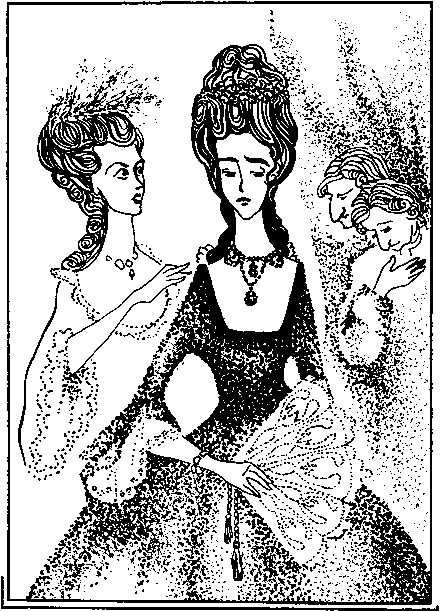
Мария Антуанетта, забывшись, с минуту любовалась собой. Но тотчас же, охваченная испугом, хотела сорвать ожерелье с своих плеч.
— Довольно, — сказала она, — довольно!
— Оно коснулось вашего величества, — воскликнул Бёмер, — и теперь не может более принадлежать никому другому.
— Это невозможно, — решительно сказала королева. — Господа, я немного поиграла с этими бриллиантами, но продолжать игру было бы уже ошибкой.
— У вашего величества есть время, чтобы свыкнуться с этой мыслью, — вкрадчиво заметил Бёмер, — мы вернемся завтра.
— Платить позже — все равно платить. И затем, к чему это делать с отсрочкой? Вы, наверное, торопитесь. Вам, без сомнения, другие заплатят на более выгодных условиях.
— Да, ваше величество, наличными, — ответил торговец, снова становясь торговцем.
— Уберите, уберите! — воскликнула королева. — Спрячьте в футляр бриллианты. Скорее, скорее!
— Ваше величество, может быть, забывает, что такая драгоценность — деньги и что через сто лет это ожерелье будет стоить то же, что и теперь.
— Дайте мне полтора миллиона ливров, графиня, — натянуто улыбаясь, сказала королева, — тогда мы посмотрим.
— Если бы я их имела, о!..
Жанна замолчала. Длинные фразы всегда стоят меньше удачной недомолвки.
Тщетно Бёмер и Боссанж целых четверть часа упаковывали и запирали свои бриллианты: королева не шелохнулась.
По ее напускному спокойствию и молчанию видно было, что впечатление было сильным и она выдерживает мучительную борьбу.
По своему обыкновению, королева, как всегда в минуты досады, протянула руку к книге и перелистала несколько страниц, не читая.
Ювелиры откланялись со словами:
— Ваше величество отказывается?
— Да… и да, — вздохнула королева, причем на этот раз во всеуслышание.
Ювелиры вышли.
Жанна заметила, что Мария Антуанетта нервно постукивает ногой по бархатной подушке, оставляя на ней вдавленный след.
"Она страдает!" — подумала графиня, не двигаясь с места.
Королева внезапно встала, прошлась по комнате и остановилась перед Жанной, взгляд которой притягивал ее.
— Графиня, — отрывистым тоном сказала она, — король, по-видимому, не придет. Наша маленькая просьба откладывается до следующей аудиенции.
Жанна почтительно поклонилась и стала пятиться к двери.
— Но я подумаю о вас, — милостиво добавила королева.
Жанна прижалась губами к ее руке, будто вручая королеве свое сердце, и вышла, оставив Марию Антуанетту во власти досады и смятения.
"Досада от своего бессилия, смятение от желания! — сказала себе Жанна. — И это королева! О нет, она женщина!"
И графиня удалилась.
XVIII
ЧЕСТОЛЮБИЕ, ЧТО ХОЧЕТ ПРОСЛЫТЬ ЛЮБОВЬЮ
Жанна также была женщиной, хотя не была королевой.
Вследствие этого обстоятельства, сев в карету, она сразу стала сравнивать прекрасный Версальский дворец, его богатую, пышную обстановку со своим пятым этажом на улице Сен-Клод, а великолепных лакеев — со своей старой служанкой.
Но почти тотчас же убогая мансарда и старуха-служанка скрылись в тени минувшего, подобно одному из тех видений, что исчезают, словно никогда не существовали; и Жанна увидела свой маленький домик в Сент-Антуанском предместье, такой изысканный, изящный, такой комфортабельный, как сказали бы в наше время, с лакеями хоть не в таких расшитых ливреях, как у версальских слуг, но столь же почтительными и исполнительными.
Этот дом и эти лакеи были ее Версалем; она была там королевой не меньше, чем Мария Антуанетта, и ее желания (при единственном условии — уметь ограничивать их рамками пусть не необходимого, а разумного), исполнялись так же хорошо и быстро, как если бы она держала скипетр.
Жанна вернулась к себе поэтому с сияющим лицом и улыбкой на устах. Было еще довольно рано; она взяла бумагу, перо и чернила, написала несколько строк, вложила листок в тонкий надушенный конверт, надписала адрес и позвонила.
Еще последняя волна звука не успела замереть, как дверь открылась и на пороге показался лакей, молча ожидая приказаний.
— Я была права! — прошептала Жанна, — самой королеве не служат лучше. Это письмо монсеньеру кардиналу де Рогану, — сказала она, протягивая руку.
Лакей подошел, взял письмо и вышел, не проронив ни слова, с тем безмолвным повиновением, какое подобает слуге в хорошем доме.
Графиня погрузилась в глубокую задумчивость, которая не явилась только что, а была продолжением ее размышлений во время пути.
Не прошло и пяти минут, как в дверь легко постучали.
— Войдите, — сказала госпожа де Ламотт.
На пороге появился тот же лакей.
— Ну что? — спросила г-жа де Ламотт с легким нетерпеливым жестом, видя, что ее приказание не исполнено.
— В ту минуту как я выходил из дому, чтобы исполнить приказание госпожи графини, — сказал лакей, — монсеньер подъехал к воротам. Я сказал, что шел к нему. Он взял письмо графини, прочел его и вышел из кареты, сказав: "Хорошо; доложите обо мне!"
— А затем?
— Монсеньер здесь, он ожидает, когда госпоже угодно будет принять его.
Легкая улыбка мелькнула на губах графини. Она помедлила с ответом.
— Попросите войти, — сказала она через несколько секунд с явным удовлетворением.
Для чего ей были нужны эти несколько секунд? Для того, чтобы заставить князя Церкви ждать в передней, или для того, чтобы обдумать до конца свой план?
Принц показался на пороге.
Итак, вернувшись к себе, послав за кардиналом, почувствовав такую сильную радость при известии, что кардинал приехал к ней, Жанна действовала по заранее обдуманному плану?
Да, ибо прихоть королевы, подобная одному из тех блуждающих огоньков, которые озаряют целую долину во время мрачных событий, эта прихоть королевы и прежде всего женщины, обнажила перед взорами интриганки-графини все тайные изгибы души Марии Антуанетты — души, слишком гордой к тому же, чтобы принимать большие предосторожности из опасения быть разгаданной.
Из Версаля в Париж путь долгий, и когда его совершаешь в обществе демона алчности, то у него хватит времени на то, чтобы нашептать вам на ухо самые смелые расчеты.
Жанну совершенно опьянила эта цифра в полтора миллиона ливров, расцветшая в бриллиантах, покоившихся на белом атласе футляра господ Бёмера и Боссанжа.
Полтора миллиона ливров! Разве это не княжеское богатство, особенно для бедной нищенки, которая всего месяц тому назад протягивала руку к великим мира сего за подаянием?
Конечно, Жанну де Валуа с улицы Сен-Клод от Жанны де Валуа Сент-Антуанского предместья отделяло большее расстояние, чем Жанну де Валуа Сент-Антуанского предместья от Жанны де Валуа, обладательницы ожерелья.
Следовательно, она прошла уже больше половины пути, ведущего к богатству.
И это богатство, которого так страстно желала Жанна, было не иллюзией наподобие слова в контракте или владения землей: это вещи, конечно, первостепенные, но чтобы ощутить их, требуется дополнительное усилие умственных способностей или зрения.
Нет, это ожерелье было совсем не то, что контракт или земля: это ожерелье было зримым богатством. Поэтому-то оно неотступно стояло перед ней, сверкая огнями и чаруя ее. Если королева желала его, то Жанне де Валуа позволительно было помечтать о нем; если королева смогла отказаться от него, то г-жа де Ламотт могла ограничить свое честолюбие им одним.
Поэтому тысяча бессвязных мыслей, тех причудливых призраков с туманными контурами, которые, по словам Аристофана, уподобляются людям в минуты страстей, тысяча желаний, тысяча нестерпимых мук, рожденных стремлением владеть, терзали Жанну во время этой дороги из Версаля в Париж подобно волкам, лисицам и крылатым змеям.
Кардинал, который должен был привести эти мечты в исполнение, прервал их, ответив своим неожиданным появлением на желание г-жи де Ламотт видеть его.
У него также были свои мечты и свое честолюбие, которое он таил под маской предупредительности, под видом любви.
— А, милая Жанна, — сказал он, — вот и вы. Вы, право, стали мне так необходимы, что для меня весь день был омрачен мыслью, что вы далеко от меня. Вернулись ли вы, по крайней мере, совершенно здоровой из Версаля?
— Как видите, монсеньер.
— И довольной?
— В восторге.
— Значит, королева приняла вас?
— Как только я приехала, меня провели к ней.
— Вам повезло. Бьюсь об заклад, судя по вашему торжествующему виду, что королева говорила с вами.
— Я провела около трех часов в кабинете ее величества.
Кардинал вздрогнул и едва удержался, чтобы не повторить вслед за Жанной с таким пафосом, как она: "Около трех часов!"
— Вы положительно волшебница, — сказал он, — и никто не может устоять против вас.
— О, вы преувеличиваете, принц.
— Нет, нисколько. Так вы говорите, что провели три часа с королевой?
Жанна утвердительно кивнула головой.
— Три часа! — с улыбкой повторил кардинал. — Сколько всего может сказать за три часа умная женщина, как вы!
— О, ручаюсь вам, монсеньер, что не потеряла времени даром.
— Держу пари, — отважился спросить кардинал, — что за эти три часа вы ни одной минуты не думали обо мне?
— Неблагодарный!
— Неужели! — воскликнул кардинал.
— Я не только думала о вас, но сделала еще больше.
— Что же именно?
— Я говорила о вас.
— Говорили обо мне? Кому же? — спросил прелат с бьющимся сердцем. В голосе его, несмотря на все его самообладание, послышалось волнение.
— Кому же, как не королеве!
И, произнося столь драгоценные для кардинала слова, Жанна было настолько умна, что не смотрела на него, точно ее мало заботил эффект, который должны были они вызвать.
Господин де Роган весь затрепетал.
— А! — сказал он. — Ну же, дорогая графиня, расскажите мне об этом. Право, я интересуюсь всем, что происходит с вами, и не хочу, чтобы вы опускали даже малейшую подробность.
Жанна улыбнулась: она так же хорошо знала, что интересует кардинала, как и он сам.
Но так как она заранее приготовила в уме подробнейший рассказ и сама приступила бы к нему, если даже кардинал не просил бы ее об этом, то начала не торопясь, растягивая каждое слово; она рассказала все о свидании и разговоре, доказывая каждым своим словом, что по одной из тех счастливых случайностей, которые создают придворную карьеру, она попала в Версаль при таких исключительных обстоятельствах, когда посторонняя особа обращается за один день в почти необходимую приятельницу. Действительно, в один день Жанна де Ламотт оказалась посвященной во все горести королевы, во все бессилие королевского сана.
Господин де Роган, казалось, запоминал во всем рассказе только то, что королева говорила по адресу Жанны.
А Жанна исключительно упирала на то, что королева сказала по адресу г-на де Рогана.
Рассказ только что был окончен, когда вошел все тот же лакей и доложил, что ужин подан.
Жанна взглядом пригласила кардинала; тот знаком принял приглашение.
Он предложил руку хозяйке дома, весьма быстро освоившейся со своим положением, и провел Жанну в столовую.
Когда ужин был завершен, когда прелат медленными глотками отведал надежду и любовь из двадцать раз возобновляемых и двадцать раз прерываемых рассказов обольстительницы, он понял, что ему придется поневоле считаться с этой женщиной, державшей теперь в своих руках сердца сильных мира сего.
Он с изумлением, похожим на испуг, заметил, что, вместо того чтобы держаться с самомнением особы, в ком нуждаются и перед кем заискивают, Жанна сама шла навстречу желаниям своего собеседника с обходительностью, весьма отличной от облика гордой львицы, в котором она явилась на последнем ужине на том же месте и в том же доме.
На этот раз Жанна играла роль хозяйки как женщина, не только вполне владеющая собой, но и имеющая власть над другими. Никакого замешательства во взгляде, никакой сдержанности в голосе. Разве не вращалась она целый день в обществе цвета французской знати, которая могла преподать ей высшую школу аристократизма; разве королева, не имевшая себе равных, не звала ее "милая графиня"?
Кардинал, сам человек выдающийся, подчинился ее превосходству, даже не пытаясь сопротивляться.
— Графиня, — сказал он, взяв ее руку, — в вас две женщины.
— Как так? — спросила графиня.
— Вчерашняя и сегодняшняя.
— И какую же предпочитает ваше высокопреосвященство?
— Не знаю. Но сегодняшняя — это Армида, Цирцея, женщина, которой нельзя сопротивляться.
— И которой вы, монсеньер, надеюсь, не будете пытаться сопротивляться, хоть вы и принц?
Принц, соскользнув со стула, упал к ногам г-жи де Ламотт.
— Вы просите милостыни? — спросила она.
— И жду, чтобы вы подали мне ее.
— Сегодня день щедрот, — ответила Жанна, — графиня де Валуа заняла подобающее ей положение в обществе, она стала придворной дамой; в скором времени она будет считаться одной из самых благородных женщин в Версале. Поэтому она может разжать руку и протянуть ее кому ей заблагорассудится.
— Хотя бы и принцу? — спросил г-н де Роган.
— Хотя бы и кардиналу, — отвечала Жанна.
Кардинал запечатлел долгий и страстный поцелуй на ее хорошенькой капризной ручке и затем встал, чтобы найти ответ на свой немой вопрос во взгляде и улыбке графини. Пройдя в переднюю, он сказал два слова своему скороходу.
Через две минуты послышался стук отъезжавшей кареты.
Графиня подняла голову.
— Клянусь честью, графиня, — сказал кардинал, — я сжег свои корабли.
— И в этом нет большой заслуги, — отвечала графиня, — так как вы в гавани.
XIX
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ИЗ-ПОД МАСОК НАЧИНАЮТ ПОЯВЛЯТЬСЯ ЛИЦА
Продолжительные беседы составляют счастливую привилегию людей, которым нечего сказать друг другу. После счастья молчать или выражать желание междометием, бесспорно, самое большое счастье — долго разговаривать без слов.
Через два часа после того, как карета была отослана, кардинал и графиня дошли именно до той точки, о которой мы говорим. Графиня уступила, кардинал победил; однако кардинал был рабом, а триумфатором была графиня.
Двое мужчин обманывают друг друга, обмениваясь рукопожатием. Мужчина и женщина обманывают друг друга, обмениваясь поцелуем.
Но в данном случае обман произошел только потому, что обе стороны желали быть обманутыми.
Каждый имел свою цель. Чтобы достичь ее, необходимо было сближение. Таким образом каждый достигал своей цели.
Поэтому кардинал даже не трудился скрывать своего нетерпения. Он ограничился маленькой уловкой, чтобы снова перевести разговор на Версаль и на почести, ожидавшие там новую любимицу королевы.
— Она щедра, — сказал он, — и ни за чем не постоит для тех, кого любит. У нее есть редкое умение давать немного многим и давать много немногим друзьям.
— Вы, значит, считаете ее богатой? — спросила г-жа Ламотт.
— Она умеет изыскивать себе средства одним словом, жестом, улыбкой. Никогда ни один министр, кроме разве одного Тюрго, не имел мужества отказать королеве в том, что она просила.
— Ну, а я, — сказала г-жа де Ламотт, — вижу, что она менее богата, чем вы думаете, эта бедная королева, или, вернее, бедная женщина!
— Почему так?
— Разве человек может называться богатым, если ему приходится подвергать себя лишениям?
— Лишениям! Расскажите, в чем дело, милая Жанна.
— О Боже мой, я вам передам только то, что видела, ни больше ни меньше.
— Говорите, я вас слушаю.
— Вообразите себе два ужасных мучения, которые пришлось вынести этой несчастной королеве.
— Два мучения? Какие же?
— Знаете ли вы, что такое женское желание, милый принц?
— Нет, не знаю, но очень хотел бы, чтобы вы обучили меня, графиня.
— Так вот, у королевы есть одно желание, которое она не может удовлетворить.
— Желание кого-то?
— Нет, чего-то.
— Какое же?
— Бриллиантовое ожерелье.
— Подождите-ка, я знаю. Не хотите ли вы сказать о бриллиантах Бёмера и Боссанжа?
— Вот именно.
— О, это старая история, графиня.
— Стара она или нова, но скажите, разве не приводит королеву в настоящее отчаяние невозможность владеть тем, что едва не досталось простой фаворитке? Проживи Людовик XV еще две недели, и Жанна Вобернье получила бы то, чего не может иметь Мария Антуанетта.
— Вот в этом вы ошибаетесь, милая графиня: королева имела уже пять или шесть случаев получить эти бриллианты и всякий раз отказывалась от них.
— О!
— Я же говорю вам, что король предлагал ей бриллианты и она отказалась принять их из рук самого короля.
И кардинал рассказал ей историю про корабль.
Жанна с жадностью выслушала ее.
— Ну и что же из этого? — спросила она, когда кардинал кончил.
— Как что из этого?
— Ну да, что это доказывает?
— Что она не пожелала ожерелья, так мне кажется.
Жанна пожала плечами.
— Вы знаете женщин, вы знаете двор, вы знаете королей и даете провести себя таким образом?
— Но я просто свидетельствую отказ.
— Мой дорогой принц, это свидетельство только одного: королеве надо было произнести блестящее, приносящее популярность слово, и она сделала это.
— Прекрасно, — сказал кардинал, — вот как вы верите в королевские добродетели! Ах, скептик! Да апостол Фома был верующим по сравнению с вами!
— Пускай я буду скептиком или верующей, но я хочу убедить вас в одном.
— В чем же именно?
— Что королева едва успела отказаться от ожерелья, как ее охватило безумное желание иметь его.
— Вы все это выдумываете, милая моя; прежде всего знайте одно: при всех недостатках у королевы есть неоценимое достоинство.
— Какое же?
— Она бескорыстна! Она не любит ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней. Она ценит минералы по их достоинствам; для нее цветок у корсажа равноценен бриллиантам в ушах.
— Не спорю. Но только в данном случае я утверждаю, что королеве хочется надеть себе на шею несколько бриллиантов.
— О! Докажите, графиня.
— Нет ничего легче: только что я видела это ожерелье.
— Вы?
— Да, и не только видела, но и прикасалась к нему.
— Где?
— Все там же, в Версале.
— В Версале?
— Да, его привозили туда ювелиры, пытаясь в последний раз соблазнить королеву.
— И оно красиво?
— Оно удивительно.
— И вы, как истинная женщина, понимаете, что о нем можно мечтать?
— Я понимаю, что оно может отнять сон и аппетит.
— Увы, почему я не могу подарить королю корабль?
— Корабль?
— Да, тогда он подарил бы мне ожерелье, а получи я его, вы могли бы спать и есть спокойно.
— Вы смеетесь?
— Нет, клянусь вам.
— В таком случае я сейчас скажу вам одну вещь, которая вас очень удивит.
— Скажите.
— Я не хотела бы иметь это ожерелье!
— Тем лучше, графиня, так как я не мог бы подарить вам его.
— Увы, ни вы, ни кто-нибудь другой; это сознает королева, потому-то и желает его.
— Но я повторяю вам, что король предлагал ей его.
Жанна сделала быстрый жест, как бы говоря, что ей надоело это слушать.
— А я, — сказала она, — говорю вам, что женщины особенно ценят такие подарки от тех, кто не заставляет принимать их.
Кардинал внимательнее поглядел на Жанну.
— Я вас не совсем понимаю, — сказал он.
— Тем лучше; прекратим разговор. И прежде всего что вам за дело до этого ожерелья, раз мы не можем его иметь?
— О, будь я королем, а вы королевой, я бы заставил вас принять его!
— Ну вот, не будучи королем, заставьте королеву взять его, и вы увидите, так ли она рассердится на это насилие, как вы думаете!
Кардинал снова посмотрел на Жанну.
— Право, — сказал он, — вы уверены, что не ошибаетесь и что у королевы есть это желание?
— Страстное. Послушайте, милый принц, не говорили ли вы мне — или от кого-то я это слышала, — что вы были бы не прочь стать министром?
— Очень возможно, что я говорил это, графиня.
— В таком случае побьемся об заклад, милый принц…
— Относительно чего?
— Что королева сделает министром того человека, который сумеет повести дело так, чтобы это ожерелье через неделю лежало на ее туалетном столе.
— О, графиня!
— Я знаю, что говорю. Или вы предпочитаете, чтобы я думала про себя?
— О нет, конечно.
— К тому же то, что я говорю, не касается вас. Вполне понятно, что вы не бросите полтора миллиона на удовлетворение прихоти королевы; это значило бы, право, слишком дорого заплатить за портфель, который вы получите даром и на который имеете право. Примите же все сказанное мною за пустую болтовню. Я как попугай: меня ослепил солнечный свет, вот я все и твержу, что мне жарко. Ах, монсеньер, какое это тяжелое испытание для скромной провинциалки пользоваться целый день высочайшей милостью! Надо быть орлом, как вы, чтобы, не опуская глаз, смотреть на это ослепительное солнце.
Кардинал погрузился в раздумье.
— Ну вот, — сказала Жанна, — вы теперь плохо обо мне думаете и находите меня такой жалкой и вульгарной, что даже не удостаиваете говорить со мной.
— Это почему?
— Мое суждение о королеве основано на личном взгляде.
— Графиня!
— Что вы хотите? Мне показалось, что она желает иметь бриллианты, потому что она вздохнула, увидев их… А показалось мне это потому, что, будь я на ее месте, я желала бы иметь их. Простите мне эту слабость.
— Вы очаровательная женщина, графиня… Вы по какому-то странному совпадению одарены слабостью сердца, как вы признались, и вместе с тем силой ума; в иные минуты вы так мало напоминаете женщину, что это страшит меня. В другие же минуты вы бываете так очаровательны, что я благословляю Небо и вас.
И галантный кардинал заключил эту любезность поцелуем.
— Ну перестанем говорить об этом, — сказал он.
"Хорошо, — прошептала про себя Жанна, — но, кажется рыба клюнула".
Сказав только что: "Перестанем говорить об этом" — кардинал между тем первый вернулся к этой же теме.
— Так вы думаете, что Бёмер сделал новую попытку? — спросил он.
— Вместе с Боссанжем, — невинным голосом подтвердила г-жа де Ламотт.
— Боссанжем? Погодите-ка, — сказал кардинал, точно что-то соображая, — кажется, Боссанж — его компаньон?
— Да, такой высокий, худой.
— Вот-вот.
— И живет он…
— Где-то на набережной Железного Лома или на Школьной набережной, право, не знаю… Во всяком случае в окрестностях Нового моста.
— Нового моста, да, вы правы… Я прочла их имена над дверью одного дома, проезжая мимо в карете.
"Ну-ну, — сказала себе Жанна, — рыба клюет все сильнее и сильнее".
Жанна не ошибалась: крючок был проглочен весьма глубоко.
На другой день, выйдя из маленького домика в Сент-Антуанском предместье, кардинал приказал вести себя прямо к Бёмеру. Он рассчитывал остаться неузнанным, но Бёмер и Боссанж были придворными ювелирами и поэтому при первых же произнесенных им словах стали величать его монсеньером.
— Ну да, я монсеньер, — сказал кардинал, — но если вы меня узнали, то примите, по крайней мере, предосторожности, чтобы другие не узнали меня.
— Монсеньер может быть спокоен. Мы ожидаем ваших приказаний, монсеньер.
— Я приехал к вам затем, чтобы купить бриллиантовое ожерелье, которые вы показывали королеве.
— Мы поистине в отчаянии, монсеньер, но вы опоздали.
— Как так?
— Оно продано.
— Этого не может быть, так как еще вчера вы его снова предлагали ее величеству.
— Которая снова отказалась от него, монсеньер, и поэтому прежняя сделка остается в силе.
— А с кем была заключена сделка? — спросил кардинал.
— Это секрет, монсеньер.
— Слишком много секретов, господин Бёмер.
И кардинал встал.
— Но, монсеньер…
— Я полагал, сударь, — продолжал кардинал, — что ювелир французского двора должен быть довольным, продав эти чудесные камни во Франции. Вы предпочитаете Португалию… Как вам угодно, господин Бёмер.
— Монсеньеру все известно! — воскликнул ювелир.
— Что же вы видите в этом удивительного?
— Но если монсеньеру все известно, значит, он узнал это не иначе как от самой королевы!
— А если бы и так? — спросил г-н де Роган, не оспаривая предположения, льстившего его самолюбию.
— О, это многое меняет, монсеньер.
— Объяснитесь, я не понимаю.
— Монсеньер позволит говорить совершенно свободно?
— Говорите.
— Так вот: королева хочет иметь наше ожерелье.
— Вы думаете?
— Мы уверены в этом.
— А в таком случае почему она не покупает его?
— Потому что она отказалась принять его от короля, а изменить свое решение, за которое ее величество слышала столько похвал, значило бы проявить каприз.
— Королева выше всяких толков.
— Да, когда дело идет о народе или о придворных. Но когда дело касается мнения короля…
— Король, как вам известно, собирался подарить королеве это ожерелье.
— Конечно; но он поспешил выразить королеве свою благодарность, когда она отказалась от него.
— Так что же вы заключаете из всего этого, господин Бёмер?
— Что королева желала бы иметь ожерелье, но так, чтобы казалось, что не она покупала его.
— Ну, вы ошибаетесь, — отвечал кардинал. — Дело вовсе не в этом.
— Очень жаль, монсеньер, потому что это единственная уважительная причина для нас нарушить слово, данное господину послу Португалии.
Кардинал задумался.
Как бы ни была искусна игра дипломатов, дипломатия купцов всегда ее превосходит… Прежде всего потому, что дипломат почти всегда торгуется о ценностях, которыми не обладает; купец же держит, сжимает в когтях желанную вещь, и купить ее у него, даже дорого, — почти то же, что ограбить его.
— Сударь, — сказал кардинал де Роган, видя, что находится во власти этого человека, — предполагайте, если хотите, что королеве желательно иметь это ожерелье.
— Это меняет все дело, монсеньер. Я могу нарушить все заключенные сделки, раз дело идет о том, чтобы отдать предпочтение королеве.
— За сколько вы продаете это ожерелье?
— За полтора миллиона ливров.
— Как должна быть произведена уплата?
— Португалец должен был уплатить мне задаток, а я отвез бы сам ожерелье в Лиссабон, чтобы получить остальную сумму.
— Такой способ уплаты у нас не практикуется, господин Бёмер, но задаток вы получите; конечно, в разумных пределах.
— Сто тысяч ливров.
— Их можно найти. А остальное?
— Ваше высокопреосвященство хотели бы отсрочки? — сказал Бёмер. — При поручительстве вашего высокопреосвященства это возможно. Но ведь отсрочка влечет за собой убыток, потому что, заметьте, монсеньер, при такой крупной операции цифры растут совершенно произвольно. Проценты на полтора миллиона ливров, считая по пяти на сто, составляют семьдесят пять тысяч ливров, а пять процентов равносильны разорению для нас, купцов. Десять процентов — вот самое меньшее, на что можно согласиться.
— Значит, по вашим подсчетам, это составило бы полтораста тысяч?
— Да, монсеньер.
— Договоримся, что вы продаете это ожерелье за миллион шестьсот тысяч ливров, господин Бёмер, и разделим уплату остальных полутора миллионов ливров на три взноса в годичный срок. Согласны?
— Монсеньер, мы теряем на такой сделке пятьдесят тысяч ливров.
— Не думаю, сударь. Если бы вам предстояло завтра получить полтора миллиона ливров, вы оказались бы в затруднительном положении: ювелир не покупает земель такой стоимости.
— Нас двое, монсеньер: мой компаньон и я.
— Согласен; но все равно вам будет гораздо удобнее получать по пятьсот тысяч ливров каждую треть года, то есть по двести пятьдесят тысяч ливров на каждого.
— Монсеньер забывает, что бриллианты не принадлежат нам. О, если бы они были наши, то мы были бы достаточно богаты для того, чтобы не беспокоиться ни о платежах, ни о размещении поступающих средств.
— А кому же они принадлежат?
— Чуть ли не десяти кредиторам: мы покупали эти камни по отдельности. За один мы должны в Гамбурге, за другой в Неаполе; за один в Буэнос-Айросе, за два в Москве. Наши кредиторы ждут продажи ожерелья, чтобы получить свои деньги. Только прибыль, которую мы получим, будет нашей собственностью. Но увы, монсеньер, с тех пор как это несчастное ожерелье находится в продаже, то есть вот уже два года, мы потеряли двести тысяч ливров в виде процентов. Судите же, в выигрыше ли мы?
Кардинал де Роган прервал Бёмера.
— Кстати, — сказал он, — ведь я еще не видел ожерелья.
— Правда, монсеньер, вот оно.
И Бёмер со всеми осторожностями показал драгоценное украшение.
— Великолепно! — воскликнул кардинал, с любовью дотрагиваясь до застежки, которая прикасалась к шее королевы.
Когда, наконец, его пальцы насытились поисками симпатических токов, которые могли остаться на камнях ожерелья, он сказал:
— Итак, сделка заключена?
— Да, монсеньер, и я сейчас же отправляюсь в посольство, чтобы взять назад свое слово.
— Я не знал, что в Париже сейчас находится португальский посол.
— Да, монсеньер; господин да Суза сейчас здесь: он приехал инкогнито.
— Для переговоров об этом деле, — сказал кардинал, смеясь.
— Да, монсеньер.
— О, бедный Суза! Я его хорошо знаю. Бедный Суза!
И кардинал снова расхохотался.
Господин Бёмер почел долгом присоединиться к веселью своего клиента.
И, глядя на футляр с ожерельем, они долго потешались над португальцем.
Господин де Роган собрался уезжать. Бёмер остановил его:
— Монсеньер, угодно ли вам будет сообщить мне, как мы будем производить расчет?
— Да очень просто.
— Через управляющего монсеньера?
— Нет, нет; никого, кроме меня. Вы будете вести дело только со мной.
— А когда?
— Завтра же.
— И сто тысяч ливров?..
— Я привезу их сюда завтра.
— Хорошо, монсеньер. А векселя?
— Я подпишу их здесь завтра.
— Прекрасно, монсеньер.
— И так как вы любите секреты, господин Бёмер, то хорошенько запомните, что в ваших руках находится один из важнейших.
— Монсеньер, я понимаю это и буду достоин вашего доверия, так же как и доверия ее величества королевы, — тонко добавил тот.
Господин де Роган покраснел и вышел, смущенный, но счастливый, как всякий человек, который разоряется под влиянием сильной страсти.
На другой день г-н Бёмер с важным видом отправился в португальское посольство.
В ту минуту как он собирался постучать в дверь, г-н де Босир, первый секретарь, принимал счета от г-на Дюкорно, правителя канцелярии, а дон Мануэл да Суза, посол, объяснял новый план действий своему сообщнику, камердинеру.
С тех пор как Бёмер посетил в последний раз улицу Жюсьен, здесь многое преобразилось.
Весь персонал, высадившийся, как мы видели, из двух почтовых карет, разместился в соответствии со степенью нужности каждого и теми функциями, которые предстояло ему выполнять в доме нового посла.
Надо сказать, что сообщники, поделив между собой роли, прекрасно ими разыгрываемые, собираясь вскоре их сменить, могли сами охранять свои интересы, что всегда придает бодрость духа, даже когда приходится исполнять самые тяжелые обязанности.
Господин Дюкорно, очарованный сообразительностью всех этих слуг, одновременно восхищался тем, что новый посол был так мало заражен национальными предрассудками, что набрал весь штат исключительно из французов, начиная с первого секретаря и кончая камердинером.
Вот почему, проверяя счета с г-ном де Босиром, он затеял разговор, восхваляя за это главу посольства.
— Видите ли, фамилия да Суза, — сказал Босир, — не принадлежит к тем закоснелым португальцам, которые придерживаются образа жизни четырнадцатого столетия: таких вы много встретите в наших провинциях. Да Суза — дворяне-путешественники с миллионным состоянием; они, если бы пожелали, могли бы стать где-нибудь королями.
— Но у них не появляется такого желания, — тонко заметил г-н Дюкорно.
— К чему им это, господин правитель канцелярии? Разве, обладая известным числом миллионов и знатным именем, они не равны королям?
— О, какое у вас философское мировоззрение, господин секретарь, — сказал с удивлением Дюкорно. — Я никак не ожидал услышать эти максимы равенства из уст дипломата.
— Мы составляем среди дипломатов исключение, — ответил Босир, досадуя на себя за вырвавшееся у него несвоевременное замечание. — Не будучи вольтерьянцами или армянами на манер Руссо, мы знакомы все-таки с философией и знаем о естественных теориях неравенства сословий и способностей людей.
— А знаете, — с жаром воскликнул правитель канцелярии, — все-таки счастье, что Португалия — небольшое государство!
— Почему это?
— А потому, что, имея таких лиц во главе правления, она очень скоро стала бы великой, сударь.
— О, вы льстите нам, дорогой правитель канцелярии. Нет, мы занимаемся философской политикой. Это красиво выглядит, но малоприменимо. Однако довольно об этом. Итак, вы говорите, что в кассе сто восемь тысяч ливров?
— Да, господин секретарь, сто восемь тысяч ливров.
— И никаких долгов?
— Ни денье.
— Вот образцовый порядок! Позвольте мне ведомость выдачи денег, пожалуйста.
— Вот она. А когда представление ко двору, господин секретарь? Должен вам сказать, что в квартале это стало предметом любопытства, бесконечных толков и, я бы сказал, чуть не беспокойства.
— А!
— Да, время от времени вокруг посольства прохаживаются люди, которые очень хотели бы, конечно, чтобы двери у нас были стеклянными.
— Люди?.. — спросил Босир. — Местные жители?
— И другие. Так как миссия у господина посла секретная, то вы понимаете, что полиция, наверное, сразу займется выяснением ее целей.
— Я тоже думал об этом, — сказал Босир, достаточно встревоженный.
— Посмотрите, господин секретарь, — сказал Дюкорно, подводя Босира к решетчатому окну, выходившему на срезанный угол одного из флигелей дома. — Посмотрите; видите ли вы на улице этого человека в грязном коричневом балахоне?
— Вижу.
— Как он смотрит сюда, а?
— Действительно. Кто это, как вы полагаете?
— Откуда мне знать… Может быть, шпион господина де Крона.
— Возможно.
— Между нами, господин секретарь, господин де Крон далеко уступает в способностях господину де Сартину. Вы знавали господина де Сартина?
— Нет, сударь, нет!
— О, тот десять раз уже разгадал бы вашу тайну. Правда, вы принимаете предосторожности.
В эту минуту раздался звонок.
— Господин посол зовет меня, — поспешно сказал Босир, которого этот разговор начинал несколько беспокоить.
И с силой распахнув дверь, он толкнул обеими ее створками двух сообщников, которые — один с пером за ухом, другой с половой щеткой в руке, ибо один был третьестепенным писцом, а другой лакеем, — находили разговор слишком продолжительным, чтобы не принять в нем участия, хотя бы подслушивая его.
Босир понял, что его подозревают, и обещал себе удвоить бдительность.
Он поднялся к послу, обменявшись втихомолку рукопожатием со своими приятелями и сообщниками.
XX
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ГОСПОДИН ДЮКОРНО ПЕРЕСТАЕТ ПОНИМАТЬ,
ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ
Дон Мануэл да Суза был менее желт, чем обыкновенно, то есть был более красен. Он только что имел с господином командором-камердинером неприятное объяснение.
Это объяснение еще не кончилось.
Когда Босир вошел, оба петуха продолжали вырывать друг у друга последние перья.
— В чем дело? — спросил секретарь, принимая позу третейского судьи и обменявшись взглядом с послом, своим естественным союзником.
— Вы знаете, — начал камердинер, — что сегодня придет господин Бёмер, чтобы покончить дело с ожерельем?
— Знаю.
— И что ему надо отсчитать сто тысяч ливров?
— Знаю и это.
— Эти сто тысяч ливров составляют собственность нашего товарищества, не так ли?
— Кто же в этом сомневается?
— Видите! Господин де Босир согласен со мной! — обратился командор к дону Мануэлу.
— Подождите, подождите! — сказал Португалец, жестом призывая его к терпению.
— Я согласен с вами лишь в том, что эти сто тысяч ливров принадлежат членам товарищества, — сказал Босир.
— Вот и все, мне больше ничего и не надо. В таком случае касса, в которой они лежат, не должна стоять в единственном помещении посольства, которое примыкает к спальне посла.
— Почему это? — спросил Босир.
— И господин посол, — продолжал командор, — должен дать каждому из нас ключ от этой кассы.
— Нет, этого не будет, — сказал Португалец.
— Почему?
— Да, почему? — переспросил Босир.
— Мне не доверяют, — сказал Португалец, поглаживая свой подбородок, — почему же и мне не быть недоверчивым по отношению к другим? Мне кажется, что если меня могут обвинять в намерении обокрасть товарищество, то и я могу подозревать товарищество в том же. Мы все друг друга стоим.
— Согласен, — сказал камердинер, — но именно потому наши права равны.
— Ну, любезнейший, если вы желали устанавливать здесь равенство, то вам надо было условиться, чтобы мы все по очереди играли роль посла. Это, возможно, выглядело бы менее правдоподобно в глазах публики, но зато все члены товарищества были бы спокойны. Вот и все, не так ли?
— И прежде всего, — вмешался Босир, — вы, господин командор, действуете не по-товарищески… Разве сеньор дон Мануэл не пользуется неоспоримым преимуществом как придумавший это дело?
— Да, — сказал посол, — и это преимущество разделяет со мной господин де Босир.
— О! — ответил командор, — пока дело не завершено, никто не придает значения никаким преимуществам.
— Согласен, но продолжают придавать значение способу действий, — сказал Босир.
— Я пришел заявить это требование не только от себя, — пробормотал несколько пристыженный командор, — все наши товарищи думают так же, как я.
— И они ошибаются, — ответил Португалец.
— Они ошибаются, — подтвердил Босир.
Командор поднял голову.
— Я сам, кажется, ошибся, спросив мнения господина де Босира, — с досадой заметил он. — Секретарь не мог не быть заодно с послом.
— Господин командор, — сказал Босир с удивительным спокойствием, — вы негодяй, которому я обрезал бы уши, если бы они у вас еще были, но их вам и так уже много раз обрезали.
— Что? — выпрямляясь, спросил командор.
— Здесь, в кабинете господина посла, нас не потревожат и мы можем покончить это дело с глазу на глаз. Итак, вы меня только что оскорбили, сказав, что я решил действовать заодно с доном Мануэлом.
— И оскорбили также меня, — холодно вставил Португалец, приходя на помощь Босиру.
— И за это придется ответить, господин командор.
— О, я не хвастун, как вы! — воскликнул тот.
— Я это вижу, — ответил Босир, — и поэтому вздую вас, командор.
— На помощь! — закричал командор, схваченный возлюбленным мадемуазель Олива и чуть не задушенный Португальцем.
Но в ту минуту как оба первых лица собирались мстить за себя, звонок внизу возвестил о прибытии посетителя.
— Оставим его, — сказал дон Мануэл.
— И пусть он исполняет свои обязанности, — продолжал Босир.
— Товарищи узнают об этом! — воскликнул командор, приводя себя в порядок.
— О! Говорите, говорите им что угодно: мы знаем, что им ответить.
— Господин Бёмер! — крикнул снизу швейцар.
— Ну вот и развязка всего дела, дорогой командор, — сказал Босир, давая своему противнику легкий подзатыльник.
— Нам не придется больше ссориться из-за этих ста тысяч ливров, так как они сейчас исчезнут вместе с господином Бёмером. Ну, ступайте служить, господин камердинер!
Командор с ворчанием вышел из комнаты и принял обычный скромный вид, собираясь ввести к послу придворного ювелира.
Пользуясь его отсутствием, Босир и Португалец обменялись взглядом, еще более многозначительным, чем первый.
Бёмер вошел в сопровождении Боссанжа. Оба выглядели смиренными и озадаченными, что не могло ускользнуть от зорких посольских наблюдателей.
Пока ювелиры усаживались по приглашению Босира, последний продолжал свои наблюдения и старался поймать взгляд дона Мануэла, чтобы обменяться впечатлениями.
Дон Мануэл сохранял официальное, полное достоинства выражение лица.
Бёмер, как человек решительный, первым начал трудный разговор.
Он объяснил, что политические причины величайшей важности не позволяют ему продолжить начатые переговоры.
Дон Мануэл вскрикнул.
Босир произнес: "Гм!"
Бёмер все более путался в словах.
Дон Мануэл велел ему передать, что сделка заключена и деньги для уплаты уже приготовлены.
Бёмер стоял на своем.
Посол, также через посредство Босира, ответил, что его правительство осведомлено или вот-вот будет осведомлено о заключенной сделке, что нарушение договора почти равносильно оскорблению ее величества португальской королевы.
Господин Бёмер заметил, что он взвесил все последствия этих соображений, но никак не может вернуться к своим прежним намерениям.
Босир, все еще не решаясь примириться с разрывом сделки, объявил Бёмеру прямо, что отказываться от слова недостойно честного купца, человека слова.
Тогда заговорил Боссанж, вступившись за оклеветанное в его лице и в лице его компаньона торговое сословие. Но он не выказал большого красноречия.
Босир заставил его замолчать единственной фразой:
— Вам набавили цену?
Ювелиры, которые были не очень сильны в политике и имели очень высокое мнение о дипломатии вообще и о португальских дипломатах в частности, покраснели, думая, что их мысли разгаданы.
Босир увидел, что удар его попал в цель, и так как для него очень важно было покончить с этим делом, которое сулило ему целое состояние, то он сделал вид, что совещается по-португальски с послом.
— Господа, — сказал он затем ювелирам, — вам предложили большую прибыль: это вполне естественно; это доказывает, что бриллианты очень ценны. Ну что же? Ее величество португальская королева не желает покупать их дешево в ущерб честным негоциантам. Угодно вам получить еще пятьдесят тысяч ливров?
Бёмер отрицательно покачал головой.
— Сто тысяч? Полтораста тысяч ливров? — продолжал Босир, решив, что может без всякой опасности для себя предложить еще хоть миллион, чтобы получить свою долю от полутора миллионов.
Ошеломленные ювелиры смутились на минуту, затем, посоветовавшись, сказали Босиру:
— Нет, господин секретарь, не трудитесь нас искушать… Сделка расторгнута, и воля, более могущественная, чем наша, заставляет нас продать ожерелье в этой стране. Вы, конечно, понимаете… Извините: это не мы отказываемся, и не сетуйте на нас за это. Препятствие исходит от лица более высокопоставленного, чем вы и мы.
Босир и дон Мануэл не нашли что возразить на это, Напротив, они даже сказали ювелирам какую-то любезность и постарались принять равнодушный вид.
Но этот разговор настолько поглотил их внимание, что они не заметили в передней командора-камердинера, который подслушивал у дверей.
Сей достойный сообщник был, однако, так неловок, что, наклонившись к двери, поскользнулся и упал, с шумом ударившись о филенку.
Босир бросился в переднюю и нашел бедного слугу в сильном испуге.
— Что ты тут делаешь, несчастный? — крикнул Босир.
— Я нес утреннюю почту, сударь, — ответил командор.
— Хорошо! — сказал Босир. — Иди.
И, взяв депеши, отослал командора.
Эти депеши составляли канцелярскую переписку посольства; это были письма из Португалии или Испании, в большинстве случаев совершенно незначительные, составлявшие предмет ежедневных трудов г-на Дюкорно; но, проходя через руки Босира или дона Мануэла, прежде чем попасть в канцелярию, они успевали снабдить обоих первых лиц полезными сведениями о делах посольства.
Услышав слово "депеши", ювелиры встали с облегчением, как люди, которые получили позволение удалиться после тягостной аудиенции.
Ювелиров отпустили, и камердинер получил приказание проводить их до двора.
Едва они сошли с лестницы, как дон Мануэл и Босир быстро обменялись взглядом из числа тех, что предшествуют быстрым действиям, и подошли друг к другу.
— Ну, — сказал дон Мануэл, — дело сорвалось.
— Окончательно, — подтвердил Босир.
— Из ста тысяч ливров — очень скромной добычи — каждому из нас приходится по восемь тысяч четыреста ливров.
— Игра не стоит свеч, — ответил Босир.
— Не правда ли? Между тем как здесь, в кассе… — и он показал на кассу, составляющую предмет столь сильных вожделений командора, — здесь, в кассе, сто восемь тысяч ливров.
— По пятьдесят четыре тысячи на каждого.
— На том и решим, — ответил дон Мануэл. — Разделим их пополам.
— Хорошо, но командор не отстанет от нас ни на минуту теперь, когда он знает, что дело не удалось.
— Я найду способ, — сказал многозначительно дон Мануэл.
— А я уже нашел его, — сказал Босир.
— Какой?
— Вот какой. Командор сейчас вернется?
— Да.
— И будет требовать доли для себя и товарищей?
— Да.
— И нам придется рассчитываться со всеми?
— Да.
— Позовем командора как будто бы для того, чтобы сообщить ему один секрет, и предоставьте остальное мне.
— Кажется, я догадываюсь, — сказал дон Мануэл. — Подите к нему навстречу.
— Я только что собирался попросить вас об этом.
Ни тот ни другой не хотел оставлять "друга" наедине с кассой. Доверие — редкая драгоценность.
Дон Мануэл ответил, что его положение посла не позволяет ему этого.
— Вы для него не посол, — заметил Босир. — Но все равно.
— Вы идете?
— Нет, я позову его из окна.
Действительно, Босир окликнул господина командора из окна; тот собирался уже вступить в разговор со швейцаром.
Командор, услышав зов, поднялся наверх.
Он нашел обоих первых лиц в комнате, смежной с той, где находилась касса.
Босир обратился к нему с улыбкой.
— Давайте биться об заклад, — сказал он, — что я знаю, о чем вы разговаривали со швейцаром.
— Я?
— Да. Вы ему рассказали, что дело с Бёмером сорвалось.
— Честное слово, нет.
— Вы лжете.
— Клянусь вам, нет.
— Тем лучше, так как если бы вы это сказали, то сделали бы весьма большую глупость и потеряли бы весьма кругленькую сумму.
— Как так? — с удивлением спросил командор. — Какую сумму?
— Вы, конечно, понимаете, что разговор с Бёмером известен только нам троим.
— Правда.
— И что поэтому мы трое имеем в своем распоряжении сто восемь тысяч ливров, поскольку все думают, что Бёмер и Боссанж унесли эту сумму.
— Черт возьми? — вне себя от радости воскликнул командор. — Это правда!
— Тридцать три тысячи триста тридцать три франка шесть су на каждого, — сказал дон Мануэл.
— Больше! Больше! — воскликнул командор. — Еще остается восемь тысяч ливров.
— Правда, — сказал Босир. — Вы согласны?
— Согласен ли я? — воскликнул, потирая руки, камердинер. — Еще бы! Вот что значит рассуждать дельно.
— Это значит рассуждать как негодяй! — крикнул громовым голосом Босир. — Ведь я вам говорил, что вы мошенник! Ну, дон Мануэл, вы такой сильный, возьмите-ка этого негодяя и выдадим его с головой нашим компаньонам.
— Пощадите! Пощадите! — завопил несчастный. — Я хотел пошутить!
— Нечего, нечего, — продолжал Босир, — спрячьте его в темную комнату в ожидании дальнейшего суда!
— Пощадите! — опять закричал командор.
— Осторожнее, — сказал Босир дону Мануэлу, который сдавил несчастного командора. — Берегитесь, как бы не услышал господин Дюкорно!
— Если вы меня не выпустите, — кричал командор, — я вас всех выдам!
— А я тебя задушу! — гневным голосом воскликнул дон Мануэл, толкая камердинера к расположенной рядом гардеробной. — Ушлите господина Дюкорно, — сказал он на ухо Босиру.
Тот не заставил повторять. Он поспешно прошел в комнату, смежную с комнатой посла, между тем как последний запирал командора в глухую темницу.
Прошла минута, Босир не возвращался.
У дона Мануэла мелькнула в голове мысль: он был один, касса в десяти шагах; открыть ее, взять из нее сто восемь тысяч ливров кредитными билетами, выскочить из окна и удрать через сад с добычей — на это всякому умелому вору требовалось всего десять минут.
Дон Мануэл рассчитал, что Босир потеряет не менее пяти минут на то, чтобы услать Дюкорно и вернуться.
Он бросился к двери комнаты, где стояла касса. Дверь эта оказалась запертой на ключ. Дон Мануэл был силен и ловок: он мог бы отпереть городские ворота ключиком от часов.
"Босир не доверяет мне, — подумал он, — потому что у меня одного есть ключ. Он запер дверь, и он совершенно неправ".
Дон Мануэл взломал замок двери острием шпаги, вошел в комнату и испустил страшный крик. Касса была похожа на широко разинутый беззубый рот. В ее зияющих недрах не было ничего!
Босир, запасшись вторым ключом, вошел через другую дверь и похитил все деньги.
Дон Мануэл как сумасшедший побежал в швейцарскую. Швейцар спокойно напевал что-то.
Босир опередил дона Мануэла на пять минут.
Когда Португалец своими криками и сетованиями оповестил весь дом о случившемся и, чтобы опереться на чье-то свидетельство, выпустил на свободу командора, то встретил только недоверие и озлобленность.
Его обвинили в том, что он подстроил все это вместе с Босиром, который убежал первый, унося половину суммы с собой.
Не было больше масок, не было больше тайн, и почтенный г-н Дюкорно перестал понимать людей, с которыми оказался связан. Он едва не лишился чувств, увидев, что эти дипломаты собираются повесить в каретном сарае дона Мануэла, совершенно беззащитного в их руках!
— Повесить господина да Суза? — кричал правитель канцелярии. — Но это же оскорбление величества. Берегитесь!
Было решено бросить его в подвал: он кричал слишком громко.
В эту минуту три торжественных удара в ворота заставили компаньонов задрожать.
Мгновенно воцарилось молчание.
Три удара повторились.
Затем резкий голос крикнул по-португальски:
— Именем господина посла Португалии отворите!
— Посол! — ужаснулись мошенники и в панике рассеялись по всему дому; через несколько минут они обратились в беспорядочное бегство кто через сады, кто через соседние стены, кто по крышам.
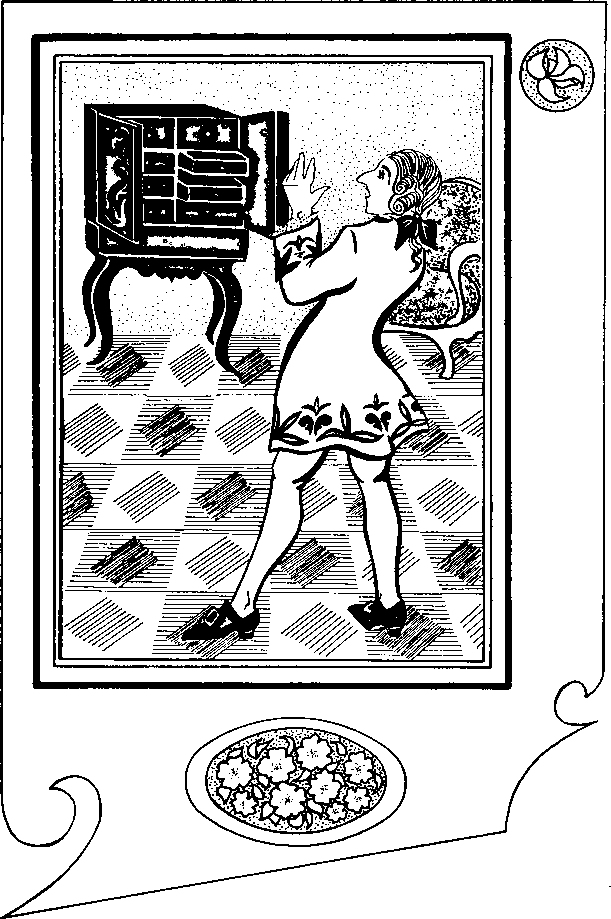
Настоящий посол, действительно только что прибывший в Париж, смог проникнуть к себе лишь при помощи вооруженных полицейских, которые выломали дверь в присутствии огромной толпы, привлеченной любопытным зрелищем.
Затем полицейские обшарили все вокруг и арестовали г-на Дюкорно; его препроводили в Шатле, где ему пришлось ночевать.
Так закончилось приключение с самозваным португальским посольством.
XXI
ИЛЛЮЗИИ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Если бы посольский швейцар побежал за Босиром, как ему приказывал дон Мануэл, то, надо сознаться, ему предстояла бы нелегкая работа.
Босир, выбравшись из вертепа, сразу пустился галопом по улице Кокийер и из нее по улице Сент-Оноре.
Опасаясь погони, он запутывал следы, бежал галсами по улицам, которые без всякого порядка и смысла опоясывают парижский Хлебный рынок. По прошествии нескольких минут он мог быть почти уверен, что никому не удалось проследить за ним, как и в том, что его силы истощены и что большего расстояния не пробежала бы и хорошая лошадь для охоты.
На улице Виарм, огибавшей рынок, Босир сел на мешок зерна и сделал вид, что с величайшим интересом разглядывает колонну Медичи, которую Башомон купил, чтобы спасти от молотка разрушителей, и подарил ратуше.
Но на самом деле г-н де Босир не смотрел ни на колонну г-на Филибера Делорма, ни на солнечные часы, которыми украсил ее г-н Пенгре. Он с трудом извлекал из глубины легких, точно из ослабевших кузнечных мехов, резкое и хриплое дыхание.
В течение нескольких мгновений ему не удавалось набрать воздуха, который надо было вытолкнуть из гортани, чтобы справиться с удушьем.
Когда ему это удалось, он так глубоко вздохнул, что его непременно бы услышали обитатели улицы Виарм, не будь они так поглощены продажей и взвешиванием зерна.
"О, — подумал Босир, — наконец-то моя мечта осуществилась и я богат!"
Он снова вздохнул.
"Теперь я могу стать вполне почтенным человеком; мне уже кажется, что я толстею".
И в самом деле, он если и не растолстел, то напыжился.
"Я сделаю из Олива, — продолжал он свой мысленный монолог, — такую же почтенную женщину, как я сам. Она красива, вкусы ее бесхитростны".
(Бедный Босир!)
"Ей не будет ненавистна уединенная жизнь в провинции, на красивой ферме, которую мы будем называть нашей землей, вблизи маленького городка, где легко можем сойти за важных господ.
Николь добра, у нее только два недостатка: леность и тщеславие".
(Только два недостатка! Бедный Босир! Два смертных греха!)
"И удовлетворив эти две ее слабости, я, Босир, человек сомнительной репутации, сделаю из нее идеальную жену для себя".
Он не стал продолжать; дыхание его успокоилось.
Он отер лоб, убедился, что сто тысяч ливров по-прежнему у него в кармане, и, отдохнув больше телом, чем духом, вновь принялся раздумывать.
На улице Виарм его не станут искать, но вообще искать будут. Господа из посольства не такие люди, чтобы с легким сердцем отнестись к потере своей доли в добыче.
Они разобьются на несколько шаек и прежде всего обследуют дом похитителя.
Тут главная загвоздка. В этом доме жила Олива. Ей расскажут обо всем, может быть, дурно обойдутся с нею. Как знать? Они способны довести свою жестокость до того, чтобы захватить ее в качестве заложницы.
Почему бы этим негодяям не знать, что мадемуазель Олива — возлюбленная Босира, а зная это, не спекулировать на его страсти?
Босир едва не сошел с ума, оказавшись на краю этих двух смертельных опасностей.
Но любовь одержала над ним верх.
Он не мог допустить, чтобы кто-нибудь прикоснулся к предмету его страсти, и как стрела пустился к дому на улице Дофины.
Впрочем, Босир безгранично доверял быстроте своего бега: его враги, как бы они ни были проворны, не могли опередить его.
К тому же он вскочил в фиакр и, показав кучеру экю в шесть ливров, сказал:
— К Новому мосту.
Лошади не бежали, а летели.
Уже вечерело.
Босир велел подвезти себя на площадку моста, за статуей Генриха IV. В те времена туда подъезжали в экипажах. Это было место свиданий — достаточно банальное, но обычное.
Осторожно высунув голову из-за занавески, он стал всматриваться в улицу Дофины.
Босир до известной степени приноровился к полицейским: он потратил десять лет, учась их распознавать, чтобы в нужное время и в нужном месте ускользать от них.
На спуске с моста, около улицы Дофины, он увидел двух людей, стоявших на некотором расстоянии друг от друга и вытягивающих шеи по направлению к этой улице, точно приглядываясь к чему-то.
Это были сыщики. Увидеть их на Новом мосту не было редкостью; пословица того времени гласила: "Кто хочет в любую минуту увидеть прелата, женщину легкого поведения и белую лошадь, тому стоит только пройти по Новому мосту".
А белые лошади, священнические сутаны и женщины легкого поведения всегда были предметом особого внимания со стороны господ полицейских.
Босир был смущен и раздосадован; он весь сгорбился и, хромая на обе ноги, чтобы изменить свою походку, пробрался через толпу на улицу Дофины.
На ней не было заметно ничего тревожного. Он уже видел издали дом, в окнах которого так часто показывалась его звезда, красавица Олив!
Окна были закрыты: без сомнения, она отдыхала на софе, читала какую-нибудь глупую книгу или грызла какое-нибудь лакомство.
Вдруг Босиру почудилось, что в проходе, прямо перед домом, мелькнул стеганый камзол полицейского стражника.
Мало того, другой солдат показался в окне его маленькой гостиной.
У Босира выступил пот на лбу — холодный пот, вредный для здоровья. Но отступать было поздно: надо было пойти к дому.
Босир собрался с духом и, проходя мимо, посмотрел на дом.
Какая картина представилась ему!
Весь проход был забит солдатами парижской полицейской стражи, и среди них находился сам комиссар из Шатле, весь в черном.
Эти люди, как сразу заметил Босир, имели смущенный, растерянный и разочарованный вид. Не у всех есть привычка читать на лицах полицейских; но когда такая привычка есть, как она была у Босира, то одного взгляда достаточно, чтобы догадаться, что у этих господ дело сорвалось.
Босир сказал себе, что г-н де Крон, несомненно предупрежденный — неважно как и кем, — хотел захватить Босира, а нашел одну Олива. Inde irae.
Конечно, они были разочарованы. При обычных обстоятельствах, не имея в кармане ста тысяч ливров, Босир бросился бы в середину альгвасилов и крикнул, как Нис: "Вот я! Вот я, тот, кто сделал все это!"
Но мысль, что эти люди получат его сто тысяч ливров и всю свою жизнь будут потешаться над ним, мысль, что смелая и ловкая проделка его, Босира, послужит на пользу одним только агентам начальника полиции, — эта мысль восторжествовала над всеми его, скажем так, сомнениями и заглушила огорчения любовника.
"Логика такова, — сказал он себе: — я дам схватить себя… Дам захватить сто тысяч ливров. И не помогу Оливе… Я буду разорен… Докажу ей, что люблю ее как безумный… И заслужу, чтобы она сказала мне: "Вы дурак; надо было меньше меня любить и спасти меня". Решительно, надо дать тягу и припрятать в безопасное место деньги, источник всего: свободы, счастья и философии".
С этими словами Босир прижал банковские билеты к сердцу и пустился бежать к Люксембургскому саду: он за этот час руководствовался только своим инстинктом, и так как ему сто раз приходилось ходить за Олива в этот сад, то ноги и понесли его туда.
Но для человека, столь упорного в логике, это было не очень разумно.
Действительно, полицейские, которым известны привычки воров, как Босиру были известны привычки полицейских, естественно должны были пойти на розыски Босира в Люксембургский сад.
Но Небо или дьявол решили, чтобы г-ну де Крону не удалось поймать Босира на этот раз.
Едва возлюбленный Николь завернул за угол улицы.
Сен-Жермен-де-Пре, как чуть не попал под великолепную карету, мчавшуюся к улице Дофины.
Босир едва успел благодаря проворству парижанина, недоступному остальным европейцам, избежать удара дышлом. Правда, ему не удалось избегнуть ругательств кучера и удара кнутом; но обладатель ста тысяч ливров не останавливался из-за пустяков вроде подобного дела чести, особенно когда за ним по пятам гонятся компаньоны с улицы Железной Кружки и полицейская стража города Парижа.
Итак, Босир бросился в сторону, но в эту минуту увидел в карете Олива и весьма красивого господина, занятых оживленным разговором.
Он слегка вскрикнул, что лишь еще более разгорячило лошадей. Он охотно побежал бы за каретой, но она ехала к улице Дофины, к той единственной парижской улице, на которой Босиру в эту минуту никак не хотелось оказаться.
И кроме того, если даже ему почудилось, что именно Олива сидела в карете, — это все-таки была иллюзия, галлюцинация, нелепость, ведь в глазах у него мутилось и двоилось.
А потом надо было взять в соображение, что Олива не могла быть в этой карете, поскольку полицейская стража арестовала ее дома, на улице Дофины.
Несчастный Босир, затравленный нравственно и физически, бросился по улице Фоссе-Месье-ле-Пренс в Люксембург, прошел весь уже опустевший квартал и, миновав заставу, нашел себе убежище в маленькой комнатушке, хозяйка которой выказывала ему всяческое уважение.
Он устроился на ночлег в этом чулане, спрятал банковские билеты под плитой пола, поставил на эту плиту ножку кровати и улегся весь в поту, отчаянно ругаясь; правда, его богохульства перемежались благодарностями Меркурию, а приступы лихорадочного отвращения ко всему — вливаниями подслащенного вина с корицей, напитка вполне пригодного, чтобы избавиться от испарины и вселить в сердце уверенность.
Он был уверен, что полиции уже не найти его. Он был уверен, что никто у него не отнимет его денег.
Он был уверен, что Николь, даже если ее арестовали, не виновна ни в каком преступлении и что прошло время беспричинных вечных заточений.
Он был уверен, наконец, что эти сто тысяч ливров послужат ему даже на то, чтобы освободить из тюрьмы Олива, свою неразлучную спутницу, если ее оставят там.
Оставались его сообщники из посольства; с ними труднее было свести счеты.
Но Босир придумал искусный ход. Он оставит их всех во Франции, а сам, как только мадемуазель Олива будет свободна, уедет в Швейцарию, страну свободную и нравственную.
Но ничто из того, о чем размышлял Босир, попивая горячее вино, не сбылось по его предвидениям: так было предначертано.
Человек почти всегда ошибается, воображая, что видит что-то, когда в действительности этого не видит. И он еще более ошибается, воображая, что не видел чего-то, когда на самом деле видел.
Мы сейчас поясним читателю это рассуждение.
XXII
ГЛАВА, В КОТОРОЙ МАДЕМУАЗЕЛЬ ОЛИВА НАЧИНАЕТ СПРАШИВАТЬ СЕБЯ,
ЧТО ЖЕ С НЕЙ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ
Если бы г-н де Босир доверился своим глазам, которые прекрасно видели, вместо того чтобы напрягать ум, который был у него затуманен, то он уберег бы себя от многих огорчений и разочарований.
Действительно, он видел в карете Олива, а рядом с нею человека, которого не узнал, взглянув на него мельком, но которого, без сомнения, узнал бы, если бы взглянул на него вторично. Олива, совершив, по своему обыкновению, утреннюю прогулку в Люксембургской саду, не вернулась в два часа к обеду, потому что ее встретил, заговорил с ней и стал задавать вопросы загадочный друг, с которым она познакомилась в день бала в Опере.
Действительно, в ту минуту, когда она, улыбаясь, расплачивалась с хозяином кофейни, где была постоянной клиенткой, к ней подошел появившийся из боковой аллеи Калиостро и взял ее под руку.
Она слегка вскрикнула.
— Куда вы идете? — спросил он.
— К себе, на улицу Дофины.
— Это будет очень на руку людям, ожидающим вас там, — ответил незнакомец.
— Людям… ожидающим меня..? Что это значит? Меня никто не ждет.
— О нет! Вас ждет дюжина посетителей.
— Дюжина посетителей! — со смехом воскликнула Олива. — Почему тогда уж не целый полк?
— Да если бы было возможно послать на улицу Дофины целый полк, он был бы там.
— Вы удивляете меня!
— Я удивлю вас еще больше, если позволю вам пойти на улицу Дофины.
— Почему это?
— Потому что вас там арестуют, милая моя.
— Арестуют?! Меня?
— Обязательно. Те двенадцать человек, что ждут вас, — стрелки, посланные господином де Кроном.
Олива вздрогнула: некоторые люди всегда боятся некоторых вещей.
Но она тотчас же овладела собой, более или менее старательно проверив свою совесть.
— Я ничего не сделала, — сказала она. — За что же меня могут арестовать?
— За что арестовывают женщин? За интриги, за пустяки.
— У меня нет интриг.
— Но, может быть, были?
— О, этого я не отрицаю.
— Ну, словом, эти господа, безусловно, не правы, собираясь вас арестовывать, но они хотят это сделать… Это несомненно. Так как же? Мы все-таки пойдем на улицу Дофины?
Олива остановилась, бледная и взволнованная.
— Вы играете со мной, как кот с бедной мышью, — сказала она. — Послушайте, если вы что-нибудь знаете, скажите мне. Не замешан ли тут Босир?
И она умоляюще взглянула на Калиостро.
— Весьма возможно. Я подозреваю, что его совесть далеко не так чиста, как ваша.
— Бедный малый!..
— Жалейте о нем, но если он попался, то не следуйте его примеру и не позволяйте, чтобы захватили и вас.
— Но что у вас за интерес покровительствовать мне? Что у вас за интерес заниматься мной? Право, — вызывающе продолжала она, — неестественно, чтобы такой человек, как вы…
— Не договаривайте, вы скажете глупость, а минуты дороги, так как агенты господина де Крона, видя, что вы не возвращаетесь, способны прийти за вами сюда.
— Сюда! Они знают, что я здесь?!
— Какая, подумаешь, трудная задача — узнать это! Ведь знаю же я! Итак, продолжаю. Если я интересуюсь вашей особой и желаю вам добра, то остальное вас не касается. Скорее, пойдемте на улицу Анфер. Моя карета ожидает вас там. А, вы еще колеблетесь?
— Да.
— Ну, в таком случае мы совершим довольно неосторожный поступок, но это, надеюсь, окончательно убедит вас. Мы проедем мимо вашего дома в моей карете, и когда вы увидите этих господ — не настолько близко, конечно, чтобы попасться им в руки, но настолько, чтобы судить об их планах, — то оцените по заслугам мои добрые намерения.
С этими словами он повел Олива к воротам, выходившим на улицу Анфер. Карета подъехала, Калиостро и Олива сели в нее и направились на улицу Дофины, к тому месту, где их увидел Босир.
Конечно, закричи он в этот миг, последуй за каретой, Олива сделала бы все возможное, чтобы приблизиться к нему, спасти его, если за ним гонятся, или спастись вместе с ним, если он свободен.
Но Калиостро заметил этого несчастного и отвлек внимание Олива, показав ей толпу, которая из любопытства собралась вокруг наряда полиции.
Как только Олива различила полицейских, вторгшихся в ее дом, она бросилась на грудь своему покровителю в порыве отчаяния, которое растрогало бы всякого другого, но не этого железного человека.
Он удовольствовался тем, что пожал руку молодой женщины и опустил штору, чтобы спрятать свою спутницу от любопытных.
— Спасите меня! Спасите меня! — повторяла между тем бедная Олива.
— Обещаю вам это, — сказал он.
— Но если вы говорите, что полиция все знает, то она всюду найдет меня.
— Нет, нет; в том месте, куда я вас спрячу, вас никто не найдет… Если они пришли арестовывать вас в вашем доме, то ко мне они не придут.
— О, — с ужасом воскликнула она, — к вам?.. Мы едем к вам?
— Вы с ума сошли! — ответил он. — Можно подумать, вы забыли, о чем мы с вами условились. Я не любовник ваш, красавица моя, и не хочу им быть.
— Значит, вы предлагаете мне тюрьму?
— Если вы предпочитаете больницу, то вы свободны в своем выборе.
— Ну, — испуганно сказала она, — я отдаюсь в ваши руки. Делайте со мной что хотите.
Калиостро отвез ее на улицу Нёв-Сен-Жиль, в дом, где, как мы видели, он принимал Филиппа де Таверне.
Здесь он устроил ее далеко от прислуги и чьих-либо взоров, в маленьком помещении на третьем этаже.
— Нужно, чтобы вы были более счастливой, чем будете здесь.
— Счастливой! Разве это возможно? — со стесненным сердцем спросила она. — Быть счастливой без свободы, без прогулки! Здесь так все уныло. Даже сада нет. Я умру здесь от тоски.
И она бросила кругом рассеянный взгляд, полный отчаяния.
— Вы правы, — сказал он, — я не хочу, чтобы вы терпели в чем-нибудь лишения… Вам здесь будет плохо, и к тому же мои люди в конце концов увидят вас и будут стеснять.
— Или продадут меня, — добавила она.
— Что касается этого, то не бойтесь… Моя прислуга продает только то, что я у нее покупаю, милое дитя мое. Но чтобы вы полностью обрели желанный покой, я постараюсь найти вам другое помещение.
Олива, по-видимому, немного утешилась этим обещаниям. К тому же обстановка новой квартиры понравилась ей. Она была удобна, здесь были занимательные книги.
— Я вовсе не хочу уморить вас, милое дитя, — сказал Олива ее покровитель, уходя. — Если вы пожелаете видеть меня, позвоните, и я явлюсь сейчас же, если буду у себя, или тотчас же по возвращении, если меня не будет дома.
Он поцеловал ей руку и собрался выйти.
— Ах, — воскликнула она, — главное, доставьте мне скорее известия о Босире!
— Это прежде всего, — ответил граф и запер ее в комнате.
"Поселить ее в доме на улице Сен-Клод будет святотатством, — сказал он себе в раздумье, спускаясь с лестницы. — Но надо, чтобы ее никто не видел, а там ее никто не увидит. Если же, наоборот, мне будет необходимо, чтобы одно лицо увидело ее, то оно может увидеть ее только в этом доме на улице Сен-Клод. Принесем еще и эту жертву. Потушим последнюю искру факела, ярко горевшего в былые дни".
Граф надел широкий плащ, взял в секретере ключи, выбрал из них несколько, на которые взглянул растроганно, и вышел из своего дома, направляясь один пешком по улице Сен-Луи-дю-Маре.
XXIII
ПУСТЫННЫЙ дом
Господин де Калиостро в одиночестве дошел до старинного дома на улице Сен-Клод, который, вероятно, не совсем забыт нашими читателями. Когда он остановился перед его воротами, уже стемнело и на бульваре виднелось всего несколько прохожих.
Цокот лошадиных копыт на улице Сен-Луи, громкий стук старых железных петель захлопнувшегося окна — вот и все звуки, раздававшиеся в этом мирном квартале в тот час, о котором мы говорим.
Собака лаяла, или, скорее, выла, в тесном дворике монастыря, и порыв прохладного ветра доносил до улицы Сен-Клод заунывный бой часов на церкви святого Павла, отбивавших три четверти.
Было без четверти девять.
Граф, как мы сказали, подошел к воротам дома, вынул из-под плаща толстый ключ и вставил его в замочную скважину, разминая скопившийся в ней за многие годы сор, нанесенный ветром.
Сухая соломинка, занесенная в стрельчатое отверстие скважины; маленькое семечко, летевшее на юг, чтобы превратиться в желтый левкой или мальву, и заточенное однажды в это темное вместилище; осколок камня, долетевший с соседней стройки; мошкара, в течение десяти лет размещавшаяся в этом железном приюте и в конце концов заполнившая своими тельцами его глубину, — все это скрипело и перемалывалось в пыль под давлением ключа.
Когда ключ завершил свое движение в замке, оставалось только открыть ворота.
Но время сделало свое дело. Дерево разбухло, ржавчина въелась в петли. Во всех промежутках между плитами выросла трава, и ее влажные испарения покрыли зеленью низ ворот; щели повсюду были словно проконопачены какой-то замазкой, наподобие той, из которой ласточки строят гнезда, и мощные заросли древесных грибов, этих наземных кораллов, скрывали доски под своей многолетней плотью.
Калиостро почувствовал, что ворота не уступают. Он надавил на них сначала кулаком, потом всей рукой, наконец, плечом, и проломил эту баррикаду, которая поддалась с недовольным треском.
Когда ворота раскрылись, перед взором Калиостро предстал печальный двор, заросший мхом, как заброшенное кладбище.
Он закрыл за собой ворота, и его шаги отпечатались на упрямом густом пырее, захватившем поверхность самих плит.
Никто не видел, как он вошел сюда, и никто не видел его за этими высокими стенами. Он мог остановиться на минуту и понемногу вернуться в свою прошлую жизнь, как он вернулся в этот дом.
Его жизнь была теперь пуста и безотрадна, а дом разрушен и необитаем.
Крыльцо, имевшее прежде двенадцать ступенек, сохранило в целости только три из них.
Остальные, подрытые работой дождевых вод, корней постенниц и захватчиков-маков, вначале расшатались, а затем откатились далеко от своих опор. Падая, плиты раскололись, а трава покрыла их обломки и гордо, точно знамена опустошения, распустила над ними свои султаны.
Калиостро взошел на крыльцо, качавшееся у него под ногами, и с помощью второго ключа проник в огромную переднюю.
Там только решился он зажечь фонарь, который предусмотрительно захватил с собой; но когда он, соблюдая все предосторожности, зажег свечу, зловещее дыхание дома сразу потушило ее. Веяние смерти мощно боролось против жизни: тьма убивала свет.
Калиостро снова зажег фонарь и продолжал свой путь.
В столовой поставцы почти потеряли свою первоначальную форму и едва удерживались на скользких плитах пола. Все двери в доме были открыты, давая возможность мыслям и взору свободно охватывать зловещую вереницу комнат, куда они уже впустили смерть.
Граф почувствовал, как по телу его пробежала дрожь: в конце гостиной, там, где некогда начиналась лестница, послышался какой-то шум.
Этот шум, прежде говоривший о присутствии дорогого для него существа, пробуждал во всех чувствах хозяина этого дома жизнь, надежду, счастье. Этот шум, ничего не означавший теперь, напоминал ему обо всем, что было в прошлом.
Калиостро, нахмурив брови, сдерживая дыхание, с похолодевшими руками, направился к статуе Гарпократа, около которой находилась пружина потайной двери — таинственного, неуловимого звена, соединяющего два дома: один — видимый для всех, другой — тайный.
Пружина действовала без труда, хотя источенная червями деревянная обшивка, поворачиваясь, дрожала. И едва граф поставил ногу на потайную лестницу, как снова послышался тот же странный шум. Калиостро вытянул вперед руку с фонарем, желая понять причину, и увидел большого ужа, медленно ползшего вниз по лестнице, хлеща хвостом по гулким ступеням.
Рептилия спокойно устремила на Калиостро свой черный глаз, затем спокойно скользнула в ближайшую дыру обшивки и исчезла.
Без сомнения, то был дух опустевшего дома.
Граф пошел дальше.
Всюду в этом подъеме вслед за ним шло воспоминание, или, вернее, шла тень минувшего; и всякий раз как свет обрисовывал на стене движущийся силуэт, граф вздрагивал, и ему казалось, что это не его тень, а кто-то посторонний, вставший из гроба, тоже намерен посетить это таинственное жилище.
Так, погруженный в раздумье, он дошел до чугунной доски камина, который служил проходом из оружейной комнаты Бальзамо в благовонное убежище Лоренцы Феличиани.
Стены были голы, комнаты пусты. Все так же зиял очаг, где покоилась огромная груда пепла, среди которого мерцало несколько крошечных золотых и серебряных слитков.
Этот тонкий пепел, белый и душистый, был тем, что осталось от обстановки Лоренцы — обстановки, которую Бальзамо сжег до последней частицы. То были шкафы с черепаховой отделкой, клавесин и ларец из розового дерева; дивная кровать, испещренная украшениями из севрского фарфора, от которого осталась слюдистая пыль, похожая на мельчайший мраморный порошок; то были чеканные и резные металлические украшения, расплавившиеся на сильном огне закрытой печи; то были занавески и обои из шелковой парчи; то были шкатулки из алоэ и сандалового дерева, чей резкий запах, вылетавший из труб во время пожара, наполнил благоуханием всю ту часть Парижа, над которой проносился дым, так что в течение двух дней прохожие поднимали головы, чтобы вдохнуть эти необычные ароматы, смешавшиеся с нашим парижским воздухом, и приказчик с Рынка или гризетка из квартала Сент-Оноре жили опьяненные этими неистовыми и пламенными атомами, которые бриз разносит по склонам Ливана и долинам Сирии.
Эти ароматы, говорим мы, еще хранила покинутая и холодная комната. Калиостро нагнулся, взял щепотку пепла и долго, с какой-то дикой страстью вдыхал его.
— Если бы я мог, — прошептал он, — так же впитать то, что осталось от души, когда-то общавшейся с тем, что стало этой золой!
Затем он окинул взором железные решетки, унылый двор соседнего дома и осмотрел с лестницы разрушительные следы пожара, уничтожившего верхний этаж этого потайного помещения.
Зловещее и прекрасное зрелище! Комната Альтотаса исчезла: от стены осталось только семь или восемь зубцов, которые во время пожара лизали огненные, всепожирающие языки, оставляя свой черный след.
Для всякого, кому даже не была известна грустная история Бальзамо и Лоренцы, невозможно было не пожалеть об этом разрушении. Все в этом доме дышало павшим величием, минувшим блеском, потерянным счастьем.
Калиостро между тем погрузился в свои думы. Этот человек сошел с высот своей философии, чтобы на миг возродить в себе ту частицу мягкой человечности, что зовется сердечными чувствами, чуждыми рассудочности.
Но, вызвав из уединения сладостные тени и отдав дань Небу, он решил на этом покончить счеты с человеческой слабостью. Вдруг взор его остановился на каком-то предмете, блеснувшем среди всего этого горестного разгрома.
Он нагнулся и увидел в щели паркета наполовину погребенную в пыли маленькую серебряную стрелку, которая, казалось, только что выпала из волос женщины.
Это была одна из тех итальянских шпилек, которыми тогдашние дамы любили закалывать локоны прически, становившейся слишком тяжелой от пудры.
Философ, ученый, пророк, презиравший человечество и хотевший, чтобы само Небо считалось с ним; человек, сумевший побороть столько душевных мук в себе и исторгший столько капель крови из сердец других, — Калиостро, атеист, шарлатан, насмешливый скептик, поднял эту шпильку, поднес ее к губам и, уверенный, что никто не может видеть его, позволил слезе появиться на глазах.
— Лоренца! — прошептал он.
И больше ничего. В этом человеке было что-то демоническое.
Он искал борьбы, и в ней было для него счастье.
Пылко поцеловав эту священную реликвию, он открыл окно, просунул руку через решетку и бросил хрупкий кусочек металла за ограду соседнего монастыря — на ветки, в воздух, в пыль, неведомо куда.
Он хотел этим наказать себя за то, что дал волю сердцу.
"Прощай! — сказал он крохотному предмету, терявшемуся, может быть, навсегда. — Прощай воспоминание, посланное мне для того, чтобы растрогать меня и, несомненно, ослабить мои силы. Отныне я буду думать только о земном.
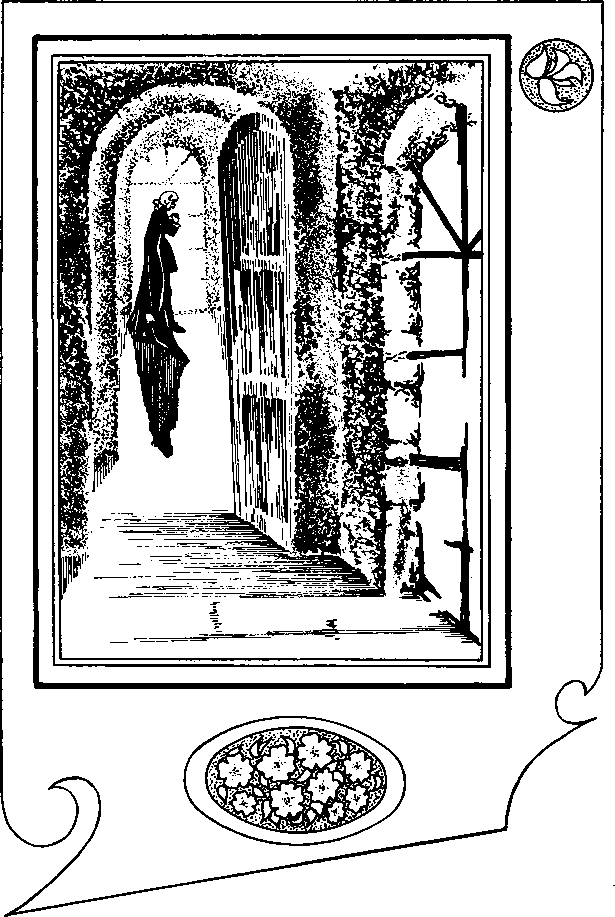
Да, этот дом будет осквернен. Что я говорю? Он уже осквернен! Я открыл эти двери, внес свет в эти стены, увидел внутренность гробницы, разрыл пепел смерти.
Поэтому дом осквернен! Пусть же он будет осквернен до конца и для какой-нибудь благой цели!
Другая женщина пройдет по этому двору, ступит ногой на лестницу, быть может, станет петь под этими сводами, где еще звучит последний вздох Лоренцы!
Пусть будет так. Но все эти святотатства совершатся ради одной цели — послужить моему делу. Если Бог здесь теряет, то Сатана только выигрывает".
Он поставил фонарь на лестницу.
— Эта лестничная клетка будет снесена, — сказал он. — Точно так же и все это внутреннее помещение. Тайна рассеется, дом останется скрытым убежищем, но перестанет быть святилищем.
Он наскоро набросал на листке записной книжки несколько слов:
"Господину Ленуару, моему архитектору.
Расчистить двор и вестибюли; поправить каретные сараи и конюшни; сломать внутренний павильон; снизить дом до трех этажей. Срок: неделя".
— Теперь, — сказал он, — посмотрим, хорошо ли видно отсюда окно милейшей графини.
И он подошел к окну на третьем этаже.
Отсюда глаз охватывал все фасады на противоположной стороне улицы Сен-Клод, возвышающиеся над воротами.
Напротив, не дальше как в шестидесяти футах, виднелось жилище Жанны де Ламотт.
— Это неизбежно: обе женщины увидят друг друга, — сказал Калиостро. — Прекрасно.
Он взял фонарь и спустился с лестницы.
Через час с небольшим он вернулся к себе и послал план работ архитектору.
Остается сказать, что на следующий день дом наполнился пятьюдесятью рабочими, молотки, пилы и кирки застучали повсюду; трава, сложенная в большую кучу, дымилась в углу двора; вечером, возвращаясь домой, прохожий, верный привычке к ежедневным наблюдениям, увидел, что большая крыса висит во дворе, повешенная за лапку под кружалом, а вокруг нее собрались каменщики и подручные, потешающиеся над седыми усами и почтенной полнотой своей жертвы.
Эта молчаливая обитательница дома сначала была заживо замурована в своей норе упавшей каменной плитой. Когда же плита была поднята лебедкой, то полумертвую крысу вытащили за хвост и отдали на потеху молодым овернцам — подручным каменщиков. От стыда или от удушья, но крыса тут же закончила свое существование.
А прохожий произнес над ней следующее надгробное слово:
— Вот кто был счастлив в течение десятилетия!
Sic transit gloria mundi.
Дом через неделю был восстановлен так, как приказал Калиостро архитектору.
XXIV
ЖАННА В РОЛИ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ
Кардинал де Роган получил через два дня после посещения Бёмера записку следующего содержания:
"Его высокопреосвященство господин кардинал де Роган, без сомнения, знает, где он будет ужинать сегодня вечером".
— От прелестной графини, — сказал он, понюхав листок. — Я поеду к ней.
Вот для чего г-жа де Ламотт попросила об этой встрече.
Из пяти лакеев, нанятых к ней на службу его высокопреосвященством, она выделила одного — черноволосого, кареглазого и, судя по цвету лица, сангвиника с изрядной примесью желчи. По мнению наблюдательницы, налицо были все признаки активной, смышленой и упорной натуры.
Она позвала его к себе и в какие-нибудь четверть часа вытянула из его послушания и его проницательности все, что хотела.
Этот человек проследил за кардиналом и донес Жанне, что видел, как его высокопреосвященство дважды за два дня ездил к господам Бёмеру и Боссанжу.
Теперь Жанна знала достаточно. Такой человек, как г-н де Роган, не станет торговаться; такие ловкие купцы, как Бёмер, не упустят покупателя. Ожерелье, должно быть, уже продано.
Продано Бёмером. Куплено г-ном де Роганом! А тот ни звуком не обмолвился о том своей поверенной, своей любовнице!
Это было серьезным знаком. Жанна наморщила лоб, закусила свои тонкие губы и написала кардиналу уже известную записку.
Господин де Роган приехал вечером. Но перед этим он отправил корзинку с токайским вином и разными гастрономическими редкостями, точно ехал на ужин к Гимар или к мадемуазель Данжевиль.
Эта деталь не ускользнула от Жанны, как и ничто не ускользало от нее; она нарочно не велела подавать к столу ничего из присланного кардиналом. Оставшись с ним наедине, она начала разговор в довольно нежном тоне.
— По правде говоря, меня очень огорчает одно, монсеньер, — сказала она.
— О, что именно, графиня? — спросил г-н де Роган с выражением подчеркнутой досады, которое не всегда служит признаком досады действительной.
— Вот в чем причина моей досады, монсеньер: я вижу… нет, речь не о том, что вы больше не любите меня, вы меня никогда не любили…
— Графиня, что вы говорите?!
— Не оправдывайтесь, монсеньер, это было бы потерянным временем.
— Для меня, — любезно подсказал кардинал.
— Нет, для меня, — резко возразила г-жа де Ламотт. — Да к тому же…
— О графиня… — начал кардинал.
— Не приходите в отчаяние, монсеньер: мне это совершенно безразлично.
— Люблю я вас или нет?
— Да.
— А почему же вам это безразлично?
— Да потому, что я вас не люблю.
— Знаете, графиня, то, что я имею честь слышать от вас, не очень любезно.
— Действительно, надо сознаться, что мы начинаем разговор не с нежностей. Это факт — признаем его.
— Какой факт?
— Что я вас никогда не любила, монсеньер, как и вы меня.
— О, что касается меня, то вы не должны говорить этого — воскликнул принц почти искренним тоном. — Як вам питал большую привязанность, графиня. Не мерьте меня той же меркой, как себя.
— Послушайте, монсеньер, будем уважать друг друга настолько, чтобы говорить правду.
— А в чем заключается эта правда?
— В том, что между нами есть связь, которая гораздо прочнее любви.
— Какая же именно?
— Выгода.
— Выгода?! Фи, графиня!
— Монсеньер, я вам скажу то же, что крестьянин-нормандец говорил своему сыну о виселице: "Если ты сам чувствуешь к ней отвращение, не отбивай охоту в других". Фи! Выгода! Как вы скоры на суждение, монсеньер.
— Ну, хорошо, послушайте, графиня: предположим, что мы оба имеем какой-нибудь расчет. Каким же образом я могу служить вашим интересам, а вы моим?
— Сначала и прежде всего, монсеньер, мне хочется упрекнуть вас.
— Упрекните, графиня.
— Вы выказали по отношению ко мне недостаток доверия и, следовательно, уважения.
— Я? Когда же это, помилуйте?
— Когда? Вы не станете отрицать, что, ловко выпытав от меня все подробности, которые мне смертельно хотелось сообщить вам…
— Подробности? О чем же, графиня?
— О желании некой высокопоставленной особы иметь одну вещь, и теперь у вас есть возможность удовлетворить это желание, не сказав мне ни слова.
— Выпытать подробности, угадать желание какой-то дамы иметь какую-то вещь, удовлетворить его! Графиня, вы положительно загадка, сфинкс. Я видел голову и шею женщины, но не видел еще львиных когтей. Вы, по-видимому, собираетесь теперь показать мне их? Ну что же, пусть будет так.
— О нет, я вам не буду ничего показывать, монсеньер, так как вы вовсе не желаете что-либо видеть. Я просто разъясняю вам загадку: подробности касались всего того, что произошло в Версале, некая дама — это королева, а удовлетворение ее желания — это покупка вами вчера у Бёмера и Боссанжа знаменитого ожерелья.
— Графиня! — прошептал кардинал, вздрогнув и побледнев.
Жанна устремила на него свой самый светлый взгляд.
— Ну что вы смотрите на меня так испуганно? Разве вы вчера не покончили дело с ювелирами на Школьной набережной?
Роганы не лгут, даже женщинам. Кардинал промолчал.
И так как он готов был покраснеть, а обиду такого рода мужчина никогда не прощает женщине, вызвавшей ее, то Жанна поспешила взять кардинала за руку.
— Простите меня, принц, — сказала она, — мне хотелось поскорее высказать вам, что вы ошибались на мой счет. Вы меня считали глупой и злой?
— О графиня…
— Но…
— Ни слова больше; позвольте теперь говорить мне. Может быть, мне удастся убедить вас, так как я сейчас ясно вижу, с кем имею дело. Я ожидал встретить в вас красивую, умную женщину, очаровательную любовницу, но нашел нечто лучшее. Слушайте.
Жанна подвинулась к кардиналу, оставив свою руку в его руке.
— Вы согласились быть моей, не любя меня. Вы сами сказали мне это, — продолжал г-н де Роган.
— И снова повторяю вам то же самое, — сказала г-жа де Ламотт.
— Значит, у вас была цель?
— Конечно.
— Какая же, графиня?
— Нужно, чтобы я объяснила вам ее?
— Нет, я сам близок к истине. Вы хотите устроить мое счастье. Не ясно ли, что, в случае удачи, моей первой заботой было бы устроить и вашу будущность? Верно это? Я не ошибся?
— Вы не ошиблись, монсеньер, и моя цель именно такова. Поверьте только одному, и без лишних слов: идя к этой цели, мне не пришлось испытать антипатии или отвращения — путь был приятен.
— Вы очаровательная женщина, графиня, и говорить с вами о делах — одно удовольствие. Итак, я сказал, что вы угадали верно. Вы знаете, что мое сердце полно почтительной привязанности к кому-то?
— Я это увидела на балу в Опере, принц.
— Эта привязанность всегда будет неразделенной. О, Боже меня сохрани думать иначе!
— Э, — возразила графиня, — женщина не всегда остается королевой, и, насколько я знаю, вы вполне стоите кардинала Мазарини.
— Это был к тому же очень красивый мужчина, — со смехом сказал г-н де Роган.
— И прекрасный первый министр, — добавила совершенно спокойно Жанна.
— Графиня, в вашем присутствии можно даже не думать, а не то что высказывать свою мысль вслух. Вы думаете и говорите за своих друзей. Да, я хочу стать первым министром. Все меня побуждает к этому: и мое происхождение, и знание дел, и известное расположение ко мне иностранных дворов, и значительная симпатия французского народа.
— Словом, все, — сказала Жанна, — кроме одного.
— Кроме отвращения одного лица, хотите вы сказать.
— Да, королевы; и это отвращение — главное препятствие. Все, что любит королева, в конце концов полюбит и король; что она ненавидит, того и он не терпит.
— А меня она ненавидит?
— О!
— Будем откровенны. Я не думаю, чтобы нам следовало останавливаться на прекрасном пути — говорить только правду.
— Ну, монсеньер, королева вас не любит.
— В таком случае я погиб! Никакое ожерелье тут не поможет.
— Вот в этом вы можете ошибиться, принц.
— Ожерелье куплено!
— По крайней мере, королева увидит, что если она не любит вас, то вы любите ее.
— О, графиня!
— Мы же условились, монсеньер, называть вещи своими именами.
— Хорошо. Так вы говорите, что не отчаиваетесь видеть меня когда-нибудь первым министром?
— Я уверена, что вы им будете.
— Я никогда не простил бы себе, если бы не спросил вас в свою очередь, к чему стремится ваше честолюбие.
— Я вам скажу это, принц, когда вы будете в состоянии удовлетворить его.
— Разумно. Я жду вас в тот же день.
— Благодарю. А теперь давайте ужинать.
Кардинал взял руку Жанны и пожал ее так, как графиня того горячо желала несколько дней тому назад. Но теперь было слишком поздно.
Она отняла руку.
— Что это значит, графиня?
— Давайте ужинать, монсеньер, я уже сказала вам.
— Но я уже не голоден.
— Тогда будем беседовать.
— Но мне больше нечего сказать вам.
— Ну так расстанемся.
— Вот что вы называете нашим союзом? Вы меня прогоняете?
— Чтобы действительно принадлежать друг другу, монсеньер, — ответила Жанна, — будем вполне принадлежать сами себе.
— Вы правы, графиня; простите, что я опять ошибся в вас. О, клянусь вам, что это будет в последний раз.
Он почтительно поцеловал ее руку и не заметил насмешливой, дьявольской улыбки графини, когда говорил, что в последний раз ошибся в ней.
Жанна встала и проводила принца до передней. Там он остановился и тихо спросил ее:
— А продолжение, графиня?
— Оно будет очень простое.
— Что мне делать?
— Ничего. Подождите меня.
— А вы поедете?
— В Версаль.
— Когда?
— Завтра.
— И я получу ответ?
— Немедленно.
— Ну, моя покровительница, я полагаюсь на вас.
— Предоставьте мне действовать.
Она вернулась с этими словами к себе и легла в постель, рассеянно устремив взор на красавца Эндимиона, ожидавшего Диану.
"Положительно, свобода лучше", — прошептала она.
XXV
ЖАННА В РОЛИ ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕМОЙ
Владея такой тайной и имея перед собой такое блестящее будущее, Жанна чувствовала в себе достаточно силы, чтобы перевернуть мир.
Она дала себе двухнедельный срок, чтобы затем полностью вкусить сочную гроздь, которую фортуна повесила у нее над головой.
Являться ко двору уже не в качестве просительницы или бедной нищенки, которую приютила г-жа де Буленвилье, а носительницей имени Валуа, обладательницей ста тысяч ливров годового дохода, женой герцога и пэра; называться фавориткой королевы; в эти полные интриг и бурь дни править государством, управляя королем через Марию Антуанетту, — вот вкратце панорама, развертывавшаяся перед неиссякаемым воображением графини де Ламотт.
Едва наступил день, она помчалась в Версаль. У нее не было приглашения на аудиенцию; но она стала так верить в свою удачу, что уже не сомневалась: этикет смирится перед ее желанием.
И она не ошиблась.
Все дворцовые служители, столь сильно озабоченные, как бы лучше угодить вкусам повелителей, уже заметили удовольствие, которое доставляло Марии Антуанетте общество красивой графини.
Этого было достаточно, чтобы по приезде ее один умный и желавший выдвинуться привратник встал на пути королевы, возвращающейся из часовни, и как бы невзначай громко сказал дежурному придворному:
— Сударь, как быть с госпожой графиней де Ламотт-Валуа, у которой нет приглашения на аудиенцию?
Королева тихо разговаривала с г-жой де Ламбаль. Имя Жанны, столь ловко названное этим человеком, заставило ее прервать разговор.
Она обернулась.
— Кто-то сказал, что здесь госпожа де Ламотт-Валуа? — спросила она.
— Кажется, что так, ваше величество, — ответил придворный.
— Кто это сказал?
— Вот этот привратник, ваше величество.
Привратник почтительно поклонился.
— Я приму госпожу де Ламотт-Валуа, — сказала королева, продолжая свой путь. — Вы ее проведете в ванную, — прибавила она, удаляясь.
Королева ушла.
Жанна, которой привратник откровенно рассказал, как он просто все устроил, тотчас же взялась за кошелек, но привратник остановил ее с улыбкой:
— Госпожа графиня, пусть этот долг останется за вами; вы вскоре сможете возвратить мне его с большими процентами.
Жанна спрятала деньги в карман.
— Вы правы, друг мой, благодарю вас.
"Почему бы, — сказала она себе, — не оказать покровительство привратнику, который оказал покровительство мне? Ведь делаю я то же самое для кардинала".
Вскоре Жанна оказалась перед лицом своей королевы.
Мария Антуанетта была серьезна и, по-видимому, не в особенно хорошем расположении духа, может быть, именно потому, что оказывала графине слишком большую милость этим непредвиденным приемом.
"Вот в чем суть, — подумала подруга г-на де Рогана, — королева воображает, что я буду опять просить милостыню. Но не успею я сказать двух десятков слов, как она или перестанет хмуриться, или велит меня прогнать".
— Сударыня, — начала королева, — я еще не имела случая поговорить с королем.
— О ваше величество, вы и так были слишком добры ко мне, и я не жду ничего более. Я пришла…
— Зачем? — спросила королева, умевшая улавливать переход от одной мысли к другой. — Вы не просили у меня аудиенции. Вероятно, что-то срочное… для вас?
— Срочное… да, но дело не во мне.
— Значит, во мне. Ну, говорите, графиня.
И королева повела Жанну в ванную, где ждали ее прислужницы.
Графиня, видя, сколь велико окружение королевы, не начинала разговор.
Сев в ванну, королева отпустила своих приближенных.
— Ваше величество, — сказала Жанна, — видите ли, я в большом затруднении.
— Почему? Ведь я только что вам сказала…
— Вашему величеству известно — я, кажется, говорила вам, — с какой сердечной добротой помогает мне господин кардинал де Роган?
Королева нахмурила брови.
— Я ничего не знаю об этом, — сказала она.
— Я полагала…
— Все равно… Говорите.
— Ваше величество, третьего дня его высокопреосвященство оказал мне честь своим посещением.
— А!
— Он приехал по поводу одного благотворительного учреждения, председательницей которого состою я.
— Прекрасно, графиня, прекрасно. Я также дам… на ваше доброе дело.
— Ваше величество ошибаетесь. Я имела уже счастье сказать вам, что ничего не прошу. Господин кардинал, по своему обыкновению, стал говорить мне про доброту королевы, про ее неисчерпаемое милосердие.
— И просил, чтобы я покровительствовала тем, кому он покровительствует?
— Прежде всего, ваше величество.
— Я это сделаю, но не для господина кардинала, а для несчастных, которым я всегда готова помочь, от чьего бы имени они ко мне ни явились. Однако скажите его высокопреосвященству, что я очень стеснена в средствах.
— Я это сказала ему, ваше величество, и в этом-то, увы, кроется причина затруднения, о котором я докладывала вашему величеству.
— А!
— Я рассказала господину кардиналу, каким пламенным состраданием наполняется сердце вашего величества при известии о чьем-либо несчастье, с каким великодушием королева постоянно опустошает свой кошелек, сама не имея избытка в деньгах.
— Прекрасно, прекрасно….
— "Вот вам пример, монсеньер, — сказала я ему. — Ее величество становится рабой своей собственной доброты. Она жертвует собой ради бедных. Добро, которое она творит, обращается для нее лично во зло". При этом я указала на себя.
— Как так, графиня? — спросила королева, внимательно слушавшая Жанну то ли потому, что та сумела угадать слабую струнку королевы, то ли потому, что Мария Антуанетта, с ее недюжинным умом, поняла: под этим длинным предисловием и под этими подготовительными фразами таится нечто весьма для нее интересное.
— Я ему сообщила, ваше величество, что несколько дней назад вы дали мне значительную денежную сумму и что подобные вещи вашему величеству случалось делать, по крайней мере, тысячу раз за эти два года. Будь королева менее отзывчива, менее великодушна, сказала я, у нее было бы в шкатулке два миллиона, и тогда никакие соображения не могли бы помешать ей приобрести то великолепное ожерелье, от которого она отказалась так благородно, так мужественно, но — позвольте мне заметить, ваше величество, — так неоправданно.
Королева покраснела и снова взглянула на Жанну. Несомненно, эти заключительные слова были самыми важными из сказанного. Не было ли в них какой-нибудь западни? Или это была только лесть? Бесспорно, если вопрос ставится так, то уже в нем самом неизбежна опасность для любой королевы. Но ее величество прочла на лице Жанны столько кротости, чистосердечной доброжелательности, безупречной правдивости, что невозможно было заподозрить вероломство или лесть.
А так как душа самой королевы была полна истинного великодушия — в великодушии всегда заключается сила, а с силой же нераздельна и истина, — то Мария Антуанетта не могла удержать вздоха.
— Да, — сказала она, — ожерелье великолепно, то есть было великолепно, хочу сказать, и я очень рада, что женщина с изящным вкусом хвалит меня за то, что я отказалась от этой драгоценности.
— Если бы вы знали, ваше величество, — воскликнула Жанна, найдя случай вставить нужное слово, — как, в конце концов, нетрудно разгадать чувства людей, когда сам чувствуешь расположение к тем, кого эти люди любят!
— Что вы хотите сказать?
— Я хочу сказать, ваше величество, что, узнав о вашем самоотверженном отказе от ожерелья, господин де Роган — я это видела — побледнел.
— Побледнел?
— Его глаза сразу наполнились слезами. Не знаю, ваше величество, действительно ли господин де Роган такой красивый мужчина и образованный вельможа, как говорят многие, но я знаю, что выражение его лица, озаренного в тот миг сиянием его души, залитого слезами, что были вызваны вашим великодушным бескорыстием, — да что я говорю! — вашей высокой самоотверженностью, никогда не изгладится в моей памяти.
Королева на минуту остановила воду, бежавшую из клюва золоченого лебедя, украшавшего ее мраморную ванну.
— Ну, графиня, — сказала она, — если господин де Роган показался вам таким прекрасным и совершенным, как вы только что сказали, то я советую не показывать ему этого. Это светский прелат, пастырь, который вербует овец в свое стадо столько же для себя самого, сколько во имя Господа.
— О ваше величество…
— А что? Разве я клевещу на него? Разве не такова его репутация? И не гордится ли он ею? Разве вы не видели, как, совершая богослужение в торжественные дни, он поднимает над головой свои руки, действительно очень красивые, чтобы они казались еще белее? Не видели, как набожные дамы устремляют на его руки со сверкающим пастырским перстнем свои глаза, которые горят при этом еще ярче, чем бриллиант на руке кардинала?
Жанна опустила голову.
— Победы кардинала, — запальчиво продолжала королева, — многочисленны. Некоторые вызвали настоящий скандал. Это прелат-волокита, какие были во времена Фронды. Пусть его хвалит за это кто хочет, но я этого не сделаю.
— Ну, ваше величество, — заметила Жанна, ободренная этим дружеским тоном, а также состоянием чисто физического удовольствия, в котором находилась ее собеседница, — не знаю, думал ли господин кардинал о своих прихожанках в то время, как с таким пылом говорил мне о добродетелях королевы; знаю только, что его красивые руки, вместо того чтобы быть поднятыми над головой, были прижаты к сердцу.
Королева покачала головой и принужденно рассмеялась.
"Вот так-так! — подумала Жанна. — Не обстоит ли дело лучше, чем мы полагали? Не станет ли досада нашей помощницей? Тогда нам будет совсем просто".
Королева снова приняла равнодушный, полный достоинства вид.
— Продолжайте, — сказала она.
— Ваше величество своей холодностью сковывает мне язык; эта скромность, заставляющая вас отвергать даже похвалу…
— Кардинала? О да!
— Но почему же ваше величество?
— Потому, что она мне кажется подозрительной, графиня.
— Я не смею, — ответила Жанна тоном глубочайшего почтения, — защищать того, кто имел несчастье впасть в немилость вашего величества. Кардинал, ни на минуту не сомневаюсь, очень виновен, если не угодил королеве.
— Господин де Роган не угодил мне? Он меня просто оскорбил. Но я королева и христианка и, следовательно, вдвойне обязана забывать обиды.
Королева произнесла эти слова с величественной добротой, свойственной ей одной.
Жанна промолчала.
— Вы ничего больше не имеете сказать мне?
— Я могу разбудить подозрение ее величества, подвергнуться немилости и неодобрению, если выскажу мнение, несогласное с вашим.
— Ваше мнение о кардинале противоположно моему?
— Совершенно, ваше величество.
— Вы не говорили бы этого, если бы однажды узнали, как враждебно поступал по отношению ко мне принц Луи.
— Я знаю только то, что видела — его поступки, которыми он желал служить вашему величеству.
— Любезности?
Жанна молча поклонилась.
— Учтивости, пожелания, комплименты? — продолжала королева.
Жанна промолчала.
— Вы чувствуете горячую дружбу к господину де Рогану, графиня; я не буду больше нападать на него при вас.
— Ваше величество, — сказала Жанна, — мне было приятнее видеть ваш гнев, чем эти насмешки. Чувства господина кардинала к вашему величеству полны такой почтительности, что он, я уверена, умер бы, если бы видел, что королева смеется над ним.
— О, значит, он очень переменился.
— Ваше величество недавно соблаговолили сами сказать мне, что уже десять лет господин де Роган страстно…
— Я шутила, графиня, — строго перебила ее королева.
Жанна, принужденная замолчать, решилась, как показалось королеве, отказаться от дальнейшей борьбы. Но Мария Антуанетта глубоко ошибалась. Для таких женщин, как Жанна, с натурой тигра и змеи, момент, когда они отступают, лишь прелюдия к нападению: сосредоточенная неподвижность предшествует броску.
— Вы говорили об этих бриллиантах, — неосторожно сказала королева. — Сознайтесь, что вы думали о них?
— Днем и ночью, ваше величество, — подхватила Жанна с радостью полководца, который замечает роковую ошибку неприятеля. — Они так прекрасны и так пойдут вашему величеству!
— Как?
— Да, да, вашему величеству.
— Но они проданы!
— Да, проданы.
— Португальскому послу?
Жанна слегка покачала головой.
— Нет? — радостно спросила королева.
— Нет, ваше величество.
— Кому же?
— Их купил господин де Роган.
Королева сделала порывистое движение, но тотчас же сдержалась.
— А! — сказала она.
— Ваше величество, — сказала Жанна с жаром и увлечением, — поступок господина де Рогана прекрасен. Это великодушный, добросердечный порыв. Кардиналом руководило благородное побуждение. Душа, подобная вашей, не может не сочувствовать всему доброму и великодушному. Как только господин де Роган узнал — от меня, сознаюсь, — о временном финансовом затруднении вашего величества, он воскликнул: "Как! Французская королева отказывает себе в том, от чего не решилась бы отказаться жена генерального откупщика? Как! Королеве, чего доброго, в один прекрасный день придется увидеть госпожу Неккер, украшенную этими бриллиантами?"
Господин де Роган еще не знал, что их хочет купить португальский посол. Я сообщила ему это. Его негодование еще больше возросло.
"Дело, — сказал он, — уже не в том, чтобы доставить удовольствие королеве: дело в королевском достоинстве… Я знаю дух тщеславия и суетности, царящий при иностранных дворах; там станут смеяться над французской королевой, у которой уже нет денег для удовлетворения вполне законного желания. И я потерплю, чтобы насмехались над французской королевой? Нет, никогда!"
И он поспешно вышел. Час спустя я узнала, что он купил бриллианты.
— За полтора миллиона ливров?
— За миллион шестьсот тысяч ливров.
— Зачем же он купил их?
— Им руководила та мысль, что если они не могут принадлежать вашему величеству, то, по крайней мере, никогда не будут собственностью никакой другой женщины.
— И вы уверены, что господин де Роган купил их не для того, чтобы преподнести их какой-нибудь своей любовнице?
— Я уверена, что он скорее уничтожит эти камни, но не допустит, чтобы они блестели на шее какой-нибудь другой женщины, кроме королевы.
Мария Антуанетта задумалась, и на ее благородном лице можно было безошибочно прочесть все, что творилось в ее душе.
— То, что сделал господин де Роган, прекрасно, — сказала она. — Это благородный поступок, доказывающий деликатность и преданность.
Жанна жадно впитывала эти слова.
— Поблагодарите от меня господина де Рогана, — продолжала королева.
— О да, ваше величество!
— И прибавьте, что я получила доказательство его дружбы, и я, как порядочная женщина, — если выразиться словами Екатерины, — принимаю его дружбу и считаю себя обязанной отплатить за нее. Поэтому я принимаю не подарок господина де Рогана…
— А что же?
— Его ссуду. Господин де Роган, чтобы доставить мне удовольствие, пожелал ссудить меня деньгами или служить мне своим кредитом. Я рассчитаюсь с ним. Бёмер, кажется, спрашивал известную сумму наличными?
— Да, ваше величество.
— Сколько? Двести тысяч ливров?
— Двести пятьдесят тысяч ливров.
— Это содержание, которое дает мне король, за три месяца. Мне сегодня прислали его — правда, раньше срока, я знаю, — но так или иначе прислали.
Королева поспешно позвала своих прислужниц, которые одели ее, окутав предварительно нагретым тонким батистом.
Оставшись в своей комнате наедине с Жанной, королева сказала ей:
— Откройте этот ящик, прошу вас.
— Первый?
— Нет, второй. Видите там бумажник?
— Вот он, ваше величество.
— В нем двести пятьдесят тысяч ливров. Пересчитайте их.
Жанна повиновалась.
— Отвезите их кардиналу. Еще раз поблагодарите его. Скажите ему, что я постараюсь устроить свои дела так, чтобы платить ему по столько же каждый месяц. Мы также определим размер процентов. Таким образом, у меня будет ожерелье, которое мне так нравилось, и если мне придется стеснить себя немного, чтобы расплатиться за него, то, по крайней мере, я не стесню короля.
Она с минуту молчала, точно что-то обдумывая.
— И кроме того, я получу ту выгоду, что буду знать, — продолжала она, — что у меня есть деликатный друг, оказавший мне услугу.
Она снова остановилась.
— И приятельница, которая угадала мое желание, — закончила она, подавая Жанне руку, которую та бросилась целовать.
Затем, когда Жанна собралась уходить, королева после некоторого колебания сказала совсем тихо, как будто боялась собственных слов:
— Графиня, передайте господину де Рогану, что он будет желанным гостем в Версале и что я хочу выразить ему свою благодарность.
Жанна выбежала из апартаментов королевы не просто опьянев, но обезумев от восторга и удовлетворенной гордости.
Она прижала к груди банковские билеты, как гриф — похищенную добычу.
Назад: XIII ПРИНЦЕССА ДЕ ЛАМБАЛЬ
Дальше: XXVI БУМАЖНИК КОРОЛЕВЫ

